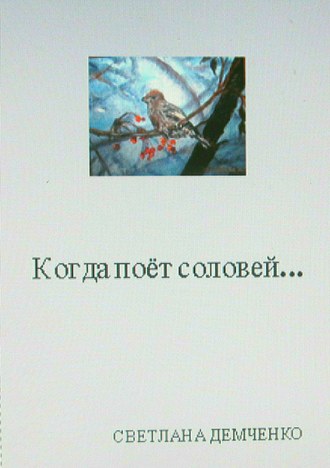
Светлана Андреевна Демченко
Когда поёт соловей…
7
Признание
В кабинет Главного редактора постучали.
– Можно. Заходите,– не отрываясь от просматриваемого текста, разрешила Евгения Ткачева.
– Можно? – робко просунулась в проеме открываемой двери девичья голова.
– Можно, можно.
– Здравствуйте.
– Здравствуйте,– отозвалась редактор.– С чем пожаловали?
Перед ней стояла девушка лет шестнадцати, вся конопатая какая-то. Даже светлое платье в коричневый горошек как-то органично дополняло ее образ. Лицо было юное, скуластое, глаза необыкновенного огня, голубые, огромные. Казалось, что солнышко над ней подшутило, окрасив волосы в ярко-рыжий цвет и разбросав по лицу множество темно-золотистых пятнышек. Девушка была налита до краев молодостью и невысказанным задором. Взгляд пытливый. В руках она держала свернутые в трубочку листы бумаги.
– Проходи, садись. Смелее, с чем пришла? Рассказывай.
– С "Признанием"…
– Что?! С каким еще таким признанием?
– В любви,– лицо посетительницы стыдливо залилось румянцем, словно маков цвет.
– В любви? И кому же?– уже не без интереса спрашивала журналистка.
– Вам и всем.
– Мне?! Батюшки мои! Такого еще не было! Ты же меня совсем не знаешь!
– Вы не так поняли. Вот возьмите. Я написала статью в газету и прошу, чтобы ее напечатали. Она так и называется "Признание". Я тут всем признаюсь в любви.
– Интересно. Ты еще школьница?
Золотистые волосы, ресницы, сияющие, как лучики света, и окруженные этими ресницами беспокойные глаза, казалось, отвечали вместо неё.
– В десятом классе учусь. Хочу стать журналистом.
– Вот оно что. Ну, давай, посмотрю, что там у тебя.
Взяв из рук девушки листы бумаги, Евгения расправила их и, пробежав глазами первые строки, внутренне почувствовала "вкус". Профессионалы поймут, о чем идет речь, когда первая же строка тебе говорит об авторе, его искренности, когда появляется
ощущение, что слово в тексте живет, оно не мертвое, в нём есть температура.
Пока она читала, девчонка не сводила с редактора глаз, словно хотела по лицу прочесть уготованное ей решение.
– Как тебя зовут?
– Лена.
– Вот что, Елена, пойди к секретарю и зарегистрируй свою работу.
– А потом вам занести ее?
– Нет, оставь у секретаря. Я распоряжусь, что и как.
– Значит, Вы напечатаете?– обрадовалась девушка.
– С материалом будут работать журналисты из отдела писем… У нас там рубрика есть "Творчество наших читателей". Сейчас я тебе ничего конкретного не скажу. Возьми в приемной визитку редакции и позвони дня через два-три.
– Спасибо.
– Пока не за что.
Когда дверь за посетительницей закрылась, Евгения задумалась. Почему-то вспомнила себя, когда вот такой же девчушкой пробовала писать рассказы, даже рассылала их в редакции, как огорчалась от отписок и отказов, как обрадовалась первой публикации…
«Нет, что-то в этом необычном "Признании" есть, ведь всколыхнуло внутри, не могу отвязаться. Но что?! Наивный роздых мысли?».
Евгения встала из-за стола. Утро, теряя свой смысл, явно заканчивалось. За окном царила светлая бледность. Казалось, она замерла, прислушиваясь к начинающемуся дневному смятению жизни. Город уже почти не светился, огни не танцевали, и, в основном, все были погашены. Наступил один из обычных дней, тех, что равен другим, равнодушный и безотрадный к людям, стремящийся поддерживать равновесие в природе, подобно одинокому кленовому листу, парящему под легкими дуновениями ветерка над головой.
– Дзинь,– дала о себе знать синичка. Ей радостно откликнулась другая; и зазвенели две струны… Ворона, откуда ни возьмись, вклинилась в их песню и осипло каркнула, будто подавилась.
Редактор набрала номер секретаря и спросила:
– Слушай, Виктория, эта девушка уже ушла? А ну-ка принеси мне ее материал, я еще раз посмотрю…
Листы были исписаны убористым, уже устоявшимся почерком.
Итак, "Признание":
"Когда я утром проснулась, посмотрела в окно, со мной поздоровался лучик Солнца.
– Привет!– сказала я ему.– Подмигиваешь, да? Нравлюсь? И ты мне, – очень-очень. Я люблю тебя. Приходи ко мне каждый день!
Ой, дурёха, что же я наделала? Сама первой призналась тебе в любви. А бабушка говорит, что девушки не должны признаваться в своих чувствах первыми ребятам. Нескромно это. Но мы никому не скажем. Ладно? Призналась и призналась. Люблю, люблю, люблю… А когда возникла любовь? Кто-нибудь знает?! Этого никто и никогда не узнает! Уже сколько тысячелетий, а ответа все нет. Может, мы с тобой, Лучик, его найдем? Люди либо любят друг друга, либо нет, и порой любовь возникает между теми, кому не надо бы любить друг друга… Что значит "надо" и "не надо"? Кто это устанавливает? Ты знаешь? Я не знаю. Ну, вот, опять вопросы без ответов… Лучик, родной, я сейчас распахну окно, ты не исчезнешь? Какая картинка! Человек – украшение Вселенной?! Он – лучшее злато?! Нет и нет! Лучшее – это Солнце! Вот оно вошло в мое сердце, такое неподдельно радостное, счастливое, лучезарное, и утренней сонливости как и не бывало! А утро, какое утро! Ясное и звонкое! А сад?! Ничего, что старые, а вон, гляди, деревья водят хоровод, обманывают скользящей близостью какого-то просвета вдали. И этому не мешает кров, сплетенный мохнатыми ветвями яблонь и вишен. Наоборот, создает таинственность.
Я чувствую, слышите, чувствую, как все мое нутро наполняется душистой прохладой, настоянной за ночь на всех запахах, кружащих в саду. Жизнь! Я люблю тебя! Лучик, не исчезай! Ты мне нужен! Ой, что это? Отчего пылают мои щеки и бьется сердце,
отчего дыхание мое так глубоко и радостно?! Пусть я рыжая, конопатая, для всех некрасивая. Господи, только для одного Его дай мне веры в то, что я самая красивая. Говорят, есть тридцать восемь ощущений, вызываемых прикосновением руки…
Но, когда Он взял мою руку в свою, их было сонм! Не передаваемых, Божественных, несказанных, освященных нашим тревожным молчанием. Какие это минуты! Их кто-нибудь в состоянии описать?! Не нужно слов, не нужно слов, потому что это и есть любовь! Лучик, ты не ревнуешь? Не надо! Ведь Он – это Ты, это все, что мне дорого на этой земле. Значит, я все люблю! И в этом мое признание! Елена Бородина".
*
Закончив читать, Евгения задумалась. «Все простенько?! Сюжета нет. Тема избитая. Но, что же "цепляет"? – рассуждала про себя.– Вот, есть: чистота, Свет. Первозданная эмоция. Неподдельное чувство. Это не напев будущего, а счастье на заре жизни, такое, каким оно видится в юности. Слова настежь.
И, если уж растревоженный вдохновением мозг их выдал наружу, пусть идут по ощущению, куда хотят, может, зацепят кого-нибудь, поймают на крюк… Они ведь искренние.
Она знала, что читатель – это человек, которому боишься солгать, потому что он своим насторожившимся, как бы из темноты нацелившимся взором киллера, следит за каждой авторской попыткой уклониться от правды. Но Елене не нужно было это знание: её искренность естественна и органична, мила, как благоухающий цветок. Это могла себе позволить только юность.
8
Начало
Евгения вспомнила своё сочинение на свободную тему в девятом классе. Разве оно не о том же? Помнится, тоже была влюблена, но по её юношеским понятиям он её предал: на танцах приглашал другую. «Собственно, оно у меня как талисман, всегда с собой». Благодаря ему она и связала свою жизнь с журналистикой. Её педагог по русскому языку и литературе Ирина Васильевна Курчина похвалила тогда за него, сказав, что вот так и рождаются писатели. Так к ней и пристало это звание, сначала школьным прозвищем, а потом и состоявшимся по жизни статусом. Ведь её признали? Не официально? Ну, и что? Разве это сейчас имело для неё значение? Она знала наверняка, что всё, когда-либо ею сочинённое и опубликованное,– то ли в журналах, то ли в газетах,– прочитано, разве это не подарок автору? А отзывы?! Их можно уже в отдельную книгу собирать. Одно мнение Ивана Мефодиевича что значит?! Классик, настоящий прозаик и поэт. Его кондовыми стихами она зачитывается не меньше, чем поэзией Н.Рубцова.
Нет, Ткачёва, «писательницей» тебе и умереть придётся. Журналистом? И это недалеко от слов твоей провидицы-учительницы. «Что за мысли?– одёрнула себя Евгения. – Писать надо. На чём остановилась? Ах, да на своих «девятиклассных» «Цветах». Может, и их включить в книгу? Почему бы и нет. Это же интересно, как рассуждали, о чём мечтали старшеклассники несколько десятилетий тому».
Евгения, открыв сейф, с нижней полочки взяла конверт и вытащила из него вчетверо сложенный изрядно пожелтевший лист. Улыбнулась и начала читать. Наивный простенький текст, стилистически не выдержанный, но какая богатая в нём иносказательность! Она ведь писала о любви, о своём видении женского счастья.

С.А.Демченко. Луговые цветы.
«Цветы»
«Ты представь. Извилистая, пыльная дорога. По ней шла девушка. Уставала, но шла. И светло было, – шла. И темно,– тоже шла. И всегда улыбалась. Дороге, дню, прохожим. И несла с собой охапку цветов. Не знала, зачем так много и зачем несла. Многие задевали её, набивались в спутники. Находились храбрецы и цветок просили. Отказывала. Берегла. Не знала, для кого. Но знала зачем. Так и шла. Однажды в безоблачный день, как-то совсем незаметно, её настиг парень. И очень ненавязчиво, умело предложил свою помощь. Не просил цветов, не льстил, он просто заметил букет, помог его нести. И так какое-то время они шли вместе. И, глядя на него со стороны, она подумала, что цветы к лицу ему, и даже она бы ему их подарила. Но не для того, чтобы всю дорогу идти рядом. ( Это невозможно, уж очень разными были их дороги). А затем, чтобы оба были просто счастливы (как может быть счастлив рассвет или раннее утро, стебелёк ландыша или поющий жаворонок). И парень, казалось, чутко, принял подарок. Но затем, решив отблагодарить, вдруг резко прильнул к девушке и отпрянул, забыв, совсем забыв о цветах. Они послушно упали на дорогу и уныло остались на ней. А девушка… она стояла растерянная, недоумевая, смотрела на удаляющуюся фигуру парня и ничего, ничего не понимала. Смотрела на неё, а видела цветы. Цветы в руках парня. И цветы, уныло погрузившиеся в зыбкую дорожную пыль. Взгляд блуждал, опять искал того спутника. Она бросилась было звать его, даже вернуть хотела. Окликала. Ей издали что-то кричали, махали рукой, казалось даже, звали. Но девушка не пошла за ним. Не могла идти следом. Её удержали цветы, так бережно ранее хранимые, ни для кого недоступные доселе, оставшиеся сейчас лежать у ног девушки, как обиженные дети. Склонилась над ними. Подняла один цветок, второй, третий. Цветы ещё жили. В пыли оставались только следы от стеблей. Смотря на них, думала: " Какие же вы тяжёлые, цветы, когда падаете в пыль". Собрав букет, девушка прильнула к нему и опять ощутила их тонкий аромат. Пусть не такой ощутимый, как раньше, но до боли родной, заявляющий о том, что цветы живы. Найдя воду, девушка заботливо напоила каждый стебелёк, расправила примятые лепестки, подставила их солнцу, и, о, диво, – ожил букет, он остался с ней. С ним опять пошла той же дорогой. И кто бы ни просил теперь, – не откликалась на просьбы, от помощи отказывалась. Берегла цветы. Не для себя. За них беспокоилась. Она знала, что им грозит быть втоптанными в дорожную пыль или легко быть забытыми, как в тот раз… Берегите свои чувства!
*
Вот так, с этих «Цветов» и любви у неё начинались творчество и профессия.
Сегодня в её творческом портфеле есть много эссе о цветах, разных, целая серия,– о жасмине и сирени, о любистке и тюльпане, о розе и майорце, о маке и лесном колокольчике. Они не похожи на тот первый школьный наивный рассказ, в каждом из них своя мораль, свои идея и сюжетная линия, но их объединяет преклонение перед красотой и искренностью человеческих взаимоотношений, любовь к жизни и окружающему миру. А у Елены, возможно, они начнутся также из первой публикации – её «Признания».
«Поставим в воскресный номер»,– решила редактор.
Так Елена Бородина и появилась в редакции, как она теперь любит говорить, своей «крёстной мамы»; заведует отделом писем.
9
Сюжет
После возвращения с совещания Евгения по привычке заглянула в рабочие кабинеты. «Тесновато всё же у нас. Дел прибавляется. А новых сотрудников не то, что пригласить,– посадить некуда».
– Евгения Петровна, к Вам пришли,– позвала секретарь Виктория.
– Сейчас приду. Пусть подождут.
Не мешкая, редактор поспешила в приёмную.
– Рада Вас видеть, Марина Львовна. Добрый день. Заходите,– Евгения пригласила гостью в свой кабинет.
Посетительница была довольно привлекательной. Её немного бледное лицо, слегка покрытое румянами, имело очертания, на которые жизненный опыт ещё не успел наложить своего отпечатка. Неопределённый, на первый взгляд, возраст загадочно соединял некоторую полноту форм с грацией и миловидностью ещё довольно молодой женщины.
– Слушаю Вас, Марина Львовна.
– Извините, что беспокою. Во-первых, огромное Вам спасибо за новеллу. Мы, близкие и друзья Ивана Мефодиевича, узнали в ней каждый себя. Вы так прониклись этой историей! Я же Вам всё рассказывала вскользь, сбивчиво, нарушая всякую логику. До сих пор не понимаю, как это всё могло случиться. Господи, такой талантливый человек ушёл. Пусть земля ему будет пухом. Я пришла к Вам с банальной просьбой: не остались ли у Вас в редакции экземпляры газеты с новеллой? Мы как-то сразу не сообразили, купили по два экземпляра, но желающих оставить её себе на память оказалось много. Это и моя, и просьба родственников.
– Я распоряжусь. Наверное, несколько газет найдётся. В крайнем случае, есть подшивка, подшиваем по два экземпляра. Но вы подскажите друзьям, что прочитать газету можно ещё и на нашем сайте. Хотя, конечно, файл – это не бумага.
– Спасибо. Мой муж просил Вам передать, что с вашим приходом газета стала интереснее, главное, правдивее.
– Благодарю. Вернусь к Ивану Мефодиевичу. Светлая ему память. Я очень ценила его и многому у него научилась. Хотя лично была знакома только последние два года. Но книги его читала ещё студенткой. Рада, что моя новелла о нём вам понравилась. Мне кажется, что авторского домысла там самая малость. Это вам спасибо. Фактически, сами того не подозревая, вы мне подарили сюжет.
«Сюжет».
Марина Львовна познакомилась с ним на его авторском вечере. Спустя какое-то время они сблизились; подружились семьями.
Иван Мефодиевич – известный писатель-прозаик, лауреат многих престижных литературных премий, автор более десятка книг.
Рассказывать о себе не любил.
Поистине "издалека", пережив полосу сложных духовных исканий, преодолев множество заблуждений, он пришел к тем характерам, в которых был заключен его жизненный опыт.
В литературу он влился с грузом былых идеалов, иллюзий. Он ни к кому не подстраивался, не облегчал себе этот путь, а прошел его – и прожил – вместе со своими героями. По сути дела, в одну короткую жизнь, в одну его биографию уложилась нравственная работа десятилетий. Он знал, что является блестящим стилистом, мастером сюжета, что пишет искренне, находчиво. Пусть не изящно, но правдиво.
Величие и пошлость не раз затрагивали его эго, и, хотя он противился этой заразе, она подспудно где-то в нём ютилась. Общаясь с ней, он следил за собой, обнаруживая при этом большой такт, чтобы наружу не просачивалось его болезненное самолюбие.
Его многие корили за несносный характер, но он не мог понять, в чём заключена эта несносность. Ведь постоянно демонстрировал удивительно тонкое чувство меры, сознательно изгонял из своих речей всё напыщенное, высокомерное, которое могло бы резать ухо собеседнику.
Правда… правда что? Нарочитость рождала морализаторство, назидательный тон, и люди, приняв это за унижение, сторонились его. Притом, и матерное словцо мог употребить так, что мало не покажется.
Чем для него было творчество? Не поверите: успокоительным убежищем, бегством в себя. В нём он был тем, каким ему всегда хотелось быть. К сожалению, в реальной жизни ему это не всегда удавалось. Он много писал о русской женщине, любимой, матери. Всё там звучало светло, чисто. Он предлагал читателю неизбитую азбуку преклонения перед женщиной, в то время, как в своей семье пережёвывал всё обыденное: любовь по необходимости, бездетность супруги, удочерение сирот. Получалось, что он рисовал счастливые картины по-своему, в зависимости от того, чего был лишён в настоящем.
В его книгах коллизии были несколько иные, более благополучные, святящиеся любовью, состраданием, справедливостью, верой. Эти мотивы переплетены друг с другом самым тесным образом, бесчисленными кручёными нитями.
И хоть наука давалась поначалу ему трудно, он закончил литературный вуз. Вспоминал об этом периоде жизни нехотя, тем более, что память, как тот рваный трал, порой напрочь теряла улов, оставляя лишь какие-то ошмётки потрёпанной жизнью сети.
Его жена – скромная женщина,– в свое время работала секретарём в приемной Председателя Союза писателей республики.
Для Ивана Мефодиевича Татьяна Николаевна так и осталась секретарем, только многие годы – личным.
Прожили совместно более пятидесяти лет, воспитали троих детей. За плечами – сложная и трудная жизнь, годы послевоенной разрухи, восстановления страны. Об этом он талантливо и искренне рассказывал в своих книгах.
Несколько лет назад случилась беда: Татьяны Николаевны не стало. Иван Мефодиевич переживал эту трагедию очень остро: привык к ней, как само собой разумеющемуся обстоятельству. На какое-то время замкнулся в себе, ни с кем, кроме детей, не общался. Перебирая воспоминания, относящиеся к дням совместной жизни с женой, он погружался в прошлое, заново переживал былое, видел в нём нравственное чистилище и для себя, и для своего окружения. Но по прошествии пяти лет боль малость притупилась, а житейские будни настойчиво диктовали свои требования. И главное среди них: в доме должна появиться хозяйка. Он не мог оставаться один (дети жили в других городах), тем более, что был совсем не приспособлен к "прозе" жизни, особенно к бытовому обустройству. Только где взять эту хозяйку в его-то возрасте? Как где? А Мариночка?
Найти бы к ней подход, не вызвать бы разочарования, всё же она учёный, философ. А он же всю жизнь путал материальное и идеальное, трансцендентное с трансцендетальным, дуализм и монизм, пантеизм с пандеизмом, Канта с Контом и т.п. Такой ряд бесконечен. И никакие Беки и Берки, Томасы и Бэконы, вбиваемые педагогами, словно тугие пыжи, в мозг, не держались в нём.
Иногда он ловил себя на мысли, что затея эта гиблая.
Как-то враз выледнялась безысходность. Она стучала к нему, как стук дятлова клюва о кору. Настроение, запрятанное в мысли, пробовало протестовать, но это была убийственная данность. Он понимал это, и как-то сипло и надорванно всегда шептал: "Жизнь прожита, чего уж тут, а она молода…».
Случилось так, что вдовец постоянно приглашал Марину Львовну на различные встречи, творческие вечера,– свои и друзей – поэтов, писателей, музыкантов. Мужскому самолюбию, определённо льстило, что его всегда сопровождала красивая, ухоженная, статная женщина, к тому же моложе почти на тридцать лет.
Уважая возраст Ивана Мефодиевича (ему к тому времени исполнилось семьдесят пять) и, осознавая, что находиться рядом с ним и престижно, и почетно, и интересно, Марина Львовна никогда не отказывала ему и с удовольствием откликалась почти на все приглашения.
Однажды, возвращаясь с авторского вечера его друга-поэта Басина, уже возле припаркованной возле театра машины Иван Мефодиевич неожиданно предложил своей спутнице поехать к нему домой. Распахнувшийся на минуту воротник пальто обнаружил его настороженное мужественное лицо, с длинной бородой и мрачно сдвинутыми густыми бровями. Борода, густая, блестящая и выхоленная, скрывала чересчур развитую нижнюю челюсть – признак решительности.
– Но уже поздно. Да и мой Алексей Петрович будет волноваться.
И вдруг обычно сдержанный Иван Мефодиевич заговорил на повышенных тонах, не минуя колкостей.
– Твой Петрович?! О чем ты?! Он же толстокожий у тебя! Не твой это человек, не твой!
– Скажете такое. Он мне дорог. Двадцать лет, как вместе. Вы же знаете.
– Ну, и что?! Многолетняя привязанность ещё ни о чём не говорит и тяжесть духовного одиночества не облегчает.
– А я не одинока,– смутилась Марина Львовна, но тут же запнулась.
– Не одинока она,– перебил с ухмылкой собеседник.– А чего же всё свободное время не проводишь со своим миленьким? Ты же закуталась в свой кокон и ждёшь превращения? С кем? Тебя он не обогащает. Чиновник, он и есть чиновник. Ты же натура творческая.
Марине Львовне стало как-то не по себе. Настроение упало. Да и не ожидала она такого поворота в разговоре. Непривычен он. Грубить не хотелось, но и смолчать не могла.
– Извините, я ведь по дружбе хожу с Вами, из чувства уважения к Вам и Вашему возрасту…
Сказала и испугалась за свои же слова. Она ведь знала, что хотя Иван Мефодиевич и не жаловался на бремя лет, но тему эту не любил, считая вообще жизнь бесценной в любом возрасте.
Иван Мефодиевич как-то враз скукожился. Наступила пауза, за ней – вторая, третья, после чего он быстро вынул из внутреннего кармана куртки портмоне, машинально взял несколько купюр и резко буквально всунул их в руку растерянной женщины.
– Это вам, прелестная мадам, за потраченное время со мной. Мы в расчёте.
Резко открыл дверцу машины, сел за руль и…уехал.
Марина Львовна стояла какая-то отчужденная, ошарашенная случившимся. Затем, овладев собой, завела свою машину…
Она вспомнила Софокла:
«Из всех божьих даров высший дар –
Рассудительность, а стало быть, остерегайся
Оскорбить вечных богов. Гордыня,
Тяжкими ранами расплатившись за дерзость,
С годами
Выучится благоразумию».
«Буду благоразумной. Некрасиво вышло,– подумала.– Завтра же объяснюсь».
А Иван Мефодиевич, почуяв клокочущее биение сердца, остановил невдалеке машину и вышел на свежий воздух.
С мрачными мыслями он длил свою вынужденную прогулку. " И чего расстроился? Неужто влюблён? А поздняя любовь, она какая? Как-то пытался сформулировать: "Ветер поздней любви расщепляет чувственную ветвь, рассекает мечтою небесную синь. Раскалывает судьбу или манит вожделенным зовом.
Украшает себя забытым словом. Говорит поэтической прозой. Сладость этого чувства всегда не вымерзшей розой в сердце болит".
"А ведь неплохо сказал,– тихо улыбнулся сам себе,– пора и домой, вроде, полегчало».
Всё как обычно: приехав, поставил машину в гараж.
Открыл входную дверь, поднялся на второй этаж, зашёл в квартиру, устало вздохнул, присев на стоящий у вешалки стульчик, вот так бы и не вставал. Одиночество всецело окучивало его, жены нет, никого нет здесь. Только приютившиеся на стене скромные ходики упрямо повторяли: тик-так-так-то-так-так. Их озадаченное тиканье было знакомо хозяину ещё с юности, когда были живы родители. Сохраняет их как реликвию и память о том беззаботном времени. «Ну, что, дорогие, пора на покой?»– спросил сиплым голосом не то себя, не то ходики и, кряхтя, поднявшись, прошёл в ванную, затем на кухню. Есть не хотелось. А ведь надо! Все вон пугаются, мол, резко похудел, изменился. "Ха-ха, а ещё про любовь говорит. Нет, надо завтра обязательно объясниться с Мариной". На том и ушёл в свой рабочий кабинет.
Но этому «завтра» пока предшествовала ночь, какой-никакой сон. Марине Львовне привиделось, что, приехав к нему, позвонила в дверь.
Ей открыл хозяин квартиры. Встретил с улыбкой. Был в хорошем расположении духа.
– А, это вы, Марина Львовна, Мариночка, я знал, знал, что приедешь, проходи. Женщина зашла в прихожую.
Иван Мефодиевич привычно помог гостье снять пальто и провел в гостиную. Светлая комната, обставлена просто, но при том со вкусом; на стенах висели в большом числе фотографии, портреты, и витал вокруг них дух родственной любви; и повсюду бросались в глаза салфетки на мебели и разные поделки, вполне милые мелочи. Интересно, сколько их нужно хранить, чтобы не забыть хозяйку? И насколько они дороги хозяину? Вот эта, например, безделушка-статуэтка порхающей балерины… Повертела в руках. Да, она знала, что покойница любила балет, замыкалась в нём, порой не хотела говорить ни о чём другом. Выйдя на пенсию, жила в отрешённости от своего времени, всецело посвящая себя дому и мужу. Да и сейчас у Марины Львовны возникало ощущение, что здесь каким-то необъяснимым образом таяло настоящее и возрождалось прошлое.
Гостья между тем заметила, что на столе стояла бутылка недопитого армянского коньяка, два бокала и пепельница, полная окурков… женских сигарет.
Поймав её любопытствующий взгляд, Иван Мефодиевич торопливо объяснил:
– Ах, да, вчера я привез домой молодую поэтессу, бывшую сокурсницу моего старшего сына. Ты ее не раз у нас видела. Ее не любила покойная Татьяна Николаевна.
– Что-то не припоминаю.
– Вспомни, такая яркая блондинка…
– Да-да, кажись, я видела ее как-то с поэтом Басиным. Что? талантлива?
– Она так думает,– улыбнулся Иван Мефодиевич.
– И?..
– Да, ночевала у меня. Муж в командировке. Детей у них нет. Массаж мне сделала… Мы приятно провели время…
Марине Львовне не верилось, что перед нею Иван Мефодиевич. Казалось, это вовсе не тот уважаемый и почитаемый ею человек.
– И вы ей также заплатили, как и мне? Я целую ночь не спала. Вы же унизили меня. Вот, возьмите ваши деньги. Как только вы могли …– и, не закончив фразы, женщина заплакала.
– Я ведь с чистым сердцем к вам, а вы?
– Только не слезы, только не слезы,– засуетился Иван Мефодиевич.– Давай эти проклятые деньги. Вот-вот я порву их у тебя на глазах. Прости меня дурака старого, не знаю, что нашло. Обидно за себя стало. Ты этого не поймешь. Просто на такой, как ты, я бы хоть сегодня женился… Но ты же своего Петровича не бросишь? И не останешься у меня на ночь?
– Н-е-т,– все еще недоумевая, ответила женщина.
– Вот именно, а я бы на тебе женился. Понимаешь, есть женщины, способные завязать узелок в твоей судьбе, но большинство предлагают лишь нити, которые моментально рвутся, если за них потянуть в трудную минуту. Ты «узелковая».
Иван Мефодиевич подошел к Марине Львовне, обнял за плечи, поцеловал в щечку.
– Давай забудем, останемся друзьями. В следующий раз приходи со своим Петровичем. Завидую я ему. Ведь мне очень одиноко и тоскливо, словно душа осталась совсем без кожи. С тех пор, как ушла моя Татьяна Николаевна, я места себе не нахожу, и время не помогает. Ты вот взяла в руки статуэтку, и мне причудилась моя Танюша, она частенько её вертела в руках… Ну, как? мир? Помнишь, как у поэта:
"Мы не лукавили с тобой.
Мы просто шли.
У нас нет и зернышка
Неправды за собой".
Марина Львовна постепенно успокоилась, засобиралась уходить.
– Не поминай лихом,– как-то неожиданно на прощание вырвалось у Ивана Мефодиевича.
Нечто тревожное и зловещее промелькнуло в её сознании, но тут же мгновенно это впечатление выветрилось.
Марина Львовна проснулась, а в ушах все еще звучало это «Не поминай лихом». Оно сейчас утром захватывало её столь властно, что должно было проистекать от какой-нибудь скрытой и веской причины. Она это чувствовала. Переживала. Будто какая-то злая сила намеренно ставила её в неясное положение, чтобы взвалить на её душу неизъяснимый грех.
– Алексей,– обуреваемая этими тяжёлыми думами, обратилась к мужу,– ты знаешь,– всю ночь разговаривала с Иваном Мефодиевичем. Просто целый сюжет приснился. Женихался всю ночь. Уж не случилось ли чего с ним?
– А ты как с ним вчера рассталась? Он был здоров?
– Не жаловался. Но был раздражён. Мы маленько повздорили, не поняли друг друга. Сегодня вечер у Басина. Увидимся. А пока позвонить надо.
Марина Львовна привычно набрала знакомый номер. Никто не ответил. "Наверное, мобилку забыл",– промелькнула мысль.
Позвонила на квартирный стационарный. Раздался голос Андрея – старшего сына Ивана Мефодиевича.
– Мариночка Львовна, боялся слишком рано вас тревожить. Я только полчаса, как прилетел. Беда у нас. В пять утра папино сердце остановилось. Он ещё успел позвать соседей. Скорая не помогла. Приезжайте.
Марина Львовна не поверила своим ушам. "Иван Мефодиевич, что же вы так? даже не попрощались с нами или попрощались?" – в растерянности мысленно не то обращалась к другу, не то корила себя, напрочь расстроенная печальным известием.
После похорон близкие попросили Марину Львовну задержаться. Андрей пригласил ее в рабочий кабинет отца.
– Вот посмотрите, здесь дата стоит и время. Отец ночью работал. А утром его не стало.
Женщина посмотрела на протянутый Андреем лист бумаги, на котором знакомым аккуратным почерком было выведено название: "Я бы на тебе женился…" и чуть ниже – "Невыдуманный сюжет".
На мгновение, коснувшись пальцами лба, она почувствовала слабость в ногах, присела.
Далее шел текст на пяти листах… Она бессознательно вначале скомкала прочитанный первый, затем второй, третий; остановившись, ближе придвинулась к столу, упёршись лбом в лежащие на нём ещё непрочитанные две страницы, и без конца повторяла:



