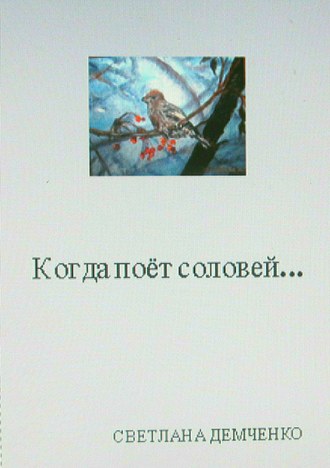
Светлана Андреевна Демченко
Когда поёт соловей…
3
Замысел
Сбросив с себя пресс-секретарскую мантию, Евгения вернулась в свою прежнюю редакцию и уже через год опять её возглавила. Статус в журналистике ей достался дорогой ценой, и с этой работой было нелегко надолго расстаться.
Физическая слабость иногда ещё ощущалась. Вначале ей казалось, что она не больная, но… и не здоровая, что это депрессия, или нет – не депрессия. Постепенно с уменьшением эмоциональной нервной нагрузки, прошла апатия, хотелось жить, быть с людьми и писать о них.
Как-то в кабинете Главного редактора газеты раздался звонок:
– Алло, Ткачева, здравствуй! Узнаешь? Нужна помощь.
– Какая?
– Да что-то мой референт напутала, а я не посмотрел и выложил все это на республиканском совещании. Теперь министр требует объяснительную. Помоги написать, а? По-ткачёвски, как ты умеешь.
– А ты не изменился. Больницу помнишь? И разговор о соках тоже? Так что утоляй свою жажду где-нибудь в другом месте.
А примерно через месяц газеты сообщили об освобождении Ордынского с занимаемой должности.
Читая об этом, робкая поступь улыбки шевельнула губы:
«И на кого и на что я потратила десять лет?! Бог ты мой!.. Может, написать об этом?» Она не раз поневоле соблазнялась мыслью подвести итог своей творческой жизни. Её статей, очерков не счесть; это и публицистика, и поэзия, и проза; вместе с ними она пережила несусветную толкотню света и мрака, зла и добра, признания и забвения. Её мысли всегда были свежими, своими, не взятыми напрокат. Возникали они из жизни, были конкретны и реалистичны.
Реакция на её материалы была неоднозначной: хозяевам был нужен мёд, но дёгтя-то в жизни с каждым днём прибавлялось; глаза свои девать некуда, разве что, куда глаза глядят, – не умолчать. Её интересовала истина, а не условности и приличия. Поэтому поддакивания моде, тем более, угодничества, не было.
Не будет этой пошлости и на этот раз. Ведь картину жизни никому не известного журналиста, чей труд на протяжении многих лет использовался другими, можно составить не из прописных привычных или громких политических, общественно значимых дел, а хотя бы из тех осколков переживаний и впечатлений, которые были известны только ей. Совсем даже не поздно создать такое, пусть и мозаичное, полотно.
В годы, условно говоря, сбора урожая, – ей уже за сорок,– её жизненная нива всё ещё не отдыхает, ей есть что сказать своим читателям. «Значит, идея! Вот возьму и напишу. Повесть. Только не надо пережёвывать обыденное, мелочное. Книга должна удивить читателя прозрением, светом. Каким посылом? Любым из этой истории, из других таких же реальных сюжетов,– лишь бы он удивился. Ещё древние учили: удивление – начало рассуждения, мудрости, без него любая сентенция, претендующая на философию, мертва и несостоятельна».
Эти мысли дёргали её за слегка изогнутые брови, казалось, даже играли на уже заметных морщинках лица, словно перебирали на каких-то клавишах. «Явленная тайна» человека – загадка из загадок. К ней она также относилась.
Выйдя из здания редакции, Евгения возвращалась с работы усталая, смотрела на людей и не видела их лиц. Всегда торопливые, озабоченные только собой и своими мыслями, они толкали ее, – кто слева, кто справа, – кто-то неловко извинялся, а другой выказывал свое неудовольствие:
– Скорее бы шли, не видите, сколько народу тут?!
– Да-да, конечно. Извините,– машинально отвечала.
4
Визитка
– Ткачева, Женька?! Это ты?! Бог мой, сколько лет, сколько зим!
Евгения подняла глаза. Перед ней стоял ее бывший сокурсник Толя Черняев. Но не только сокурсник. Да, это был он, тот, кем она грезила все студенческие годы… Растерялась. Как давно это было!
Время своё взяло: её бывшие отношения с Анатолием, всегда сохраняющие грозовую напряжённость, нынче ей казались калейдоскопом с синтезом цветовых контрастов настроения, этакой красочной запевкой неуловимого обмана. Исчезла сказочность взглядов, интонаций, наконец, даже внешнего вида, в небытие ушла жажда невыцветающих красок чувства, того сюжета, который ей казался прочным и устойчивым.
Прошлая жизнь, давившая некогда душу, уже вылезла из скорлупы мнимой любви и согрелась теплом и ответственностью взрослости. Из всей мелодии чувств этого романа нетронутым, как ни странно, остался лейтмотив веры в любовь. Этот аккорд не только сохранился, но и не позволил вспенить в её душе неверие в возможность чистого чувства. Да уж, как говорил Гёте, "Пусть никто не думает, что может преодолеть первые впечатления своей юности".
Сейчас перед ней стоял уже совсем не тот юноша, причудливая игра линий лица которого когда-то внушала ей какое-то притягательное сладостное таинство. Женя увидела перед собой почти незнакомого сорокалетнего мужчину. Знакомые обозначенные черты лица резко обострились. Хотя… Всё те же глубоко посаженные синие глаза, та же заманчивая улыбка, та же томная прелесть взгляда заставляла верить в глубину его мысли и придавала значительность самым ничтожным его словам. И всё равно выражение лица напоминало, что Анатолию присущи, как и прежде, всё те же изощрённые пороки.
И, если он и не совершил чего-то неблаговидного, то только из трусости.
Спустя два десятилетия женщина об этом уже знала наверняка.
Слава Богу,– тогда Евгения справилась со своим первым трепетным чувством, зная, что Анатолий обручен с ее лучшей подругой Люсей Галициной.
В браке с Люсей он повел себя более чем трусливо. Когда та забеременела, с ним случилась истерика.
– Нам рано еще обзаводиться детьми,– кричал в ссорах.– Карьера полетит вверх тормашками!
А, узнав, что у них будет двойня, сделал все возможное, чтобы уйти из семьи.
Мужчина осторожно взял Евгению под локоть, и они отошли в сторонку от непрекращающегося потока людей, спускающихся по эскалатору в метро.
– Ну, привет. Рад тебя встретить. Говорят, ты замуж вышла?
– Вышла,– как-то растерянно отвечала Евгения своему собеседнику.– Да и ты, я знаю, долго в холостяках после развода не ходил?! А когда первый раз женился, помнишь, как всем нам в группе цитировал какого-то шведа: "Земная похоть – что дым: рассеялась, и нет ее. А верность – что табачная жвачка: жуешь ее, жуешь, и никакой сигары тебе не надо"? А оказалось, что тебе как раз она и нужна была.
– Да, и не говори, думал бобылем поживу, но не тут-то было, заарканили меня.
– Так-таки и заарканили?
– Ну, как тебе сказать? Ты же помнишь: Люська была гордая, несговорчивая, не понимала, что мне расти надо.
– И как, вырос?
– А ты разве не знаешь? Ну, не узнаю тебя. Ты обо мне всегда все знала. Босс – мой тесть, а я у него заместитель. У самого Президента, представляешь?
– Президента чего?
– Концерна, конечно. Я тут в метро случайно оказался, сама понимаешь, не мой это вид транспорта; друга детства должен был встретить, но, кажется, он не приехал. Зато тебя вот увидел. Давай поднимемся наверх. Наш офис недалеко, тут же, в центре.
– Ты знаешь, устала я. После работы уже ничего не хочется. За день так наговоришься, что только о молчанке и думаешь.
– Ну, да, ты же, я слышал, защитилась, в "универе" преподаешь?
– Да, каждый день по две-три пары было. Но это в прошлом. Потом ушла в журналистику, вузовский диплом оправдывать.
– Сочувствую. Не лёгкий хлеб. Тогда тем более: тебе нужно расслабиться. Освежимся глотком кофе, рюмашкой коньячку, лимончиком. Пошли.
– Прости, Толя, мне нужно домой.
– Тогда знаешь что?– засуетился Анатолий.– Вот тебе моя визитка. Видишь, эксклюзивный дизайн, тиснение фольгой… Нравится? Будешь всем показывать и хвастать, что знакома со мной.
Евгения чуть не поперхнулась от этих слов. Почувствовав какую-то душевную надорванность, лишившую её равновесия, съязвила:
– А, может, стыдиться? – Нет, спасибо, вряд ли мне придется с тобой контактировать.
Анатолий явно не ожидал такого возражения. Слегка опешил.
– Мало ли что в жизни может понадобиться… Возьми…
– Счастливо оставаться,– Женя порывисто побежала к электропоезду.
А уже через минуту он уносил ее от мужчины, растерянно протягивающего куда-то в пространство свою визитку.
5
На грани вдохновения, или когда поёт соловей…
Выйдя из метро, Евгения вдруг почувствовала не столько досаду от встречи с Анатолием Черняевым, холод, сколько… желание поскорее сесть за клавиатуру. Пишущие люди знают, что это такое. Когда в тебе рождается замысел и видятся контуры будущего сочинения. Мозг наполняется до краёв, и ты во что бы то ни стало, должен «розродиться». Мысленно это желание обступило её своими рамками, протянулось под подошвами грязно-солёного переулка по пути к дому, и она уже понимала, что попала в него, как в мышеловку.
« Нет, по заказу книга не получится. Её прожить надо, выносить! А разве я её не прожила? Этого мало? А если этот труд пойдёт насмарку? Огорчить человека легко – сказать, что книга никуда не годится и того легче; но зачем её тогда писать? ..».
Сомнения, сомнения…
Но ей уже не уйти из этой темы: она жила с ней и внутри неё. Замысел пляшет, как говорится, далеко не от печки, а от тех людей, о которых Женя писала и жила их жизнью. Да, ей нужно соединить эти разные жизни в единую жизнь журналистки, практически профессионально продающую свою цельность, свою любовь к людям.
Идея написать книгу уже гнездится в мозгу, клубится вокруг идущей вдоль зданий женщины, ничего не замечающей вокруг. Глаза в одночасье потеряли зацепистость. Её истосковавшийся по творчеству мозг уже наметил и сконцентрировал будущие образы, всячески оберегая мысли, которые готовы не на шутку «расшагаться», протиснуться сквозь воображение и диктаторски потоптаться на клавиатуре. О… А тогда только начни ворошить эту кучу, потяни за нить, и, если она не превратится в спутанный клубок, какая пляска сюжетов раскроется, позавидовать можно.
«Во мне, безусловно, есть какая-то пассивность. Что меня останавливает? Да, ничего! Я уже впустила в себя все истории, о которых хочу рассказать». И эти выводы яви её творческого озарения уже не хотели спорить с логикой. У неё не было честолюбия , неотлучного от характера многих сочинителей. Но и нюней она не была, зная себе цену: честный прямой человек, не без гордости в душе, умеющий радоваться успехам других.
Там, где дворники не поленились почистить тротуар, она шла, отстукивая пунктир шагов, представляя его тянущейся сплошной линией вплоть до входа в дом.
И всё же внутренний голос не успокаивался: «Не спеши, достань из своей памяти те истории, которые были полны ощущения поэтической сущности жизни даже в тех ее проявлениях, где, казалось, не было места поэзии; дождись «своего соловья», его пения. Читатель должен почувствовать, что автор – художник, а не жонглёр словами».
Она это знала. И в её творческий сад должен прилететь соловей её души!
*
Как там у Басё?
Ива склонилась и спит.
И кажется мне, соловей на ветке -
Это ее душа.
Может, этот зуд написать светлую книгу и свидетельствует о том, что её соловей уже на пути к ней? К ней ли?
Ведь известно, что этот певчий кудесник в природе никогда не сядет на отжившее дерево или на сухой куст. Ему нужен чарующий шепот листвы, ее благоухание и уют.
И он ни за что не станет петь на глазах у всех, выставляя себя на всеобщее обозрение. В этом скрыта его природная истинная скромность.
« А что уготовили ему мы, люди, в наших духовных садах? – роились мысли в голове Евгении.– Сколько мертвых ветвей мы уже удалили? И избавились ли от них вообще?!»
Конечно, кроме соловья-вдохновителя, есть и другие птицы. Например, ворона, – где угодно приземлится.
И хотя они могут встретиться в одном лесу или саду, даже на одних и тех же деревьях, все равно петь будут по-разному.
И дарить будут слушателям совсем несхожие мотивы.
Да и можно ли воронье карканье не то, что сравнить с соловьиным пением, а даже в приближении рассматривать в одном ряду с ним?!
О трелях соловья в поэзии издавна мечтали поэты-лирики. Недаром же покровителем имени Муза является Соловей.
На ум пришло поэтическое обращение Хорхе Луиса Борхеса «К соловью»:
В какой тиши староанглийских рощ
Или неисчерпаемого Рейна,
Какою ночью из моих ночей
Коснулся невозделанного слуха
Твой отягченный мифами напев,
О соловей Вергилия и персов?
Тебя до этого не слышал я,
Но наших жизней не разнять вовеки.
Ты означал скитающийся дух
В старинной книге символов. Марино
Назвал тебя сиреною лесов.
Ты пел из тьмы встревоженной Джульетте,
Среди латинских путаных вокабул
И в сосняке другого соловья,
Полу-германца-полу-иудея,
С его печалью, пылом и смешком.
Тебя услышал Ките за всех живущих.
И нет ни одного среди имен,
Подаренных тебе, что не хотело б
Стать вровень с этою бессмертной трелью,
Певец ночей. Тебя магометанин
Воображал кипящим от восторга,
Вздымая грудь, пронзенную шипом
Тобой воспетой розы, обагренной
Твоей предсмертной кровью. Век за веком
Ты длишь пустынным вечером свое
Занятие, певец песка и моря,
В самозабвенье, памяти и сказке
Горя в огне и с песней уходя.
Не одно поколение писателей, музыкантов вдохновлял этот образ. Федора Стравинского, например. Именно пение этой маленькой птички подтолкнуло его к написанию оперы "Соловей" на основе одноименной сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена. А главный герой ирландского драматурга Оскара Уайльда в новелле "Соловей и Роза" на алтарь любви приносит в жертву свое пение и свою кровь.
Но не каждого, далеко не каждого, посещала и посещает эта необыкновенная Муза.
Почему?
*
Созерцание должно родить вдохновение. Грань вдохновенья… Где и в чем она?
Евгения вдруг вспомнила, что уже отвечала на этот вопрос в небольшом эссе.
Придя домой, едва раздевшись, включила компьютер и зашла в свой «творческий портфель».
-Ага, вот оно –
«
Грань вдохновения».
Начала читать: «Это чувственный вихрь загадочной непостижимости?
Может, тогда возникает, когда мысли о земном и малом отступают?
Или, когда кажется, что дар неведомых тебе высот, как брат?
И именно на этой грани ты можешь им жадно насладиться?
Но как возможно это? С Богом? В порывах Духа неземного?
Его взрастить в себе вначале надо! Что ж, породниться с ним, – удел не многих.
Как взлететь словом туда, где млечной дорогой рассечена Вечность?
Туда, где свет планет неведомо струится, и он свивается в Светило?
Там в выси распростерто зеркало чарующих Небес. Мы это знаем.
Оно зовет лукаво в безумстве яви жизни. Всегда одетое в лазурный плащ,
горящий под лучами Света. И смотрит, отражая наши лики, с пристрастьем Божьим.
И светлым днем, и в непрестанном ожиданье звездного полога, – повенчано с Землей.
Шлет на нее свои щедроты и льет по воле Божьей для нас живую сладость Бытия.
Да! Её глотая, странным стоном, несказанными восторгом и тоской, и отзывается Душа Поэта. Она зажигается, горит, и расторгнутая сила её костра вдруг рождает Вдохновенье.
Сначала наступает грань его. Не осязаемая, не пойманная, обозначенная лишь
образом и его отраженьем. Успевай только,– лови!
Когда на ней стоишь, на этой грани, тогда-то и видишь в темных неприветливых абрисах нежно-жемчужные дали, и зеркало – в банальной луже после дождя».
*
Это правда. Не все могут стать на эту грань, понежиться в её образном свечении. Видимо, потому, что многие свой духовный сад, не содержат в чистоте и добре. В нем много "мертвячины", пустой "отсебятины ". Он у них, у тех, кто паразитирует на чужом таланте и труде, по обыкновению, неопрятный и злой, желчный и недоброжелательный. А так хочется, чтобы Вдохновение – этот вечный Соловей – спутник Творца, всегда находился в нашем саду Добра и Света, чтобы любая веточка, которую он облюбовал, была бы упругой и живой, чтобы она любовно хранила его под звуки его же чарующих мелодий.
*
День уже клонился к вечеру; постепенно умолкал городской шум, сливаясь с последним, протяжным гулом колокола местного храма, чьи поднятые в небо головки светились неоновыми крестами; темнота вкрадчиво разливалась в бесконечном пространстве.
Евгения смотрела в монитор и уже, предаваясь мыслям о будущей книге и вдохновении, ничего не видела перед собой. В этих случаях работа ума не знает безработицы. Она знала, что сегодня ночью ей придётся поклониться едва ли не каждому прожитому дню и хорошенько пошарить мыслями в прошлом. Ведь в такие минуты ей не до сна. Поток давнишних, полу-утраченных воспоминаний проник ей в душу, и близкие сердцу образы представали перед ней, как живые. Они и не давали покоя, связывая ощущения с их будущей художественной окраской. « Как достичь магии слова, чтобы достичь звучания текста, чтобы он не расплывался в мельтешении мелочей, в беспредметности?»
После нехитрого ужина Евгения приступила к работе. Мысли, прежде чем уснуть на высвеченном экране компьютера, долго и беспокойно толкались, борясь за первенство. Толпа, да и только.
Она знала, что её жизнь подобна экспедиции в разные сферы бытия, маршрут которой словно, был соткан для неё, – вначале ученицы – золотой медалистки, выпускницы вуза с красным дипломом, затем кандидата наук, педагога, журналиста, живописца, – из неписаных творческих профессиональных законов, неслышных тонких мелодий человеколюбия, из множества нравственных интонаций.
Её силой и одновременно слабостью была доброта, – не показушная, но такая, которой не хватало времени и рук, чтобы обнимать всех слабых, успокаивать разочаровавшихся, дарить всем нуждающимся. Её добрая забота о людях была беспорядочной, безудержной, требующей много энергии и воли, порой совсем непонятной для окружающих.
–Ну, что тебе,– больше всех надо?– порой слышала в свой адрес.
Но не могла ничего поделать с собой. Отзывалась на людскую боль. Любая боль ведь вездесуща: и в логове зверя она тоже боль. Унять её – задача человечья. Евгения искренне сочувствовала тем, кто искал помощи. Видать с годами, её чуткое отношение к людям вскипятило в сердце справедливость, в нём постоянно рделась искра самопожертвования.
«Хорошо бы ничего не забыть, ведь столько всего накопилось»,– смотрела на ранее продуманный и сохранённый в файле план, фактически, оглавление будущей книги. Но всего не предусмотришь. Хотя часть материалов уже написаны, но, перечитывая их в который раз, Евгения продолжает творчески их переживать, шлифовать, изумлять своих персонажей какими-то новыми подходами, советоваться с ними, словно они были живыми. «Вы мне здесь, Андрей Петрович, не шалите, да, да, обниматься с Вами будем в конце очерка, ну, мало ли что,– название?! Ведь название несёт на себе смысловую нагрузку всей истории, аккумулирует авторский замысел и, конечно, интригует читателя. Поэтому так и оставим».
6
Обнимаю
Мало ли какие письма приходили в редакцию еженедельника! Самые разные: от восторженных до разоблачительных, от добрых до злых и т.п. Прежде, чем написать какой-то очерк, ей надо было вжиться в каждую историю. Однажды среди нескольких десятков этих посланий Главный редактор обратила внимание на измятый пожелтевший конверт. Подписан он был, как ни странно, химическим карандашом. Первое прочтение оставило журналистку в недоумении: сумбур каких-то переживаний, обо всем, и, вроде, ни о чем конкретно. Только вчитавшись внимательнее, становилось понятным: человек на краю, он мечется, ему одиноко, обидно. Нет, у него – семья, проживает не один. Но, оказавшись инвалидом, не понятым и не воспринятым, он утратил интерес к жизни, и вот-вот предпримет то, о чем и сам открыто боится говорить. "Я не слюнтяй, поймите. Пишу вам в ответ на статью Е.Ткачевой о добре и зле в нашей жизни. Я никому не нужен,– писал он, – разве что дети еще нуждаются в моей, немалой по сельским меркам, пенсии военнослужащего. Одиночество души – это страшная вещь! Я мыкаюсь с ней и туда, и сюда, но никому нет дела до того, что там в ней творится. Никто не знает, многого не знает обо мне…
Я прожил трудную жизнь. Кадровый офицер. Объездил всю страну, которой сегодня нет, но которой отдал все свои силы. Знаю цену трудовой копейке с детства. Родился и вырос в многодетной семье в деревне. Потому, уйдя в запас, и поселился на старости в родных краях. И дружбу познал, и измену, и любовь, и равнодушие, и боль и радость. Трагедия-то в том, что полгода назад по чистой случайности я потерял обе ноги. Передвигаюсь на коляске. И, Боже мой, как же я уже всем надоел! Близкие измучились. И мне жизни нет… Я стал неполноценным в этой жизни. И ничего хорошего меня уже не ждет. Я стар и одинок со всеми своими мыслями. После активной насыщенной жизни я превратился в кусок бревна, причем трухлявого и отжившего. Тогда вопрос: зачем жить? Вы мне можете ответить?! Смысл потерян… Помните?
« Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями-
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастет на сердце рана,
Прольется чистыми слезами,
Не зарастет на сердце рана -
Прольется пламенной смолой».
И дальше всё в том же духе.
Мелкий прыгающий почерк, то выделяющийся, то совсем незаметный, неровные строки,– все это давало представление о напряженном эмоциональном состоянии автора.
К удивлению сотрудников Е.Ткачева, зарегистрировав, оставила это письмо у себя. Что-то неуловимое и необъяснимое взволновало ее в судьбе автора.
"Мало ли что там дома,– думалось,– а вдруг…" На ум приходило самое страшное. Как помочь?! Как?!»
И на следующий день, от руки, написала автору письма. Ее ответ был теплым. Нет, не сочувствующим. Просто человечным, рассеивающим отчаянье, отодвигающим душевную боль, вселяющим надежду.
"Милый, дорогой, Андрей Петрович! Растревожили Вы мою душу. Теперь она болит и у меня. Значит, Ваша боль уменьшилась в два раза. Да, жизнь непредсказуема, как и поступки наши. Но до чего же она хороша, эта негодница! Вот была я с мужем в выходные на рыбалке. Красотища-то какая! Утренняя тишина, ничто не шелохнется. Перед тобой озерное зеркало. И полгектара живого дна. Трогаешь воду ладонью: свежа, колюча и беспризорно холодна. Умоешься. Изумляешься: какое хранилище жизни! И
плетется твоя душа вслед за зовом первозданной красоты, скитается по побережью, по лугу, прядет свои причудливые образы в облаках, и ты в эти минуты понимаешь, что это благо – просто жить, просто все это видеть, созерцать, врачевать прозу бытийную этим неземным колоритом. Мы в редакции были рады Вашему письму, оно оттуда – из самой что ни на есть действительности. Оно – такое грустное и тревожное – пролилось отрезвляющим бальзамом на нашу повседневную занятость, суету, вернуло нас в святая-святых – осознание цены жизни.
И как бы трудно Вам сейчас ни было, поймите: жизнь бесценна! В любом ее проявлении, в борении или смирении, в страдании или радости. Я Вас нежно обнимаю. И рассчитываю на взаимопонимание. Ваша Евгения Ткачева, Главный редактор еженедельника "Народная справедливость…».
Ответа в редакцию не последовало.
Но, находясь по долгу службы в этом районе области, Евгения попросила коллег съездить с ней в село, где проживал Андрей Петрович. И как же ей было радостно, когда во дворе сельской школы она увидела инвалидную коляску, окруженную детворой.
Мужчина раздавал детям нехитрые деревянные поделки-свистульки и смеялся вместе с ними.
Позже, когда встретились и разговорились, Андрей Петрович доверчиво поделился:
– Я ведь и впрямь хотел наложить на себя руки. Но меня спасло
ваше письмо. Я храню его до сих пор. Оно читано-перечитано до
дыр. Оно спасает. За "милый", "дорогой", "обнимаю", за нежность Вашу – низкий поклон. Мы ведь здесь, да и везде, не упиваемся лаской, забываем, что она вообще существует. А ведь это и греет душу. Я теперь вместо "до свидания" всем говорю "обнимаю". Эти слова – настоящие паутинки человечности. Их нужно лелеять. Иначе дунешь сильно, дохнешь невпопад – оборвутся, даже от невзначай обидного брошенного слова. Потом не свяжешь…
– Значит, рана отчаянья в прошлом? Вы помните, цитировали в письме стихи Александра Кочеткова? А ведь там и продолжение есть, стихотворение длинное…
– Я все слова знаю. И если бы писал сейчас, то цитировал бы другие строки, те, что внучке нравятся, жизнеутверждающие.
Пришло время прощаться.
– Ну, что ж, счастья Вам и радости!
– Э, нет, а где же "обнимаю"?
Женя нежно обняла сидящего в коляске Андрея Петровича. А про себя подумала:
– А ведь этого объятия могло и не быть…
*
В последнее время Евгения стала замечать за собой странную вещь: не успеет возникнуть какая-то проблема, как она обнаруживает, что эта или другая тема ей уже знакома, причём, из самых разных областей. Всё же работать в журналистике архи-интересно. Эта работа сложна, ветвиста и пестра. Видимо, так её и можно обозначить. Необъятный круг вопросов, с которыми сталкивает тебя эта профессия, становится реальной пищей для сочинительства. Автору не надо ничего придумывать, ибо в этом случае главным выдумщиком становится сама жизнь. Та, которая подтверждает фразу «нарочно не придумаешь».
« Так и напишу в книге. Хватит на сегодня.– С утра совещание в администрации. Надо выспаться. Завтра прочитаю, как я тут «живописала» свои мысли. Уж не много ли деталей?»
Она же не виновата, что для неё не было не только скучных вещей, но и обстоятельств, их породивших. У неё было свойство видеть в обыденных ситуациях те коллизии и черты, что всегда ускользают от поверхностного или усталого взгляда. Её авторское зрение было всё же зорким. К тому же она ещё знала, что, например, можно одной фразой, даже словом, обозначить внутреннее содержание человека, своеобразие его отношения к миру. Обожая прозу А.П.Чехова, она училась в обычном, будничном, простом открывать черты необыкновенного, что и делает писателя подлинным художником.
И всё же подробностями, деталями не стоит злоупотреблять.
Произведение, обремененное подробностями, всегда несёт впечатление насилия, совершаемого над душой человека, или это не так? И так, и не этак. Деталь должна стоять на своём месте. Если же она прицеплена не органикой, а волей автора, взболтает взвесь смысла, и попробуй тогда уличи его в неверности.
*
Незаметно, сопровождаемая эстафетным ритмом букв на клавиатуре, наступила полночь. В эти часы отдохновения природы в воздухе разливались все запахи земли. Ранние весенние цветы под её окнами уже струили свой нежный тонкий аромат. Медленные дуновения ветра заносили в открытое окно всю свежесть ночного воздуха.
Во сне она видела, как плакала Луна, чувствовала, как ветер свистел и плевался в стёкла окон. Лунный диск был исчерчен бороздками слёз, она, протянув руки, их собирала, горячие и золотящиеся. Присмотревшись, в ладонях заметила клавиши, издающие необыкновенные звуки, несущие несказанную радость…
Проснувшись, посмотрела на часы: начало шестого. Хотелось вернуться в объятия той музыки из сна, но не получилось. Хотя оставалась в восторженном состоянии, мысленно уносясь неведомо куда.
Евгения умудрилась к утру даже выспаться. Хотя спала-то всего ничего – часов пять. Быстро приведя себя в порядок, выпив привычную чашку кофе с молоком, почти выбежала из дома. Заметила при этом у крыльца белые головки ранних подснежников. «Весна…». Было заметно, что солнце то протягивало наружу, то втягивало в себя свои лучи; краски то дремали, то просыпались; линии то бежали, то останавливались. Вокруг почти ободняло.
Вначале – в редакцию. К одиннадцати – на совещание.



