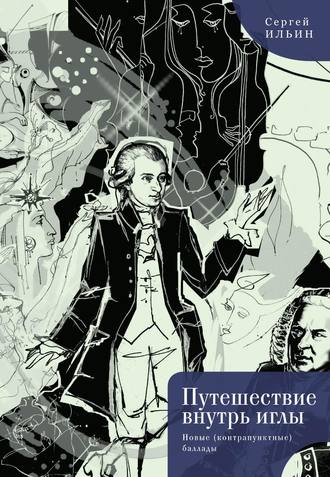
Сергей Ильин
Путешествие внутрь иглы. Новые (конструктивные) баллады
XX. Баллада о Любимом Коте
1
Мой кот мне больше, чем приятель, —
он член моей семьи давно,
неважно, кто его создатель:
здесь все на славу создано.
Короткошерстный он и серый,
британский, голубых кровей, —
но на английские манеры
плюет мой русский котофей.
Как все коты, он не считает
людей творения венцом, —
и дружбу только к тем питает,
в ком чует душу за лицом.
Мудрец немного, жить он волен
без всяких мишурных убранств, —
и потому вполне доволен
пределом комнатных пространств.
Что говорю? по жизни тянет
в духовном смысле он меня:
тем, что без пищи дни протянет,
а без любви так и ни дня.
Собак он вовсе не боится,
и птичку вряд ли задерет, —
но если ссоре быть случится,
на нас он сразу же орет!
Семьи гармонии хранитель,
стареет он быстрее нас, —
и в чудную зверей обитель
сойти его все ближе час.
Его я там потом и встречу,
а если нет? вскричит простак, —
тогда – с готовностью отвечу —
я что-то сделал здесь не так.
И разве вместо благ премногих
нам встретить снова не важней,
пусть и слегка четвероногих,
но самых преданных друзей?
2
У меня есть кот из породы британских короткошерстных, у него поистине королевская родословная, и у всех нас – домашних – сложилось мнение, будто больше всего на свете он любит меня: почему? в любое время дня и ночи он требовательно зовет меня поласкать его, и эти ласки для него даже важнее еды, не говоря уже о прочих занятия, – есть, однако, только одно место в нашей квартире – на кухонном шкафу – где он привык, чтобы я ласкал его, другого места он не признает, и если я, скажем, болею, он не приблизится ни на шаг к моей постели, – и вот я спрашиваю себя, точно ли это его чувство – любовь ко мне, и нет ли тут скорее своеобразного и почти религиозного ритуала? ведь это малое серое животное сначала избрало меня среди прочих двуногих, потом оно назначило место отправления ритуала, и наконец определило главного жреца его, то есть меня, а тот, ради которого все это организовано, – это и есть он сам, мой британский короткошерстный божок.
Нет, вы только вдумайтесь в это, любезный читатель! сколько здесь нюансов, не уступающих ни одной мудрой книге и сколько субтильной иронии! итак, сначала идет воля, а потом любовь, так всегда было, есть и будет, Шопенгауэр прав: только волей создавались миры и мировые религии, а любви там всегда было, – возьмите хоть Иисуса, хоть Будду: слов о любви вокруг них было сказано немало, а вот реальные и живые проявления любви в их непосредственном окружении вы будете искать, как говорится, «днем с огнем», да и Анна Каренина после родовой горячки вроде бы вернулась к мужу, сделав серьезную заявку на победу любви общечеловеческой над любовью избранной и половой, – вот только, к сожалению, ненадолго: кто не замечает, что здесь незримо схватились гений Льва Толстого и гений Иисуса, и что первый одержал безусловную победу над вторым, тот ничего уже не видит.
Хотя – известен случай собаки, ежедневно навещавшей место, где она в последний раз видела своего погибшего хозяина… но ведь у собаки иная конфигурация воли, так что сам по себе постулат о превосходстве воли над любовью от этого нисколько не страдает, – только вот что нам с этим постулатом делать? сетовать на него? радоваться ему? и то и другое, скажем так, не совсем прилично, – и вот, рванувшись для вида сначала в одну, а потом в другую сторону, остаешься на месте и оставляешь все как есть… прекрасно!
3
Все, как известно, коты – просто в силу кошачьей природы,
встретив впервые людей, недоверчиво смотрят на них:
видят в нас сложную вещь, предсказуемый, в общем-то, робот,
с множеством разных программ все животные, прежде – коты.
Матрицу в нас распознать, что добром, как и злом управляет,
в наших сумбурных сердцах должен быстро и точно их взгляд,
времени мало у них, промедление смерти подобно,
здесь ошибиться нельзя, хоть задача их очень сложна.
Разве не та же рука их погладит, утешит, накормит
или на месте прибьет? говорят – человека рука…
хоть очевидно для всех, что не может и близко быть сходства
между владельцами рук – они будто с разных планет, —
и вот все это понять: безошибочно, тихо, мгновенно
должен наш маленький зверь – и душевная ноша его
в этот малый решающий миг не уступит героям Шекспира:
вот и решай для себя, что важнее – искусство иль жизнь…
Правда, бывает и так, что коты от людей убегают
в точности зная, что те не желают им зла причинить, —
может, играться хотят, а скорее, дистанцию держат:
особь двуногих существ не обязаны кошки любить.
Впрочем, у них есть черта – не заметить ее невозможно —
к людям почти что любым, даже тем, кто содеял им зло,
дверь приоткрыта у них: так что каждый, кто искренне хочет,
снова в доверье войти и живое общенье творить,
может в ту дверцу войти, – только что вот из этого будет,
точно нельзя предсказать: возродится ль меж ними любовь,
или одна лишь приязнь, иль спокойная ровная дружба, —
все со смиреньем принять должен будет тогда человек.
Так происходит, когда посещает супругов измена:
хоть и убита змея, не проходит годами укус…
Много успел я узнать точек зрения на человека
в сущностном срезе его, – в них единство напрасно искать:
боги вещают одно, им по-разному вторят святые,
сам о себе человек разногласья одни говорит,
также у диких зверей не найдем мы на это ответа,
разве спросить марсиан? они только плечами пожмут…
Так что, итог подводя и желая то мнение выбрать,
в коем не истина, нет, но подобие истины есть
в главном аспекте ее: наибольшем сближении с правдой, —
взгляд нам придется принять, каким смотрят кошачьи на нас, —
образ, увиденный в нем, нам о нас основное все скажет:
зеркало хочешь иметь, заведи-ка, дружище, кота!
XXI. Баллада о Человеческом и Божественном в Природе
1
Человеческое в природе можно наблюдать на каждом шагу, более того, при ближайшем рассмотрении кажется даже, что нет в природе ничего, что было бы вовсе лишено хотя бы отдаленного сходства с людьми, поэтому трудно остановиться на чем-то определенном, – разве что наугад ткнув пальцем… пусть это будет всего лишь в качестве примера, соперничество, – что за опасная вещь! оно уже между супругами работает как мина замедленного действия, оно в состоянии разрушить любую дружбу и погубить на корню любое живое и теплое чувство, оно разрушительно во всех областях жизни за исключением, быть может, спорта, оно явилось причиной многих войн, и оно же, как поговаривают злые языки, было главным мотивом отпадения Люцифера от Бога, – в мире животных центральную роль соперничества можно наблюдать на примере приручения львов и тигров: действительно, если, с одной стороны, собака сама по себе не может быть злой, когда хозяин ее добрый, и если, с другой стороны, змею приручить невозможно по причине змеиной ее природы, то укрощение тигров и львов неизменно стоит на обоюдоострой грани, то есть сохраняется риск смертельного нападения на человека, будь то укротитель или посторонний, а все потому, что львы и тигры – в отличие, например, от более слабых хищников, таких как пантера или леопард, которых можно воспитывать без страха для жизни и которые способны реально впитывать в себя человеческую любовь и (только) вместе с нею ощущение естественного превосходства людей над животными – так вот, тигры и львы чувствуют себя в первую очередь не друзьями и тем более не подчиненными человека, а его врожденными соперниками, и ничто не может устранить до конца в них это царственное и вместе ужасное настроение души: сам образ человека понуждает их нападать на него снова и снова, даже если они сыты и нет угрозы потомству, в случае же их приручения запоздалое и внезапное осознание нанесенного их природному достоинству оскорбления чревато гибелью для всякого, кто оказывается в этот критический момент в их непосредственной близости.
2
Как и феномен любой, относительна всякая святость,
степень здесь очень важна, в какой мы над природой своей,
не упраздняя ее, приподняться естественно можем, —
так что кому не дано сил, чтоб подвиг духовный свершить,
но кто свершает его – каким образом, нам непонятно
в наших бывает глазах предпочтительней даже того,
кто совершенен во всем по причине природы счастливой:
то есть в ком Низшего нет и кому неизвестна нужда,
к Высшему сердцем стремясь, себя вечно тащить из болота,
за уши больно схватив, – потому в ядовитой змее,
что, хомячка получив в своей клетке однажды стеклянной,
чтобы всего только жить – вегетариев нет среди змей —
вместо того чтобы съесть, завела с ним престранную дружбу —
так что и ныне они вместе рядышком мирно живут, —
да, в этой самой змее – справедливости ради единой —
святость должны мы признать, не копаясь в мотивах иных.
Ибо копаться в душе даже светочей самых великих
есть неоправданный риск: там найдем мы чудовищ таких,
что и в морской глубине не так часто, быть может, и встретишь,
ну, а поскольку пример хомячка с дружелюбной змеей
не единичен отнюдь: много случаев слишком подобных! —
мир нам природы милей недоступной когорты святых.
Правда, об этом молчат: только то, что не вверено слову,
жить нам возможность дает без оглядки на совести глас.
3
Итак, Божественное в природе сказывается не в безусловном превосходстве Высшего над Низшим в том или ином живом существе, а в той (обычно малой) мере, в какой Высшее преодолевает Низшее, не изменяя и тем более не упраздняя собственную природу: поэтому в тигре, живущем в братском сожительстве с козлом, или в львице, воспитывающей юную антилопу как своего детеныша, следует без всякого преувеличения признать черты подлинной святости, – но больше всего их в той змее, которая подружилась с брошенным ей на съедение хомячком: вот почему, наверное, мир животных мы заключаем в сердце целиком и полностью и без каких-либо ограничений, тогда как на первый взгляд идеальный и запредельный мир разного рода святых, чудотворцев, подвижников и духовных учителей нами интуитивно воспринимается хотя и с восторженным удивлением, но одновременно и с некоторым нутряным сомнением, точнее, с идущей из глубины души насущной потребностью как следует разобраться в этом чрезвычайно важном для нас деле: то есть какова природа этих выдающихся людей? в чем заключается их Высшее и где залегает их Низшее? а главное, какова у них степень преодоления Высшим Низшего? однако поскольку удовлетворительно ответить на все эти ключевые вопросы принципиально невозможно по причине исключительной сложности рассматриваемого феномена, постольку некоторая (и втайне радующая нас) затруднительность в осуществлении последнего и решающего выбора – подобно Дамоклову мечу – висит над нами, и мы продолжаем как ни в чем ни бывало жить между обоими мирами, как сидеть между двумя стульями.
XXII. Баллада о Бомже с Собакой
1
Когда в один прекрасный день, прогуливаясь по Зендлингер-штрассе, одной из самых характерных улиц Мюнхена, и остановившись в задумчивости подле Старых Ворот из красного кирпича, этой столь же древней, сколь и трогательной достопримечательности города, вы видите сидящего в аркадах старика-нищего в разодранном пальто, смахивающем на картофельный мешок, и с замусоленной кепкой в руке, рассеянно разглядывающего праздную толпу, пытаясь придать лицу униженно-просящее выражение, обращаете, далее, внимание на какую-нибудь грациозно продефилировавшую мимо молодую женщину с точеными чертами лица, осиной талией, белой блузой поверх черной майки, в плотно облегающих джинсах и с теннисной повязкой вокруг высокого сжатого лба, замечаете потом, что смотрит на нее и старик-нищий и даже провожает женщину внимательным долгим взглядом, но в его глазах, когда он поворачивается к вам, почему-то неуверенным жестом указывая на кепку, не отражается и следа известного великого волнения, а вам, как всякому русскому человеку, воспитанному на Толстом и Достоевском, вдруг хочется сказать ему что-нибудь простое, веское и утешительное, вроде того, что, мол, жизнь, что ты с нами делаешь, однако он, точно догадавшись о ваших несуразных мыслях, недовольно от вас отворачивается, – да, вот тогда экзистенциальная ненужность любого слова, если оно не подкреплено жестом или поступком, а еще лучше, жизненной позицией того, кто его произносит, то есть негласное предпочтение ему волевого молчания и вечной и бесконечной, как универсум, дистанции, – итак, эта крошечная деталь опять и в который раз бросается вам в глаза как, пожалуй, главное отличие между тем, что есть мир западный, и тем, что мы понимаем под русским миром.
Если же рядом с ним сидит еще и собака, причем третья по счету на вашей памяти (первую вы помните совсем смутно, вторая была старая и больная, еле-еле дышала и на людей совсем не смотрела, и вот откуда ни возьмись, появилась третья четвероногая помощница бомжа), и она тоже ни на кого не смотрит, в том числе на своего бесприютного хозяина, лишь время от времени вдыхая порывы ветра и щурясь на солнце, так что невольно кажется, будто она стыдится своего положения в этом мире, не говоря уже о хозяине, – да… тогда сцена с бомжом приобретает ту самую абсолютную законченность, в которой тихо жужжит, подобно осе, попавшей в пространство между двумя рамами и пытающейся любыми путями выбраться наружу, музыка баллады.
2
Зендлингертор – выхожу из метро:
Старого Города чую нутро.
Прошлое тихо здесь льется мне в грудь,
шумного дня не касаясь ничуть.
С вечностью под руку чтобы гулять,
хоть каждый день я готов приезжать
к Зендлингертору и только сюда —
здесь не наскучит гулять никогда!
Бомж там знакомый сидит у Ворот,
рядом – собака (а лучше бы – кот).
Бомжа стараюсь постигнуть я суть:
в душу прохожих он хочет взглянуть, —
точно стараясь опять угадать,
сколько вот этот ему мог бы дать, —
что, проходя сквозь бомжей редкий ряд
вдруг задержал умиленный свой взгляд
пусть не на нем (он – открыточный вид),
но на собачке, что рядом лежит.
Тошно от ближних нам вечных гримас.
Трогают больше животные нас.
Этот великий, но грустный закон
хитрый мой бомж и поставил на кон
в вечной, как мир, безобидной игре:
строгим не будем к его мишуре!
Правда, мне память как раз помогла:
третьей по счету собачка была —
с тех пор как бомжа приметив того,
пристальней стал я смотреть не него.
Не повезло им совсем с протеже:
прежние, видно, скончались уже.
С новой собачкой теперь он сидит,
так же в сторонку собачка глядит.
Может быть, стыд за хозяина ей
не позволяет смотреть на людей.
Может, сочувствием к бомжу полна,
молча любовь ему дарит она.

XXIII. Баллада о Слепой Женщине
1
В те же часы и на том же углу:
чужда добру, а тем более злу,
что так сближает всех зрячих людей —
точно съестное случайных гостей —
пела – одна перед пестрой толпой —
женщина, что от рожденья слепой,
как утверждают зеваки, была.
Рядом собачка в корзинке спала.
Был ее голос слегка грубоват.
Жест полных рук также чуть угловат.
Голову к солнцу она подняла —
нежит безглазье слепящая мгла.
Тихо в пустых и зеркальных зрачках
небо плывет в надувных облаках.
Да и весь город с его суетой
там приумолк – за нездешней чертой.
А между тем из снующих людей
каждый задерживал взгляд свой на ней:
что ж, к негативу слепого лица
склонны присматриваться без конца
мы – любопытство нам трудно унять:
душу без глаз невозможно понять.
Кто-то монетку ей в блюдце бросал.
Кто-то словцом остроумным блистал.
Кто-то, ее пародируя, пел.
Кто-то еще на собачку глядел.
В общем, людей и вещей длинный ряд,
к ней прикоснувшись, как будто обряд —
низкий? высокий ли? но – исполнял,
и только вид напускной сохранял,
что они нынче от мира сего,
и в них неясного нет ничего.
Если бы пестрая знала толпа:
женщина, что от рожденья слепа,
здесь не за тем, чтоб людей удивить —
кошечек дома ей нужно кормить.
Сам я, едва лишь об этом узнал,
разом нашел, что так долго искал:
там, где сочувствия полного нет,
тайны игривой мерещится свет.
Если ж сочувствием сердце полно,
к тайне любой безразлично оно.
Это к тому я упорно клоню,
что для начала в себе на корню
я бы ту склонность хотел упразднить,
что заставляет нас больше ценить
тайну, чем близких вокруг нас существ,
тайну как сгусток тончайших веществ…
Разве не грех – отдавать веществам
больше любви, чем живым существам?
Как никогда на слепую смотрел
я – и впервые, быть может, прозрел.
2
Приходилось ли вам замечать, любезный читатель, что лица слепых людей по причине отсутствующего выражения глаз выглядят почти всегда для нас, зрячих, отчуждающе и безобразно, но при всем этом вызывают, как правило, безотчетное чувство общечеловеческого, я бы даже сказал, космического сострадания, причем достаточно интенсивного порядка, так что слезы сами наворачиваются на глазах?
Иной раз приходится видеть несчастья неизмеримо большего масштаба, а глаза не плачут, в чем причина? причина, думается, в кратковременном исчезновении привычной иерархии в оценке вещей: ведь когда мы смотрим в глаза другому человеку, мы встречаемся – или думаем, что встречаемся – с его душой, а душа эта по самому своему определению настолько сложный и многогранный феномен, что мы вынуждены поневоле на него настраиваться и под его воздействием даже перестраиваться, то есть все наши психические чувства – коим нет числа, а еще пуще производным от них возможностям – никогда не выступают в своей исконной целостности, но, как железные опилки в магнитном поле, в зависимости от контакта, выстраиваются в определенном и своеобразно оформленном порядке, то есть чужая душа, будучи сама по себе загадочным явлением, является вместе с тем источником отнюдь не загадочного – и гигантского по своим масштабам комплекса причин и условий.
И вот все это опускается во время наблюдения над слепым человеком, – иными словами, вместо того чтобы отдаться сложнейшему конгломерату осмысления чужого страдания и своему отношению к нему – кто этот человек? каким образом постигло его горе? заслужил ли он его? не кармической ли оно природы? как он его переносит? могу ли я ему помочь? как он будет реагировать на мою помощь? нужна ли она ему? не притворяется ли он, желая моей помощи, и не использует ли меня? и так далее и тому подобное – итак, вместо всей этой невидимой, обременительной, мелочной и по большому счету унизительной работы, предшествующей практически любому акту альтруизма, в нас вдруг возникают сочувствие и сострадание в их чистом, незамутненном, исконном виде: как если бы вместо золотого песка, который нужно еще отмывать и отмывать, явился вдруг чистейший слиток золота.
Да, когда мы смотрим на слепую женщину, которая, чтобы прокормить своих кошечек, выходит с собакой на улицу петь и даже пытается совершенствовать свое пение профессионально, – мы испытываем ощущение, будто наши сочувствие и сострадание к ней на мгновение отделились от всех прочих чувств, налились плотью и кровью и, точно наскоро выструганные папой Карло, выглянули боязливо из души: немного неуклюжие, неприспособленные для жизни, но вполне самостоятельные, то улыбчивые, то плачущие, а главное, монументальные в размерах, – и в этом есть что-то буддийское: так можно сочувствовать только существам из другого мира, так мы сочувствуем животным, так мы сочувствуем иным особенно полюбившимся литературным персонажам, – и если бы я во время какого-нибудь греческого отпуска увидел где-нибудь в пещере истекающего кровью циклопа, которого бы заживо поедали муравьи и мухи, но который бы нашел в себе силы взглянуть на меня единственным своим глазом, и что-нибудь проворчать угрожающее и бесконечно жалостливое одновременно, то, я думаю, какими бы нечеловеческими ни были этот его предсмертный взгляд и это его последнее рычание, я не сдержал бы слез: как и глядя на ту слепую женщину.
3
Она стояла на углу и – пела,
и сколько рядом ни было людей:
застывших на трамвайной остановке,
сидящих праздно в уличном кафе,
снующих взад-вперед по перекресткам
иль высунувших голову в окне, —
а также с ними связанные вещи:
как небо, скажем, в легких облаках,
как в нем же ослепительное солнце,
и как под ним – в предвечной суете —
этот родной и надоевший город
(ибо с природой он несовместим,
а человек желал бы быть с природой
в единстве полном, правда, на словах), —
итак, в тот час как люди, так и вещи
не то что были заворожены
тем, как слепая женщина им пела
(как будто бы хотела и могла
она в своем сомнительном искусстве
Орфея подвиг дерзко повторить), —
но как бы все они вдруг приумолкли,
стараясь и не в силах осознать,
что значило – не столько даже пенье,
сколь непривычный облик весь ее:
этот правдивый, неизящный голос,
и грации неженской торжество,
достоинство в движеньях угловатых,
но главное – незрячие глаза:
они что-то такое излучали,
что трудно было выразить в словах, —
так, говорят, есть в сердце мирозданья —
оно иначе и не может быть,
если к ночному небу присмотреться
с внимательностью полной хоть бы раз, —
так вот, там есть невидимое солнце,
чьи смертоносны для людей лучи,
да и, пожалуй, для всего живого, —
за исключеньем разве тех существ,
в ком воплощение духовной жизни,
мы не сговариваясь признаем,
да, солнце темное лишь им нестрашно:
теперь оно нестрашно также ей,
но по другой, болезненной причине…
двусмысленность всегда томит людей
и как-то странно, непонятно их волнует, —
подобное волненье и сейчас
помимо воли люди ощущали,
внимая пенью женщины слепой,
понять пытаясь, что же это значит…
да, также заторможенность была
во всех их чувствах, мыслях и поступках,
как будто из глубокой фазы сна
их вырвал ненароком чей-то окрик
и, миру бдения и миру сна
одновременно будучи причастны,
но ни в одном себя не находя,
они, лунатикам подобно, бродят,
напоминая кукол заводных…
быть может, если б люди вдруг узнали,
зачем слепая женщина поет:
не для того чтоб прокормить собачку,
на одеяльце спящую у ног
(хотя и этого вполне довольно,
чтоб отвернувшись слезы утереть),
а ради многих кошечек своих —
этаких трогательных капризулей,
что выборочны как назло в еде,
и чье питанье стоит ощутимых денег, —
да, если бы о том могли узнать
все эти заколдованные люди,
то б их оцепенение прошло,
как в сказке об Уколотой Принцессе,
и на слепую стали бы смотреть
они уже прозревшими глазами:
как на почти что равную себе, —
она бы в главном сделалась понятной…
(ведь только то, что непонятно нам,
в нас вызывает страх и восхищенье, —
но оба эти чувства далеки
от жизни самой важной: повседневной,
и потому их нужно избегать,
и разве что в каком-нибудь искусстве,
дабы отвлечься от житейских дел,
ища разнообразья, ненадолго
ими с душой увлечься хорошо)…
так вот, о чем мы говорили?
да все о том же: о мирах иных,
о том, что люди, если разобраться,
по части фантастичности равны
как минимум, гомеровским циклопам,
о том, что только музыка одна
спасает мирозданье от распада,
и что любовь двусмысленна всегда
(в ее груди все чувства приютились,
и злобы подколодная змея
там вековечно и открыто дремлет,
и ревность, и предательство, и гнев,
и месть – все человеческие страсти,
питаясь от источника любви,
сдвигают музыкальные орбиты
вращения людей всех и вещей,
толкая их к великим катаклизмам),
и любящая разве доброта —
сочувствие как ко всему живому —
с присущей ей дистанцией во всем
быть может, сохраняет этот мир
в гармонии… да, музыка одна
лежит в основе всякого творенья, —
и пение той женщины слепой,
подобно лире древнего Орфея,
заставило прохожих в летний день
порядок мироздания припомнить…
как странно, что похвастаться не мог
подобным мощным действием на душу
один хоть симфонический оркестр —
а они много дали здесь концертов! —
(спешили звуки в ухо там войти,
чтоб выйти тут же из другого уха), —
поистине, мне крупно повезло,
что, оказавшись в тех местах случайно,
услышал я кондукторшу: она
сказала пару слов о женщине поющей, —
ведь были-то соседками они…
тотчас я, повинуясь зову сердца,
с трамвая дребезжавшего сошел, —
и до сих пор не только не жалею
об этом, но готов тот день считать
одним из самых лучших в моей жизни:
а было их немало у меня.





