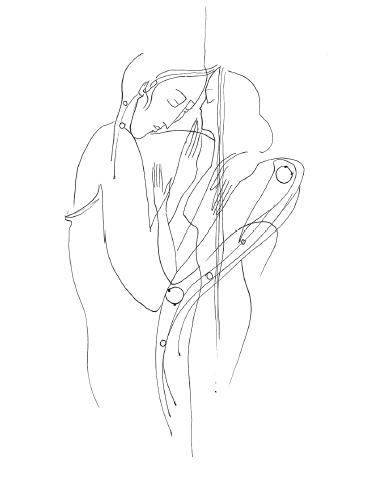Сергей Ильин
Душа и взгляд. Баллады в прозе
XII. Добрый старый слуга
Наши основные, то есть врожденные и практически неустранимые никем и ничем страхи подобны нашим же старым и верным слугам, которые, служа нам верой и правдой, оберегают нас не только от опасностей мира сего, но и от дверей в Неизвестное, —
а между тем, только смело и на свой страх и риск открыв одну из них, можно войти в новый для себя мир, тогда как другого входа туда как будто бы нет, —
итак, наши слуги-страхи, будучи к нам приставлены от рождения, зная нас как облупленных и все же догадываясь, что есть на этом свете двери, точно созданные для того, чтобы мы через них вошли, тем не менее и на всякий случай устраивают всякий раз неприличную потасовку, когда судьба подводит нас к подобной двери, —
и разыгрывается в тот момент одна и та же, наполовину трагическая, наполовину комическая сцена, а именно, —
мы и наш персональный страх, схватив друг друга за грудки, молча катаемся по полу, но в конце концов, как и полагается, мы одерживаем верх, поднимаемся, отряхиваемся, перешагиваем черех побежденный страх, открываем заветную дверь: там свет, воздух и новая жизнь! делаем шаг в только что завоеванное с таким трудом жизненное пространство, глубоко забираем в легкие опьяняющий тонкий эфир, —
а потом с некоторым виноватым упреком оборачиваемся к нашему незадачливому слуге, поднимающемуся как раз с пола: «Мол, что же ты нас удерживал?», —
однако тот, чертыхаясь и отплевываясь, демонстративно смотрит в сторону, как театральный артист, который для пущей выразительности отвернулся и от своих коллег, и от зрителей, —
догадываемся ли мы, что он делает это, как и подобает образцовому слуге, единственно из благородного побуждения: чтобы мы сами не догадались, что он боролся с нами только для вида?
XIII. Баллада о древних богах и серой мыши
Если вы, будучи эмигрантом и прожив две трети жизни, скажем, в Мюнхене, прогуливаясь однажды поздно вечером по городу в компании какого-нибудь вашего гостя из России, вспомнили вдруг вашу любимую отпускную страну, —
а ей может быть, конечно, только древняя Эллада или точнее, то, что от нее осталось, —
вспомнили дискретно-покровительственные улыбки гостей в отельной столовой при виде упрямо просовывающихся в плотно сжатые и тем не менее такие доступные ладони тамошних кельнеров, вспомнили жалобный вой побитой хозяином придорожной таверны собаки, вой, в котором не было ожидаемых упреков, а были только пронзительные сетования на причиненную ей несправедливость, вспомнили, как однажды выдался пасмурный день, около часа накрапывал мелкий теплый дождь, пляжи опустели, туристы разбрелись по городу и их скучающие праздные лица на каждом шагу, точно об стенку, упирались в приветливую непроницаемость лиц местных жителей, вспомнили, как ежедневно совершала свой путь вдоль моря с увесистыми корзинами пожилая статная гречанка, и в одной ее корзине были фрукты, а в другой сладкие лепешки, и женщина невозмутимо выкрикивала свой товар, не расхваливая его и не радуясь, когда находились покупатели, лишь время от времени ставя ношу на песок, посреди бледных намасленных туристов, занявших, кажется, каждый квадратный сантиметр узкой прибрежной полоски, отирая платком вспотевшее лицо, поднимая бремя свое и идя дальше, —
итак, если вы вспомнили все это и готовитесь дальше вспоминать в том же духе, да кто-то неподалеку как назло зажег сигарету, дожидаясь пока его собака, вдоволь нанюхавшись, возвратится из-за кустов, в то время как из побочной темноты грянет на вас колокольный перезвон, возвещающий два часа до полуночи, и будет в этом перезвоне насильственная, непрошеная весть из потустороннего мира, но будет и акустическая мера, весть эту на лету ослабляющая и приспосабливающая к нашему мирскому уровню, —
да, если в качестве маленького чуда состоятся все эти непростые и несоединимые на первый взгляд между собой условия, то – самое время сходу завернуть за угол, миновать антикварную лавку с древним оружием и грозными масками в полутемных витринах, пройти мимо игрушечной лавки, еще раз свернуть налево и – прямо упереться в греческую таверну, которая будет обязательно иметь скромный вид, а название непременно громкое, под стать гомеровскому эпосу, и конечно же с малым числом призрачно колеблющихся в желтых окнах посетителей в этот предполуночный час.
Ну, а если, далее, пожилой полный кельнер в жилетке и с широко расстегнутым воротом будет стоять снаружи перед дверью, заложив руки за спину и внимательно наблюдая, как под фонарем мышь поедает хлебную корку, а его молодой и по-видимому начинающий помощник, тоже не зная чем заняться, но не осмеливаясь застыть в монументальной бездеятельности, подобно старшему коллеге, будет протирать для вида окно, если, продолжаю, увидев вас, пожилой кельнер с трудом оторвется от зрелища ужинавшей мыши, молча и с достоинством проведет вас вовнутрь таверны, усадит за самый уютный, по его словам, столик в углу: как раз рядом с миниатюрным амурчиком, зажавшим в пухлых ручонках корзину с цветами, если, далее, ваш спутник, поблагодарив вас за приглашение, сейчас же углубится в изучение меню, а вы, оглядевшись, убедитесь, что это типичная греческая таверна за границей, отдающая кичем, но милая взору всякого, кто успел побывать в Греции и полюбить эту коротающую в архаической дреме какое уже по счету столетие островную колонию, и потому здесь обязательно будут, во-первых, неизменный фрегат над баром изумительной ручной работы, во-вторых, сеть под закопченым потолком, где искусно запутались разнообразные и высушенные дары моря, как-то: гигантский краб с чудовищно непропорциональными клешнями, рыба-меч, косоглазая камбала, чучело спрута, громадные раковины и прочая морская прелесть, в-третьих, любительские акварели на стенах, в-четвертых, дискретно белеющие среди пышной парниковой зелени гранитные копии великих работ древности, а в-пятых и самое главное, с потолка, из замаскированного в щупальцах медузы старенького прибора будет литься заунывная бессмертная музыка, от которой повеет нестерпимой архаической ностальгией, разрыхляющей душу и не открывающей ей выхода в действие, опять-таки в отличие от итальянских или испанских мелодий, —
итак, если все эти детали будут иметь место, значит вы сделали правильный выбор и можете считать, что вечер ваш вполне удался, —
и тогда самое время заказать запеченый овечий сыр, начиненные фаршированным мясом баклажаны, бараньи котлеты в виноградных листьях с помидорами, а для начала графин домашнего красного, когда же, наевшись и напившись, переговорив на все личные и безличные темы, вспомнив всех, кого хранит двойная память, меж вами возникнет, наконец, неловкое молчание: этот милосердный бог смерти любой встречи и любого общения, и вы украдкой посмотрите на часы, жестом закажете кофе, и почти в ту же минуту юноша-прислуга с лицом бога-Танатоса оставит на столе две чашечки с выпуклой поверх краев кремовой пенкой и две рюмки анисовой водки: традиционный подарок хозяина угодным ему гостям… подождите на минуту расплачиваться: обратите внимание, как на пепельном столбике истлевшей до фильтра сигареты запечатлелось название ее марки, —
эта обостренная внимательность поможет вам осознать, почему нынешний вечер оказался одним из наилучших в вашей жизни.
Думаете, дело во встрече с вашим соотечественником? да, но только отчасти, или в хорошей еде? атмосфере? настроении? да, и в этом тоже, но все это, поверьте, не главное, —
и как черт, согласно пословице, сидит в детали, так главная причина того, почему вы до скончания дней не забудете нынешний вечер, заключается во внимательном созерцании старшим кельнером поедающей корку хлеба под фонарем мыши, потому что – и это ясно ребенку – если бы ее не было, вы попросту прошли бы мимо этой таверны в поисках другой и более приличной, тем более что их в центре Мюнхена несколько, а вам, собственно, опытный в ресторанных делах приятель рекомендовал как раз ту, что кварталом дальше, —
но мышь все решила: кстати, когда вы встанете из-за стола и хозяин, довольный чаевыми, проводит вас до дверей и сердечно с вами простится, а вы с порога ступите во мрак и холод, притворно смягченные неоновым светом, то мыши под фонарем уже не будет, зато по-прежнему угрюмо и неуклюже, точно приклеенные, будут шелестеть на ветвях еще не сорванные ветром бурые листья, —
и пусть в октябрьском полуночном мюнхенском небе немыслимы древние светлые греческие боги, все-таки далекая улыбка их, так похожая на мигание бледных звезд, намекнет вам, что это, быть может, именно они послали мышь на вашем пути в тот памятный вечер, —
тем более, что приятная свинцовая усталость начнет как раз постепенно, но неудержимо налегать на лица всех окружающих вас людей, включая, конечно, и вас самих, —
и только в глазах мыши и богов никогда не читается усталость, —
но вам, пока ваша усталость приятная, не придет и в голову завидовать представителям иных миров, —
и лишь когда другая, последняя и далекая от приятности усталость вплотную к вам подступит, вспомните вы, быть может, и о мыши, и о древних богах, —
и до чего же трогательным до слез и непонятным покажется вам тогда ваш великолепно удавшийся ужин в тот октябрьский вечер в греческой таверне, что в центре Мюнхена, и с вашим соотечественником.

XIV. Центр и периферия
Очевидно, что именно глаза и особенно выразительный их взгляд в состоянии с лихвой оправдать дисгармонические и даже неприятные черты лица, —
более того, находясь под их непосредственным впечатлением, мы не можем и не хотим представлять себе иное, более гармоническое и симпатичное лицо, —
и наоборот, ничто так не портит лицо, как болезненные или усталые глаза, —
итак, глаза являются мерилом тонкой энергии в человеке, но главное: когда мы смотрим человеку в глаза, нам кажется, будто мы нащупали его психологический и даже духовный центр, —
и ничто так нас в этом не убеждает, как твердый, прямой и характерный для данного человека в взгляд, —
тогда как, напротив, бегающие и неуверенные в себе глаза нас настораживают и предупреждают, что лучше на такого человека не полагаться.
С другой стороны, жизненный опыт показывает, что не однажды люди с твердым и открытым взглядом оказывались на деле опаснейшими игроками, предателями и оборотнями, причем не обязательно в наихудшем значении этого слова, —
игроками, потому что в крупных играх, каковы деньги и власть, нельзя иметь только одно лицо и один взгляд: это ведет к проигрышу, стало быть холодные непроницаемые глаза есть своеобразное условие экзистенциальных игр, —
предателями, потому что верность одним людям и идеалам может войти в противоречие с интересами и даже просто внутренним развитием человека, и тогда он с тем же самым искренним взглядом отходит от одних и приходит к другим, и этот естественный для него переход зачастую истолковывается как предательство, —
и наконец, оборотнями, потому что в одном и том же человеке уживаются нередко черты характера настолько несовместимые между собой, что, когда они проявляются в полной мере, мы как будто имеем перед собой двух разных людей.
Итак, все говорит о том, что в нас существует как бы несколько равноправных центров, но мы инстинктивно закрываем на это глаза, пытаясь свести их к единому и обозримому центру: кстати говоря, мастерское и правдоподобное воплощение произвольного множества таких мнимо несоприкасаемых взаимно персональных центров и есть главная черта великого актера, —
и мы где-то сродни им, но нам не хватает таланта, а без него наше нутряное двойничество остается смазанным и неубедительным: быть может, правда, его смазанность и неубедительность задним числом как раз и показывают, что оно, это двойничество, в данном человеке не состоялось, —
стало быть, не во всех людях живут двойники, и большинство из нас убеждены в существовании некоего психологического центра, из которого вытекают все их чувства и поступки, —
каков он, спрашивается? прежде всего на ум здесь приходит характер, который по Шопенгауэру неизменяем, но разве можем мы сказать заранее, как поведем себя в той или иной экстремальной ситуации? и разве не меняется характер с возрастом, причем так радикально, что в зрелом человеке иной раз не узнаешь уже прежнего юношу? —
затем идет пол вкупе с эротическими фантазиями, и вот здесь уже искать какое-либо единство бесполезно: даже любящие супруги не застрахованы от тайных симпатий на стороне, и если бы они в них откровенно признались себе и другим, тотчас же рарушилось бы то более-менее законченное представление, которое о них сформировалось в обществе, в близких им людям, да и в них самих.
И тем не менее я не знаю никого, кто так вот просто заявил бы о себе: да, во мне живут разные и несовместимые люди, —
каждый, напротив, внутренне убежден, что, несмотря на потрясающую противоречивость натуры – которой все мы склонны гордиться и по праву: ведь чем противоречивей, тем мы глубже и интересней – в нем все-таки присутствует душевное единство, —
да, оно может залегать на недоступной глубине, но оно есть, и это главное, —
стало быть и задействовать его нам по силам: пусть не здесь и сейчас, а когда-нибудь потом и при других обстоятельствах, —
вот только на протяжении жизни оно почему-то так и остается незадействованным, зато латентная уверенность в возможности его раскрытия при одновременном и пожизненном неиспользовании такой великой возможности лежит, как мне кажется, в основе нашего игрового восприятия жизни, —
и как почти любое живое существо на земле, когда ему хорошо, затевает игру, так человек, подобно котенку, играющему со своим хвостом, играется с представлением о своей душе, —
поскольку же душа его есть место встречи всех иномирных сущностей и существ, как то: бога и богов, ангелов и демонов, смерти и бессмертия, и так далее и тому подобное, постольку в игру, но игру абсолютно серьезную и даже экзистенциальную, вовлечены суммарные измерения жизни и бытия.
Короче говоря: там, где есть подлинная антиномия, там есть и условия для настоящей игры, а так как все в жизни глубоко антиномично и сама жизнь суть воплощенная, живая антиномия, то и игру можно смело считать первоосновной философией жизни, —
и вот одним из аспектов жизни как игры и является как раз наше, можно сказать, врожденное убеждение в наличии в нас психо-метафизического центра при полной невозможности найти и зафиксировать его: это вместе и основная тональность нашего восприятия мира, —
в самом деле, с точки зрения новейших достижений физиологии мозга душа – как гипотетическое олицетворение психического центра – только соприкасается с мозгом, но отнюдь с ним не идентична, —
и как радио ловит разночастотные звуковые волны, не воспроизводя их, так мозг, судя по всему, лишь посредничает в душевной жизни, не создавая последнюю, —
истинный центр человека – как, впрочем, и мира – отсутствует, но отсутствие никоим образом не означает несуществования, —
нет, отсутствие помимо несуществования как раз и делает и мир, и человека неизбывно загадочными, ибо сама попытка прояснить Непроясняемое implicit заложена в природе отсутствующей истины, да вот вам пример, —
почему Пушкин невзлюбил Александра Первого (как и директора Лицея Энгельгардта), хотя добровольно преклонился перед его сыном-преемником? как мог он написать довольно пошлую эпиграмму на свою любимую героиню – Татьяну? и разве можно отрицать досконально исследованную В.В. Вересаевым непроходимую бездну между Пушкиным-поэтом и Пушкиным-человеком? да и каждый из нас разве сам не ощущает некую темную непроницаемую сердцевину в ослепительно светлом феномене Пушкина? но сделаем ли мы отсюда вывод, что в Пушкине жило несколько людей? или будем искать сокрытое объединяющее начало всех известных нам пушкинских ликов? и тот, и другой вариант с неизбежностью заводят в тупик, —
а путь как был, так и остался один: вполне понять и прочувствовать великое отсутствие человеческого центра.
Но точно также и романический персонаж не имеет центра, более того, любой удавшийся художественный образ зиждется исключительно на иллюзии бесконечного приближения к некоей условной, предположительной сердцевине, которая тем для нас, воспринимающих искусство, ощутимей и конкретней, чем безусловной она, эта сердцевина, отсутствует, —
в самом деле, описание персонажа подобно вбрасыванию пучков света в абсолютный и непроницаемый мрак: то, что высветилось, нас вполне убеждает, но при этом мы забываем о «темной материи», окружающей световые пятна, —
попробуйте представить себе, что делал герой до, после и в промежутках между описанными сценами-световыми пятнами, и вы будете потрясены невозможностью подобного – и удовлетворительного для вас – представления, —
а значит: что это за человек, коего возомнили вы ближе иных вам близких людей? в каком измерении он пребывает? и почему, воодушевляясь им в одни: прекрасные, лучшие, возвышенные минуты жизни, вы забываете о нем в другие минуты, растянувшиеся на годы, десятки лет? что это вообще за странная межчеловеческая связь? и есть ли у нее субстанция, способная ее онтологически оправдать?
Итак, художественный персонаж лишен сердцевины, тем самым непредставимо до конца и выражение его лица и глаз: художник, правда, подбрасывает нам их описание, но это опять-таки как хождение к линии горизонта: вы к ней приближаетесь, а она от вас удаляется, —
и нигде вышеописанная амбивалентность не проявляется с такой зрительной ясностью, как при удавшейся экранизации литературного произведения: когда найден актер, оптимально сыгравший героя, мы уже не хотим представлять последнего иначе, как в облике данного актера, —
однако стоит нам вернуться к литературному первоисточнику, как становится очевидным, что персонаж все-таки не идентичен актеру, а поскольку лучшей игровой альтернативы нет, стало быть и реального человека, который мог бы быть отождествлен с вымышленным персонажем, попросту не существует в природе, – но как человек— ведь персонаж тоже человек— может не иметь лица? здесь тайна творчества, проливающая свет и на загадку центра у всех нас, так называемых «простых смертных»: мы живем так, как будто он есть – ведь из него исходят все наши волевые побуждения – но зафиксировать его нам никогда не удается, —
так точно наше лицо и наши глаза могут выражать сколь угодно несовместимые между собой эмоции: мы всегда будем искать за ними «глубочайшее душевное и духовное единство», —
и не только искать, но и, как ни странно, находить его: находить, снова терять, опять находить и в который раз терять – и так до бесконечности, потому что наш центр подобен «черной дыре», в которую проникнуть физически невозможно и которая смыкается… с самой обыкновенной периферией, —
человеческий взгляд поэтому нагляднейшим образом демонстрирует основное положение философии отсутствия: душа существует, но существует как иллюзия, и все-таки иллюзия есть единственный способ существования души.

XV. Ода русской женщине
Если вам когда-нибудь захочется прославить красоту русской женщины, потому что, во-первых, вы сами на нее уже тысячу раз обращали внимание, а во-вторых, вы успели заметить, что иностранцы полностью разделяют ваше мнение, то, чтобы не ломиться в открытую дверь и не изобретать велосипеда, вам придется начать издалека, —
например, провозгласить, что так уж получилось, что природа, не являясь в собственном смысле художником – ибо все в ней происходит сообразно сугубо практическим, бесконечно далеким от какой бы то ни было поэзии в человеческом понимании целям – выступает как художник, а мир в целом, не будучи и близко демиургом и понятия о нем не имея, представляется человеческому сознанию, как будто в сердцевине его незримо пребывает загадочное творческое начало, —
и какие бы фундаментальные открытия ни были совершены наукой, в каком бы новом свете ни раскрылись прежние всем известные детали и как бы ни трансформировался им соответственно общий и философский взгляд на дело, ничто, по-видимому, не может изменить этого нашего первичного и, быть может, врожденного восприятия природы и окружающего мира.
Далее, расплетая удачно найденную сюжетную нить и все еще кружа «вокруг да около», вам, вероятно, нужно будет сказать, что когда природа иной страны, не будучи даже особенно красивой – есть множество куда более красивых пейзажей! – помимо на общих правах присущей ей одухотворенности обнаруживает еще и непонятно откуда в ней взявшуюся душевность, и душевность эта насквозь поэтична – хотя, впрочем, и любая душевность по природе своей поэтична – и ее, что называется, непочатый край, так что поэты, писатели, музыканты и художники – особенно последние – этой страны черпают бытийственную поэзию природы обеими руками при одном лишь к ней прикосновении, а их «коллеги» из прочих земных регионов не могут с ними в этом плане сравниться ни в количественном, ни в качественном отношениях, —
да, вот тогда встает самый, пожалуй, любопытный и насущный вопрос о том, что есть дух и что есть душа, и все ли народы вкупе с их пейзажами наделены ими в равной мере, и как вообще дух и душа соединяются между собой, и так далее и тому подобное, —
и здесь уже, вовремя почувствовав опасность податься «не в ту степь», то есть, говоря конкретно, забраться в никому не нужные философские дебри, вам придется сразу и категорически предположить тайную связь между природой того или иного региона и его женщинами, в нем обитающими.
Однако вам прекрасно известно и то, что в любом регионе есть множество пейзажей: от выдающихся до ничтожных и даже безобразных, поскольку же вы задались предвзятой целью: говорить о достоинствах, умалчивая о недостатках, то и пейзаж вы постараетесь выделить какой-нибудь броский и левитановский, —
скажем, березовую рощицу на берегу неширокой, извилистой, тенистой, изобилующей стрекозами и водяными лилиями реки да еще, чего доброго, с белотелой церквушкой с золочеными куполами вдалеке, —
вот уж, поистине, нет и не может быть женщины и жены лучше, чем похожей на описанный пейзаж.
Пейзаж этот, действительно, не только не смущает душу каким-либо величием – ибо есть на земле пейзажи, от которых прямо дух захватывает – но как бы добровольно отдается на милость человека, и есть в нем что-то трогательное, беззащитное, уязвимое, жертвенное, —
при созерцании его рождается непроизвольное ощущение, что стоит лишь несколько раз ударить топором – и от березовой рощи ничего не останется, стоит бросить несколько пластиковых бутылок – и речка погибнет от загрязнения, стоит молодым жителям деревеньки – их и так по пальцам пересчитать – податься в город – ив церквушке, кроме батюшки да пары стариков и старух, никого не останется, —
ну а дальше, перечитав написанное и оставшись им более-менее довольным, вы, подчиняясь внутренней логике избранной параллели, вступите на скользкий путь: вы осторожно предположите, что точно так же, как этот чудесный левитановский пейзаж, русская женщина в сердцевине своей отдается мужчине.
Она как будто кокетничает меньше других женщин, а если и кокетничает, то не всерьез, и ее по существу нужно завоевывать меньше, чем других женщин, и здесь даже коренное отличие между русскими и западными женщинами, —
в том смысле, что западная женщина обычно не связывается с мужчинами, которые ее не стоят, и цену мужчине, который за нею ухаживает, она определяет с точностью до копейки, —
а вот русская женщина, несмотря на то, что она часто бросается и на деньги, и на славу мужчины, все-таки способна зачастую и продешевить: так американские индейцы продавали свои земли за какие-нибудь безделушки.
Да, в этой страшной, потому что безошибочно точной оценке онтологического веса мужчины, все и дело! она есть у западной женщины, и ее нет у женщины русской, —
то есть последнюю в каком-то переносном и, я бы сказал, в высшем смысле можно обмануть, можно обвести вокруг пальца, можно всучить за любовь, заботу и привязанность кое-какие деньги, кое-какую славу, может быть, еще кое-какие привычные ценности, но в глубине души мужчина знает, что то, что он дал русской женщине, меньше, чем то, что он от нее получил, —
самое же главное – вот и пришло время блеснуть великолепным сравнением – русская женщина дарит свою сексуальность, как солнце дарит свет и тепло всем людям без разбора, ее щедрость и бескорытие в этом отношении напоминает мать-природу.
Стоп! здесь вы и напоролись на гвоздь, вот вам и гносеология Наташ из турецкой Анталии, предупреждал же я вас, что нет достоинств без недостатков, и что наряду с левитановскими пейзажами есть пейзаж, скажем, голой выжженой степи с грязным и мелким прудом посередине, следами от грузовиков и лягушками в нем, —
вот вам Наташин пейзаж! какое вы имели право, в самом деле, выбрать одну противоположность и умолчать о другой? никакого! вы и сами это сознаете, опустив глаза долу, —
вы что-то еще бормочете насчет того, что в лучших качествах человека и народа скрываются их душа и их дух, тогда как низшие качества – всего лишь пена и накипь человеческого котла, —
и разве не склонны мы, пусть и не забывая о всем мелком и недостойном, не придавать ему значения? да, подытоживая жизнь и человеческие отношения, мы сохраняем в душе левитановский пейзаж и забываем пруд с лягушками… почему же с русской женщиной должно быть иначе? а черт его знает.
Конечно, бывает и так, что светлая и просторная, как классический русский пейзаж, красота, сквозящая в глазах наших девушек и женщин, не целиком и полностью и по образу и подобию молока с водой – как у западных женщин – соединяется в них с их же бессмертным практическим смыслом, но, являя собой скорее раздражающую консистенцию воды и плавающего в ней нерастворимого масла, как раз и ответственна за своего рода сознательную или даже невинную провокацию, о которой могут «спеть песню» многие, слишком многие иноземные мужья наших русских женщин, —
она, то есть загадочная, вполне поэтическая, все и вся пленяющая славянская красота поначалу забирает в плен чужеродного мужчину – так древние монголы захватывали в плен жителей других народов – но потом, когда на сцену повседневной жизни является жестокая практическая хватка светлоглазой красавицы – а она является с печальной неизбежностью прихода Смерти в средневековых уличных религиозно-театральных сценках – то, выглядя в первый момент нежданным и незваным, как татарин, гостем, она постепенно и в геометрической пропорции набирает силу и ужас, напоминая вскочившего на лошадь хищника.
Впрочем, справедливости ради следует заметить, что хватка «нашего главного сокровища» все-таки по по размерам и аппетиту скорее сродни домашнему хомячку, а это по большому счету даже больше плюс, чем минус: кстати, некоторое сходство окружающих нас людей с полюбившимися нам животными идет только на пользу людям, —
в общем же и целом, мой друг, вы, как я и предполагал, не сказали ничего нового ни о русской женщине, ни о ее превосходящей всех прочих женщин левитановской красоте и поэзии: просто у вас самих, наверное, затесалось в душе сознание тайно в вас дремлющего комплекса неполноценности, —
и, поскольку ваша жена ни разу в жизни не только не намекнула на него, но даже как будто не догадалась о его существовании, постольку вы ей бесконечно за это благодарны и, экстраполируя ее женскую доброту и снисходительность на всех остальных ее соплеменниц, вы таким путем вознамерились им всем как бы воздвигнуть крошечный «памятник нерукотворный», —
что же, замысел ваш хорош и даже благороден: жаль только, что все осталось при одном только замысле, —
впрочем, и здесь вы полностью солидарны с прославляемой вами русской женщиной: как правило, тот самый бесподобный левитановский пейзаж, сквозящий в глазах русской женщины и отличающий ее, быть может, от всех прочих женщин мира сего, так и остается невоплощенным в жизни: то ли потому, что такова уж ментальность ее носительницы, то ли в силу самой природы искусства.