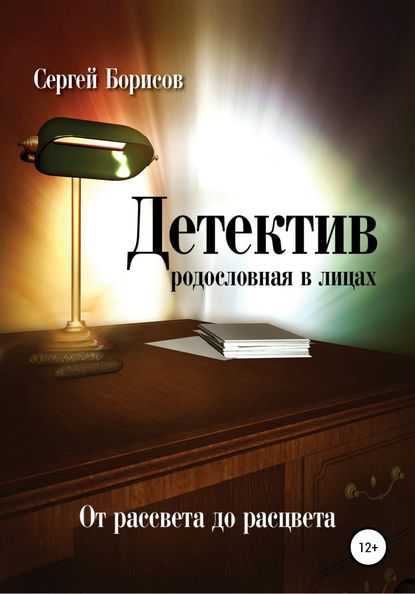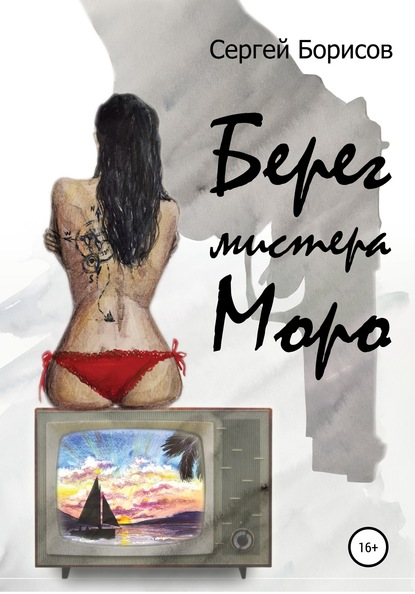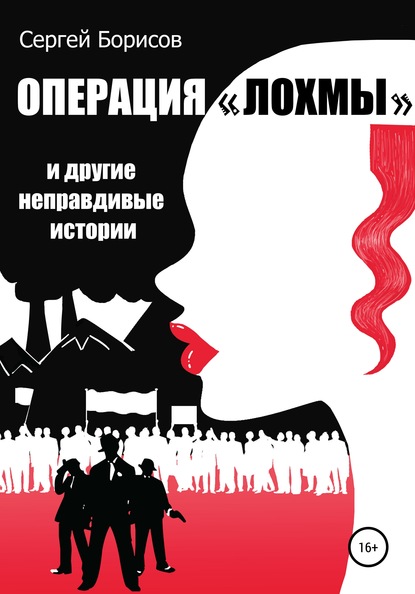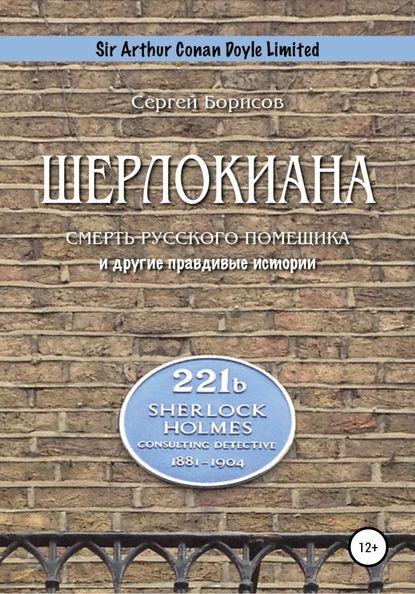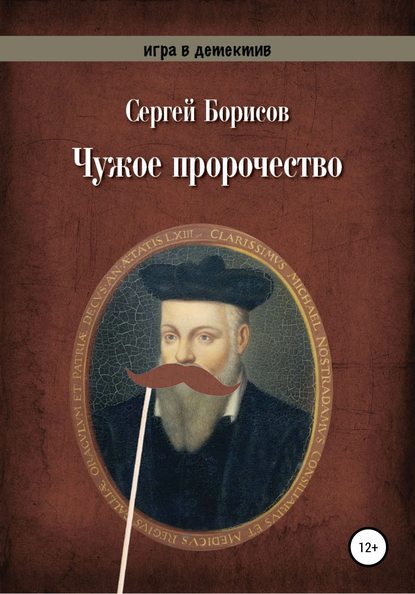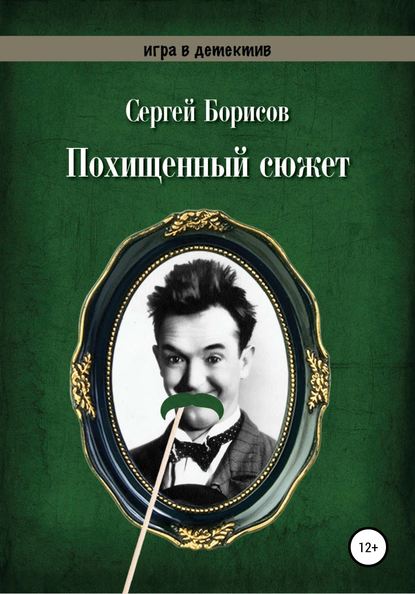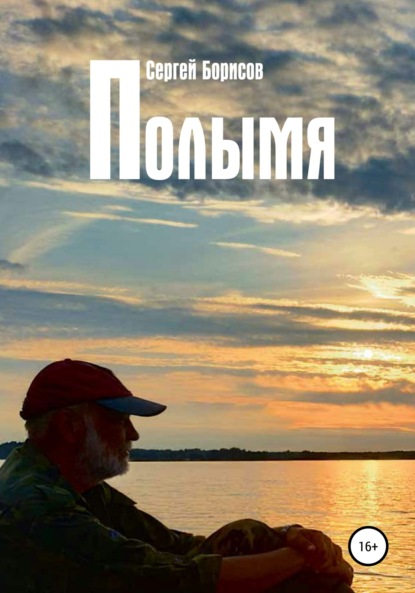
Полная версия:
Сергей Юрьевич Борисов Полымя
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Сергей Борисов
Полымя
«Рассказчик способен донести ровно столько, сколько позволяет ему мастерство. Читатель внимает лишь тому, что созвучно его душе». Карлос Руиc Сафон
Глава 1
Август 2018 года. Старая дорога
Пятно было страшное. Черное. С белыми подпалинами. Будто сальное. Это от дождя, это дождь намочил и пригладил.
Славке хотелось плакать, но он не заплакал. Дядя Олег говорит, что плакать не надо. И он обещал, что не будет.
Лопатка у него была, она всегда при нем. Самая настоящая, военная. Дядя Олег подарил.
И пакет есть с красными буквами.
Славка опустился на колени и стал подрезать дерн. Его он укладывал на костровище. Плотно, кусочек к куску, чтобы ни щелочки.
В пакет он собрал мусор. Его было не очень много, а случалось, что пакета не хватало.
Чтобы собрать все, пришлось подняться. Штаны на коленках были испачканы золой и грязью, но мама не будет ругаться, она никогда не ругается.
Он огляделся – не пропустил ли бумажки, обрывка, осколка. Хотя они красивые, стеклышки, особенно зеленые, через них можно смотреть на солнце и не щуриться, в них солнышко рассыпается веселыми искрами. Через коричневые тоже можно, но в них искры грустные.
От осколков еще пахло кислым.
С пакетом в руке Славка отступил на несколько шагов. Страшное пятно исчезло. Вместо него появилось кольцо срезанного дерна. Это ничего, скоро оно затянется травкой, зазеленеет и заметно не будет.
Прямо перед ним на земле валялась пробка – золотистая, со стрелками по бокам, наверное, от той бутылки, осколки которой он собрал. Славка поднял пробку и бросил в пакет.
Надо рассказать о костровище дяде Олегу. Пускай он и так всегда все знает: кто был, кто палил костер, ставил палатку у кустов, – но рассказать надо.
Дядя Олег очень нравился Славке. Он его любил.
* * *
Олег посмотрел на часы – машинально, время значения не имело. Не ему решать, сколько здесь сидеть. И ждать. Хотя сидеть не обязательно.
Он снял куртку и застелил землю. Вытянулся. Развернул бейсболку козырьком назад, притянул его к шее, чтобы сосновые иголки не забрались под воротник, не кололи кожу.
Сосны шептали над ним, нашептывали. Птицы баюкали. Но он не заснет. Как тут заснешь – после увиденного, да и сделанного тоже?
Потом птицы примолкли. Они же не городские, те не обращают внимания на моторы, а эти не могут. И слух у них острее человеческого.
Он приподнялся на локтях. Да, едут. Едет.
Шум мотора, сначала лишь угадывающийся, становился отчетливее. В нем проявилась хрипотца, которая не свидетельствовала о нездоровье техники, но лишь о ее особенности. С годами обязательно что-то проявляется – свист, хрип или дребезг, и бывает, что слышен непорядок, а не разобрать, где и что засбоило, а значит, и не найти, не устранить. Вот по этой хрипотце и было ясно, кто едет.
«Уазик» вывернул из-за поворота и остановился. Человек за рулем выключил мотор, однако выходить не спешил. Он вообще никогда не торопился, но всегда успевал – и всюду.
Игорь Григорьевич Егоров. Для тех покровских и полымских, что схож по возрасту, просто Игорь. Для матери, дай ей Бог здоровья и памяти крепкой, Анне Ильиничне, для нее – Игорек, Игоряша, сыночек. Олег не был ни покровским, ни полымским, он только-только перестал быть чужаком, поэтому Егоров был для него Игорем Григорьевичем, и все, что Олег мог себе позволить в общении с участковым, это доверительное «ты», да и то лишь с недавних пор.
В кустах кто-то несмело пискнул, заполошно забил крыльями, пугая водившие хороводы тени. Меж веток мелькнуло серым.
Егоров выбрался из «уазика». Утвердившись на земле, сначала огляделся, лишь после этого двинулся по обочине мелким шагом.
Роста участковый был невеликого, не дядя Степа, и живот имел приличный, хотя особенный – не переваливающийся через ремень, а словно надутый втугую. При первой встрече с Егоровым, когда Заруба их знакомил, Олегу припомнилось, как Ольга называла такие животы. «Луковкой». Еще и подшучивала над собой. Это ей потом не до смеха стало, когда токсикоз начался. А еще у Егорова была лысина, поэтому фуражку он снимал редко.
По обочине – это грамотно. Олег это отметил. Только зря участковый осторожничает, нет на дороге следов колес, кроме тех, что оставил квадроцикл залетных. Хотя это он знает, что их нет, а Егоров действует по логике, или по инструкции, наверняка таковая имеется, а человек Игорь Григорьевич исполнительный, памятливый и въедливый.
Нет на дороге других следов. По Старой дороге деревенские почти не ездили, разве что в грибной сезон или по крайней нужде, сокращая путь до райцентра. Да еще «черные лесовозы», но те совсем редко. Так что отпечатки протекторов квадроцикла – вот они. Не было ни сегодня, ни вчера на дороге «беларусей» с телегами и тяжких «уралов», груженных лесом. После дождя – а он два дня как прошел – вся дорога в пупырышках, здесь вообще никто не проезжал. Кроме залетных.
Подойдя, Егоров протянул руку:
– Здорово.
Олег показал свою ладонь. Она была матово-грязная, будто движок перебирал, замаслился и бензином дочиста не оттер. К запястью прилипла кожица сыроежки.
Егоров глянул в сторону. Там Олег разбирал грибы. Это он потом пересел и корзину к себе подтянул.
– Белые, говорят, пошли, – кивнул Егоров. – Куда ходил?
– На Плешь.
Так называли цепочку полян и прогалин, по неведомой природной прихоти появившихся посреди леса. Грибов там было пропасть, и все больше благородные, но тут было важно с моментом угадать, а то сегодня прорва, хоть косой коси, а завтра все гнилые, переростки, или уже пусто.
– Надо наведаться.
Участковый был большим любителем маринованных белых. Соленые грузди предпочитал лишь под водочку, а без рюмки, просто с картошкой, тогда белые. Последнее случалось чаще, потому что позволял себе Егоров редко. На радость матери, а уж Анна Ильинична старалась и грибы мариновала исключительно. Ну а как же, любимый сын, единственный, отрада и опора. И всем хорош, одна беда – неженатый ходит, а ведь не желторотик, человек в возрасте и с положением, пора бы уж.
Олег подцепил ногтем розовый лоскуток, сковырнул с запястья.
– Не успеешь, сам не успел.
Участковый поморщился, и было отчего. Два и два не сложил: кто ж при укосе сыроежками пробавляется?
– Ну и нервы у тебя, Олег. Струны! Грибы почистил…
– Было время, и почистил.
– Так я и говорю: струны.
Егоров достал мобильник. Засветил экран. Отвел руку, повернулся налево, направо, хотя с чего бы крутиться? Вышка далеко, низина. Но проверить надо, и он проверил.
Спросить, как Олег до него дозвонился, этого участковый позволить себе не мог – грибочков достаточно. Щеки его покраснели. На переносице выступила капелька пота.
Олег подсказывать не стал, чтобы не добивать хорошего человека. Людей вообще надо беречь. По возможности. Особенно когда тебе это ничего не стоит. Сейчас такая возможность была.
– Лихо ты, – с явным довольством собой наконец проговорил Егоров.
Заметил-таки. За спиной Олега была сосна. Когда лез, кору ободрал.
– Высотником работать не пробовал?
Когда старые серые сучья, словно обернутые бархатной бумагой, сменились желтыми, цвета луковых лушпаек, лишь тогда на дисплее мобильника Олега, будто делая одолжение, появился одинокий «кубик», зримое свидетельство, что связь, пусть какая-никакая, а есть.
– Мне и на земле хорошо.
– На земле, конечно, надежнее. – Егоров вытянул из кармана платок, приподнял фуражку – немного, чтобы ладонь протиснулась, и протер лысину. Каплю с переносицы тоже смахнул. И спросил быстро, без перехода:
– Где они?
– Там. – Олег повел подбородком.
«Там» – это за следующим поворотом, метров сорок.
– Пойдем глянем.
– Да я уж насмотрелся.
– Пойдем, пойдем.
Олег сунул в губы сигарету. Курить не хотелось, это было своего рода противоядие – даже не понять, то ли черствеешь от никотина, то ли примиряет он. Но с сигаретой легче. Он был за поворотом, потому и закурил.
Они пошли к изгибу бурой, в зябких крапинках, дорожной ленты. Этот поворот и погубил залетных. Не вписались.
Шли медленно. Смерть суеты не терпит.
Вот смятые кусты. Обломанные ветки. Рытвины в рыхлой обочине. Листья забрызганы песком. И следы – подошвы в рубчик.
– Самовольничал, – осудил участковый.
– Я не знал, что они мертвые. – Это было объяснение. Олегу не хотелось, чтобы участковый подумал, будто он оправдывается. – Знал бы, не дернулся.
Егоров остановился у края дороги и приподнялся на цыпочки, отчего стал немногим выше, но чуть стройнее – живот втянулся, полы форменной куртки сошлись, прикрывая «луковку». Заглянул вниз: что там, за кустами, за кюветом? Хотя и не кювет это вовсе, просто скос.
После этого Егоров посмотрел на свои ботинки. Они у него были с отливом, с глянцем – в Покровском, не говоря уж про Полымя, только участковый чистил ботинки, остальные их носили и снашивали, чинили, латали и выбрасывали, или выбрасывали без всякой починки, не мелочась. А участковый охаживал щеткой и не жалел гуталина. Начищенные ботинки были для него чем-то вроде визитной карточки служилого человека.
Как-то, давно уже, он сказал Олегу:
«Это с армии привычка, ну, чтобы как в зеркало. Так нас прапор наставлял, замкомвзвода. Следил, проверял и крем выдавал особенный, польский, «Гриф» назывался».
«Крем?»
«Я в Белоруссии служил. Про Беловежскую пущу слышал? Вот там. И прапор наш из бульбашей был, да и в роте все больше местные срочники кантовались. Так они слова «гуталин» вообще не знали. Крем и крем. Сам-то как, отдал долг Родине?»
«Было дело».
«С сапогами или уже в берцах?»
«В сапогах».
«Тогда знаешь что почем».
«Вспоминаю иногда. А еще они какие слова не знали?»
«Ластик».
«Что?»
«Ластик. Шутковали еще надо мной».
«А что взамен?»
«Стирательная резинка. Тут уже я смеялся».
Ботинки у Егорова были мало ухоженными, так еще и с надставленными сантиметра на полтора каблуками. Размером не больше сорокового, чуть старомодные, но не без того изящества, что выше моды. И сейчас, на обочине Старой дороги, Игорю Григорьевичу ботинки было жалко – изгваздает ведь, но лезть надо, никуда не денешься.
Участковый вздохнул и отодвинул ветки, а какие не смог, через те переступил. Штанины он приподнял, но через пару шагов ноги провалились в обманчиво твердую смесь песка и прелых листьев. Егоров отпустил брючины и пошел, уже не разбирая, куда ступить.
Квадроцикл унесло метров на двадцать – скорость была приличная, еще и уклон. Проломившись сквозь кусты, квадр подпрыгнул, клюнул носом, вывернулся, счастливо миновал одно дерево, другое, потом наскочил правым колесом на ствол упавшей ели, старой и толстой. Его подбросило и завалило на бок.
Вот тогда залетные и погибли. Одному переломило шею так, что голова вжалась ухом в плечо. Другого насквозь проткнул иззубренный сук – не той ели, что опрокинула квадроцикл, а лежащей рядом, тонкой. Ее подмяло и завалило старое дерево: когда падало, поломало сучья и только потом утянуло молодую елку вниз, выдрав корни из земли и развесив на выворотне ленты мха. Один из этих сучьев и пронзил, как шпагой, того, что был «вторым номером», сзади сидел, раскрасив кровью толстовку с нечитаемым теперь принтом. А у водителя сначала сорвало веткой каску, а потом уже ударило головой о ствол.
Каска валялась рядом – натуральная фашистская или под нее, подделка-сувенир, но, вероятнее, все же натуральная, если помнить о хобби ее владельца. Когда Олег первый раз увидел этого парня, он как раз был в этом артефакте. И не потому, что за рулем положено быть в шлеме, но в каком – на то правила расплывчатые, а для форсу. Только не уберегли понты: как оберег они вообще не очень.
– Наши мужики за эту каску ему морду набить хотели, – задумчиво проговорил участковый. – Так и не собрались.
Егоров обошел квадроцикл. Алые пятна с его щек исчезли. Теперь оно было мучнисто-белым. Или казалось таким в полумраке, разлитом под еловым шатром. В таких местах, у подножия таких деревьев, светло не бывает – или серо, или темно.
– Вот тварь!
Из-под ноги Егорова выскочила лягушка. Всего-то, а он отпрянул. Одна видимость, что спокоен, на самом деле взвинчен: два мертвеца – это два мертвеца.
– Не повезло пацанам.
Участковый наклонился над парнем с перебитой шеей, с посиневшим до черноты, будто отекшим лицом, припорошенным рыжими елочными иголками, с черной дырой рта в рамке белых зубов, с черной кровью на подбородке.
На того залетного, что был проткнут, Егоров лишь взгляд бросил. А вот Олег отвел глаза с трудом, подумав: «Словно на шампур насадили». И если бы верил, то свел бы пальцы в щепоть и перекрестился, устыдившись сравнения. К смерти надо не только без суеты, но и с уважением, без фантазий и легкости в словах.
Выпрямившись, участковый сказал:
– Пошли отсюда.
Олег ждал вопроса, не трогал ли он здесь чего, но Егоров его не задал.
Они поднялись к дороге.
– Закурить есть?
Олег ни разу не видел, чтобы участковый курил.
– Есть.
Он достал сигареты. Осталось три штуки: пока ждал, полпачки высадил. Чиркнул зажигалкой. Участковый затянулся, кашлянул, сделал еще пару быстрых затяжек. Бросив окурок, придавил его ботинком, уже не блестящим, утратившим былую красоту.
– Сейчас группа приедет. Я вызвал. Спецы из района. Такое дело – их уровень. Дождешься?
– Я бы лучше пошел.
– Кому лучше? Ты же понимаешь: протокол, опрос, то, се, без этого не обойдется.
– Понимаю. Где найти меня – известно. Уезжать не собираюсь.
Озябшая дорога вернула их к сосне, на которую забирался Олег. Вот корзина, куртка. Стоит ли надевать? Жарит-то как! Хотя через лес идти – исцарапаешься, а у Черной и старицы – крапива.
Надев куртку, Олег подхватил корзину.
Егоров наблюдал за ним.
– Напрямик?
– Ага.
– Тогда бывай. Дома водки выпей.
– Выпью.
– И как тебя не вывернуло от всего этого?
– А меня вывернуло. Не заметил? Ты там не замарайся.
– Постараюсь. Да, вот еще что, совсем из головы вон. У нас в районе начальство сменилось.
– И что?
– А то, что новые начальники, как та метла, всегда по-новому метут, только всякий раз с одного начинают.
– Новый макет?
– Что? Какой макет?
– Это я из прежней жизни. Когда в газету новый главный приходит, он всегда перво-наперво макет меняет, ну, внешний вид.
– У кого как, а у нас новое руководство вытаскивает из-под сукна то, что прежнее туда упрятало. Отчеты, жалобы на сотрудников, «висяки». Это я к тому, что могу снова производство открыть. Я о корабле твоем.
– Не надо. У меня претензий нет, да и тебе, Игорь Григорьевич, лишние хлопоты ни к чему.
– Вы бы, гражданин Дубинин, лучше о себе подумали. – Егоров подчеркнуто перешел на «вы», показывая тем, что это он не всерьез. – А обо мне печалиться не надо. Может, это дело мне спать спокойно не дает, допускаешь такое? – Участковый милостиво вернулся к «ты». – Может, у меня это профессиональное. Потому что пятно на репутации: не расследовал, не привлек, не посадил. Это как грязь в своем доме – не вымел, а должен был.
– А ты, Игорь Григорьевич, забудь.
– Значит, не будет заявления?
Непрост был Егоров. Даром что ростом не вышел, что каблуки надставлены, что краснеет… Ах, да, еще у него две руки равно «рабочие», обеими ловко действует, особенность такая врожденная. Все так, но загляни под козырек – глаза колючие и проницательные, и с хитринкой, как у Анискина в старом фильме. Неужто они все такие, деревенские детективы?
– Не будет.
– Уверен? Смотри не прогадай.
– Уверен. Я пойду?
– Иди.
Егоров приподнял руку, и если бы чуть выше, а потом ослабил, бросил, это выглядело бы так, что он махнул рукой и на Олега, и на его сгоревшую собственность. Отныне и навсегда. Но рука не поднялась до нужной отметки, а направилась в карман, наверное, за платком, чтобы вновь сунуться им под фуражку.
– Сигареты оставишь?
Олег протянул пачку:
– Там мало.
– Сколько есть, столько и сгодится. Не, огня не надо, спички имеются.
* * *
Ничего интересного за стеклом не было. Все то же, все обычно: те же люди, те же машины, лужи в радужных мазках бензина. В лужах ничего не отражалось. Небо над Москвой было серым.
– Что ты молчишь? – Голос дочери ударился в спину.
– Я слушаю.
Хотя, нет, сегодня за стеклом все то же плюс озеленители. Деревья уже спилили, сейчас срубали ветки. Трактор подтащил вихляющийся прицеп, чтобы забрать мусор. Потому что час назад это были деревья, а теперь мусор. И опять же, нет, не так, они не были деревьями. Это были вымороченные, полузасохшие-полусопревшие жертвы смога и противогололедных реагентов.
– Я тебя слушаю, – повторила Ольга. И наклонилась, приблизив лицо к стеклу.
Рабочие корчевали пни. Экскаватор вычерпывал отравленную землю. В яму ставили саженец с обернутой рогожей корнями. Один из рабочих разрезал веревку, куль распадался. Яму засыпали свежим грунтом. Потом топтались-утаптывали. Втыкали две палки, привязывали к ним деревце. Все, можно корчевать дальше.
Ольга попыталась вспомнить, сколько раз это происходило под их окнами, чтобы выкапывали и сажали – и не вспомнила, не удержалось в памяти. Два? Три? В городе, вдоль шоссе, деревья не задерживались. Умирали. И эти обречены, и эти умрут.
– Я все сказала, – фыркнула Лера.
Ольга повернулась и будто ударилась о взгляд старца Иринея, взиравшего на нее сквозь стекло серванта. Фотография стояла рядом с иконой Богородицы. Ольга хотела перекреститься, но не стала, испугавшись насмешливых глаз дочери. И, рассердившись на себя за этот испуг, сказала резко:
– У тебя не получится.
Лера сидела на диване, разведя ноги так, что юбка натянулась коленями. Ольга подобного себе никогда не позволяла и – было такое – выговаривала дочери. Но это давно, когда ее слово что-то значило. Теперь дочь выросла. И считает себя взрослой. Со своими понятиями обо всем, в том числе о пристойности.
– Почему?
– Я знаю.
– Ты все знаешь!
Лера скрестила руки на груди… под грудью. Декольте было большим. Вызывающе. Ольга подумала, что, может, в этом все дело – и натянувшаяся юбка, и поза, и декольте, и татуировки на плечах, краешек одной паучком выползал из-под ткани. Это вызов ей. Заслужила – получи. И не заслужила – получи.
– Не все, но его я знаю.
– Ой-ой-ой! Не обольщайся. Когда знают, не спотыкаются. Кабы знала, он бы сейчас здесь сидел, при тебе. А он тебя бросил. И меня до кучи.
– Это я его выставила!
– Если тебе легче не себя, а его судить, тогда конечно. Да, Господи, зачем я тебе это говорю?
– Потому что я мать! – Ольга сказала это зло и не испугалась своей злости: – Дочери обычно делятся со своими мамами.
Лера тряхнула головой:
– Делятся, когда рассчитывают, что им помогут. Хотя бы поймут, посочувствуют.
– Я сочувствую.
– И при этом ничего не делаешь.
– А что я могу?
Ольга лгала. Она могла позвонить и попросить. Потому что Олег ей должен и помнит об этом. Или она напомнит. Вот только стоит ли взыскивать долг сейчас? Да, Лера, дочь… Но ведь дурью мается! И парень ее… Не жених, а полуфабрикат какой-то. Они через месяц разругаются и разбегутся, а с чем останется она? Лишь этот долг связывает ее сейчас с Олегом. И другого не будет, не нужна она ему ни в каком качестве.
– Если я позвоню, это ничего не изменит.
– Я не прошу тебя звонить.
– Так что же тебе надо?
– Я с отцом сама поговорю, а он может спросить у тебя, насколько у нас с Денисом серьезно. И я хочу, чтобы ты сказала, что у нас все очень серьезно. Не веришь? И не верь, другого не ждала. Только выхода у меня другого нет, кроме как отцу в ножки кинуться. Ты в курсе, сколько стоит снять квартиру? Даже на окраине, даже за кольцевой? Жуть! А мы студенты, откуда у нас такие бабки? Денис вообще приезжий.
– Это и настораживает, – сказала Ольга раньше, чем успела остановить себя.
– Ты тоже не из столичных штучек, – парировала Лера. – Явилась c каких-то диких выселок, чтобы в институт поступить, дохтуром стать. Провинция – это, мамуля, неистребимо. А ведешь себя так, будто москвичка в седьмом поколении.
– Не хами!
– А чего ты обижаешься? Это же правда. Тебе было трудно, вот и Денчику трудно и учиться, и работать. Что получит на чай в ресторане, все его, но и только, на родителей надежды никакой. Они ему простить не могут, считают, что он их кинул. Ишь ты, подался в столицу образование получать, нет чтобы навоз за баней месить, кур кормить и на полудохлом заводике за гроши горбатиться. У меня, конечно, с этим получше, по крайней мере без дерьма за баней.
– Ты сама захотела самостоятельности. И ушла из дома. Я тебя не гнала.
– Я не ушла – сбежала. Потому что мне тут… – Лера чиркнула ребром ладони по шее. – То нельзя, это, каждый день отчет: где, когда, с кем. Так этой заботы накушалась, что из ноздрей прет, как газировкой с перепоя.
– Тебе и это знакомо.
– Брось ханжить, мамочка. Хотя тут не твое, перепоем я в папеньку, его гены. Короче, в общежитии нам комнату не выделят, нечего губу раскатывать. Там штамп в паспорте предъяви, а потом они еще поглядят, давать или нет. И откат, как же без отката? Не подмажешь – не поспишь. Это мы проходили. Я за койку им будь здоров отвалила, я же местная, прав на общагу не имею.
– Я в курсе, – сухо произнесла Ольга. – Это были мои деньги.
– Ну, да, твои. Отстегнула, и живи, доченька.
– Опять хамишь!
– За деньги тебе спасибочки, но я к чему… Если за койку столько отдать пришлось, то за комнату – просто мрак. И сюда нас ты не пустишь. Ведь не пустишь? Найдешь, чем отговориться: мужчина, чужой человек… Или тоже штамп потребуешь? Только мы с этим не торопимся. Хотя искушение есть – фамилию сменить. Побыла Дубининой – и довольно, по крайней мере Дубиной никто не назовет, и Дубинушкой тоже. Но с браком мы все же погодим, так поживем, свободными. Тем более я не беременна. Я вообще ребенком к себе Дениса привязывать не собираюсь. Потому что и это не гарантия.
– Что ты имеешь в виду?
– Да все то же. Захочет папашка свалить – свалит, ни на что не посмотрит. Мне ли не знать? В общем, так: жить мы хотим вместе, жить нам негде, а у отца – квартира.
– Там Путилов, ты же знаешь.
– И что?
– Они друзья с Олегом. Как он его выставит? Тем более что у Бориса семья, проблемы.
– У дяди Бори всегда проблемы! Ладно, помог другу – медаль тебе на грудь, теперь дочери помоги. Сам живешь, дай другим пожить. Отец сейчас в шоколаде, на свежем воздухе, на всем готовом, еще и корабль… Забавляется! И девка эта, ты мне сама рассказывала. Наверняка не оставляет благодетеля без внимания.
– Не смей! – проговорила Ольга со всей возможной твердостью и даже ногой топнула – так, что в серванте задрожало, мелким звоном откликнулось стекло. – Она ему благодарна, это естественно, а все остальное – не смей.
Лера расплылась в улыбке, которая заслуживала пощечины:
– Ага, была несчастной уродиной, и вдруг все при ней – и кожа, и рожа. И не без твоего участия, между прочим, мамуля. Ты же не думала, что так выйдет, а надо было вперед заглянуть. Теперь хлебай. А что благодарна… – Лера закатила глаза и потянулась довольной кошкой, одарив мать еще одной вкрадчивой мерзкой улыбочкой: – Одинокий мужчина, одинокая женщина, вот и встретились два одиночества. Что тебя это не задевает – не верю. А если так, то тем более странно, ведь должно колоть под ложечкой, ты же ему пока жена. Ну а мне так вообще пофиг, есть у них что промеж собой или они по вечерам книжки вместе читают. Я о другом. Порадел об убогой – молодец, теперь о дочке позаботься, которой голову приклонить негде, кровиночке. В конце концов, отец он или нет?
Ольга сцепила руки, чтобы утаить дрожь в пальцах.
– Ладно, разговаривай с ним, проси. Если позвонит, я скажу, что у вас любовь до гроба. Только предупреждаю – утрешься.
Дочь уперлась ладонями в колени, рывком подняла себя с дивана.
– Утрусь – тоже результат. Был у девочки какой-никакой папочка и не будет. Я и раньше сомневалась, больше не буду.
За спиной Ольги, за окном, на улице что-то затрещало и ухнуло. Озеленители свалили еще одно дерево.
Она оглянулась. За стеклом был город, так и не ставший ей по-настоящему родным. Потом медленно повернула голову.
Ириней был безмятежен. Богородица добра. Между ними стояла фигурка вырезанного из бумаги ангела с младенческими кудельками и трубой, глас которой взывал к небесам.
* * *
Пройти надо было где-то с километр, у кривой березы свернуть в лес, потом еще километр – и берег озера. Там, в заросшей кувшинками старице, его ждала лодка.