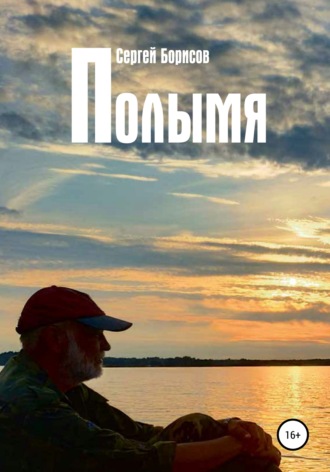
Сергей Юрьевич Борисов
Полымя
«Поэтому молись, и услышан будешь. Сам молись, никого о том не проси, не передоверяй. Вон, Евфимий, тот страсть как не любил, когда его помолиться просили, даже о здравии, даже за упокой. Мне мать рассказывала, что серчать начинал, говорил, что всякий на земле грешен, что от грехов в ските не спрячешься, за монастырскими стенами не укроешься, что в грехах своих мы все перед Господом равны, а грешника о молитве просить – что воду болотную пить. Вот как хочешь, так это и понимай. И молись, сам молись. И ответ будет, а как же? Только понять, что сказано, дано не всякому».
«Для этого верить надо, а у меня с верой не очень. В церковь не хожу, службы не отстаиваю, не исповедуюсь».
«Иногда не через веру к молитве приходят, а через молитву к вере. Ты попробуй. И чтобы исповедаться, не обязательно в Бога верить. Ему и того достаточно, что ты душу раскрыл».
«И вы молились? Тогда, в сорок первом?»
«И я, и мать. В те дни многие о вере вспомнили. Толковали между собой: отступились – вот и воздаяние. Только с этим не все соглашались, потому что Господь милостив. Иконы жгли, колокола сбросили, церкви в амбары превратили, но чтобы за это войной карать?»
«И как оно там было, на рву?»
«Тяжко. Деревенские еще ничего, держались, они к такому труду привычные, а вот была там учительница из райцентра, худенькая, беленькая, лицо в конопушках, так она копала, копала, да вдруг осела и глаза закатились».
«Умерла?»
«Отходили. Побрызгали водой, она в себя и пришла. Но больше ее к тачкам и лопатам не подпускали. Она с детьми возилась, я же не одна там была, ребятишек хватало. Те, что постарше, воду носили. Упаривались люди, а мы им кружки с водой. А маленьких совсем на телегу сажали, и она, учительница эта, с ними ездила. На телеге бочка, вокруг ребятишки, а старшие рядом шли, с кружками. С этой телегой мы везде побывали – и на рву, и на блиндажах. И в том сорок первом, и в следующем, в сорок втором. Только на следующий год у нас уже другая коняга была».
«А чего так?»
«Ту, первую, осколками посекло. Наверное, вылечить можно было, не так уж сильно побило, но лечить не стали – съели. Тут как было… Уже в конце июля стали ров копать, траншеи всякие, доты строили, для них цемент и железо на пароходах по озеру подвозили. Работали как оглашенные, жилы рвали. Ну я уж говорила, да и что говорить… Когда немец подошел, тут его и остановили, перед самым Покровским. Дальше не пустили. А снаряды ихние залетали. Сначала пристань сгорела, та, что у Мизинца была. Потом храм по камушкам разнесли, одно крыльцо уцелело. Все еще дивились: стен нет, а крыльцо есть, и ступени, по ним поднимешься, а за ними ничего – кирпичи, полынь и погост с крестами. Два года друг против друга наши с немцами простояли. – Егорова поправила платок, синий в цветочек, с узлом под подбородком. – Нас-то, покровских и полымских, в конце сентября в райцентр вывезли. Сомнения были, что удержатся наши. А они удержались. Весной разрешили вернуться, это когда немцев чуток отодвинули. Воротились и мы с матерью. Дом наш цел оказался. В нем солдаты постоем стояли. Загадили, конечно. Но другое хуже… Осенью мать захоронки сделала. Картошки немного спрятала, мешок с крупой, полкадушки капусты квашеной. Очень мы на эти захоронки рассчитывали. Так нашли их солдатики, и ту, что в погребе была, и ту, что в огороде. Подмели начисто. Им, конечно, тоже несладко было зимой-то. Мать как разор этот увидела, так и забилась. Кричала, что все уж теперь, не выжить. За неделю до этого она похоронку получила на мужа, отца моего, и не отошла еще, не смирилась. В общем, остались мы вдвоем на всем белом свете, а в избе втроем».
«Втроем?»
«Тося с нами была. Та самая учительница. Антонина, а для нас Тося. Мы в райцентре у нее жили, а весной она с нами поехала, потому как работа кончилась».
«А что за работа?»
«Ох, ты ж, старая, скачу с пятого на десятое. В райцентре мать с Тосей в заводи работали. Речка там есть, да ты знаешь, небось, она к монастырю тянется. Речка невеликая, болотная, но перед озером широкой становится. Вот это место мы заводью и называли. Там перед зимой пароходы укрыли. Прижали к берегам, под деревья, чтобы с воздуха видно не было, и оставили до весны. Но немец их разглядел, бомбил, попал во многие, но ни один не утоп, они в лед вмерзшие были. Ну так вот… При пароходах этих были будки с печками, и сторожа в них. Потому как без сторожей нельзя, на пароходах приборы разные, и вообще… объект. Вот такими сторожами моя мать с Тосей и числились. Двое суток на дежурстве, сутки дома. Так всю зиму и просторожили. А по весне, как лед на озере вскрылся, в заводь бригаду ремонтников прислали, чтобы, значит, пароходы на воду вернуть. Тут надобность в сторожах и отпала».
«И вы поехали в Покровское».
«Ну да. И Тосю с собой взяли. Она же одинокая была, и работница никакая. Школьников еще осенью дальше вывезли, эвакуировали, а сторожихой ее мать моя пристроила, она и опекала. И куда ей было податься? Или с нами, или в могилу с голодухи. В общем, приехали мы, а захоронок-то и нет, выгребли. Поубивалась мать, и Тося с ней, потом сели они и стали рядить, что дальше делать. Колхоза нет, скотины нет, сажать-сеять нечего, да и немца хоть отогнали, а он все равно тута, недалеча, постреливает. Отправились они тогда к командиру полка, что оборону держал, у него в Покровском командный пункт был. И вот же добрый человек, не отмахнулся. Стали они продукты и другое разное, что требовалось, по окопам развозить, и в Полымя ездили, и дальше по берегу. Телегу им дали с лошадью, а Тося ее как увидела, так и разревелась. Та самая! Ну лошадь та самая, на которой минувшей осенью она воду возила. Только недели не прошло, как приметили их немцы – и снарядом! Они, мать моя с Тосей, как раз лодку нагружали. Ее с Косого острова прислали, там тоже наши были, пулеметчики. И вот грузим мы лодку…»
«И вы с ними ездили?»
«А куда меня девать? С ними. Значит, грузим мы лодку, и вдруг свист. Снаряд! Солдат, который с лодкой приплыл, кричит: «Ложись!» – и в кусты. А мы-то знаем, ученые, что перелет, раз свистит, и не шибко-то испугались. И лошадь наша тоже была войной обученная. Только голову к земле опустила, стоит, ушами прядает. Второй снаряд в воду упал. Тут уж и мы в стороны прыснули, а то как раз посередке, и третий к нам прилетит, уж так заведено в артиллерийской науке. А лошадь осталась. Тогда ее осколками и порезало».
«А дальше что было?»
«Дальше? Тося плакала, но ведь это как посмотреть: жалко, конечно, а с другой стороны – счастливый случай, коли уж подвернулся – держи. Мы потом долго ту конину ели. И солдатикам с Косого перепало, да поболе нашего. Это чтобы не болтали лишнего: убило кобыляку – и все тут, на куски порвало. Тот из них, что при лодке был, как из кустов вылез, про счастливый случай и сказал. Он и лошадь забил, разделывать помогал. Матери помогал, я-то мала была таким делом заниматься, а Тося не смогла, убежала. Лошадь нам потом новую выделили. Так мы и ездили втроем и весну, и лето, и осень, а там и немца погнали. Сдали мы телегу под расписку, конягу по морде погладили, попрощались с командиром полка и стали в мирную жизнь вживаться».
Егорова спохватилась:
«Заговорила я тебя, Олег. Ты же к Игорьку пришел, а я тебя былым мучаю».
«Так мне же интересно».
«Вот уж будто? – не поверила Егорова, но видно было, что ей приятно. – Игоряша тоже говорит: интересно, и все выспрашивает. И про деда своего тоже. Отец мой по милицейской части был, а как война началась, помогал военным тут оборону выстраивать. Дома появлялся наскоками. А на фронт в декабре ушел. Нашел нас в райцентре, попрощался. А повоевал недолго, убили его под Ржевом. Пал смертью героя! – Анна Ильинична произнесла это с тихой гордостью. – Так вот когда покрепче была, я Игорьку все места показала, куда мы тогда с матерью и Тосей ездили. А то помру, кто помнить будет? А помнить надо, как оно тогда было, через что пройти довелось».
«В прошлом лишнего не бывает, – он согласно наклонил голову. – Все важно. А где сын-то ваш, Анна Ильинична?»
«К обеду обещался приехать. Ты бы позвонил ему, у него телефон всегда с собой».
«Я пробовал. Не отвечает».
«Значит, далече где-то. А что пришел-то? Или секрет?»
«Да с кораблем моим…»
«Что, нашли поджигателя? Или думаешь на кого?»
«Нет. Я про то, что, может, и не было его».
«То есть как: пожар был, а поджигателя не было?»
«Случается такое с электричеством. Короткое замыкание, искра – и все».
«Ой, темнишь ты что-то».
Он поднялся:
«Ладно, Анна Ильинична, дело это неспешное, так что поклон от меня Игорю Григорьевичу. Пойду. Загляну в магазин – и до дому».
«А может, погодишь? Я щей наварила».
«Нет, спасибо. До свидания».
Он надел куртку, нахлобучил шапку и спросил от порога:
«А что с женщиной той, с учительницей, стало?»
«С Тосей? Померла она по весне, через месяц после Победы. За церковью ее похоронили, за развалинами. Пока мать была жива, ходила, ухаживала за могилкой. Потом я прибиралась. Теперь Слава Колычев ухаживает. – Егорова сморгнула слезу, но не получилось, достала платочек из рукава, им промокнула. – Помню. Все помню. Хворала она тяжко. Я ж говорю, слабая она была, худющая, в чем только жизнь держалась».
«А сама она за жизнь держалась?»
«За нее всякий держится», – рассудительно проговорила Егорова.
––
Олег и сейчас помнил тот взгляд – пронзающий и острый, как бритвой по щеке. Совсем не старушечий, не на 80 лет. Такой взгляд подошел бы девушке, оценивающей нового знакомого на предмет дальнейших отношений. Или следователю, молодому, полному надежд и рвения.
После рва с его отвалами еще немного – и старица.
Олег перепрыгнул через окоп, оплывший, обмелевший, заросший, но еще сохраняющий контуры. Много их тут, куда ни шагни. На совесть укрепрайон ладили.
Он вышел на берег. За ветками чернотала, за старицей, за кувшинками, за дрожащими ресницами тростника блестело озеро. Когда-то оно разделило своих и чужих. Наши были на этом берегу, немцы на том. И рыли, рыли те и другие, перелопачивали тысячи тонн земли, ворочали камни, валили деревья, стелили накаты. Капониры, блиндажи, землянки, траншеи, стрелковые ячейки… На этих рвах, в блиндажах, в окопах, траншеях залетные и шарились.
* * *
Не помогла сигарета. Но время убила.
Пора. Дубинин уже далеко, а бригада из района близко.
Егоров полез через кусты. Ноги опять утонули в каше из песка и листьев. Еще и ветка хлестнула по лицу, чуть фуражку не сбила.
Вот и квадроцикл. Вот мертвые залетные. Ничего не изменилось, да и не могло измениться. Только несколько мух припали к засохшей крови. Он повел рукой – мухи поднялись, убрал – вернулись.
На багажнике квадроцикла был закреплен внушительных размеров пластиковый бокс с вмятиной на боку. Видимо, когда квадроцикл вломился в лес, бокс приложило о дерево. И как только не раскололся! Тем же ударом с крючков сбросило петли защелок.
Егоров поднял с земли щепку, подцепил крышку бокса, приподнял. Да, нарушает, да, не по инструкции, вопреки ей. Но никому ничего плохого он не делает и не сделает. Ведь залетным уже все равно, а перед мертвыми чего виниться, куда им с нашими извинениями?
Крышка подалась легко. В боксе было много чего навалено. Две складные лопаты. Металлоискатель с телескопической ручкой. Садовые совки. Свернутые в рулоны капроновые сетки с ячеями разных размеров – от крупных до совсем мелких, чтобы просеивать землю. Еще какие-то инструменты неясного назначения. Черные мусорные пакеты. С содержимым…
Той же щепкой Егоров приоткрыл один – какие-то железки, большинство совсем проржавевшие, и гильзы. В другом пакете была солдатская фляжка и алюминиевая ложка с загнувшейся винтом ручкой. В третьем тоже железки.
Того, что могло быть в боксе, в нем не было. Да и не должно было. Это он оттягивал…
Как ни берегся, на пальцах появились пятна масла и смазки. Он вытер пальцы платком, теперь им под фуражку не полезешь.
Закурить, что ли? Он полез было за пачкой, но остановил себя: две штуки, надо приберечь, еще понадобятся.
Он коснулся рукой того залетного, что навалился грудью на руль, будто обнял его, чья шея была сломана, а голова вжата в плечо. Этот парень был у залетных за главного: он разговоры вел, за двоих отвечал и обещал за двоих. С него и спрос. К тому же он не в толстовке, как напарник, а в куртке. С карманами.
Их было много – накладных, с клапанами. Искомое обнаружилось в правом боковом. Лист плотной бумаги, большой, с противень, был запаян в целлофан, а потом несколько раз сложен до размеров почтового конверта.
Егоров развернул лист, хотя и так было ясно: оно! Затем вновь сложил лист по граням и убрал в свой карман, и даже прихлопнул по нему, точно желая удостовериться, что там он, в надежном месте.
Теперь можно и на дорогу, бригаду дожидаться.
Он повернулся. Опять ты! На пне сидела лягушка. Здоровенная. Может, та самая, что сколько-то минут назад вывернулась, напугав, из-под его ноги. И пялилась, раздувала горло.
* * *
Речка Черная к безымянной старице отношения не имела, она впадала в озеро левей. Тогда почему – старица? Как-то Олег спросил об том у Анны Ильиничны, так и она не сказала. И Мария Филипповна тоже плечами пожала: «Старица и старица». А уж если Егорова с Колычевой того не знали, то спрашивать других смысла не было. Даже Тютелина, который даром что без царя в голове, а в голове кое-что хранил, да и краснобаем был редкостным.
Возможно, эта канава, местами затянутая ряской, никогда не была руслом реки, а была именно что канавой, кем-то когда-то вырытой. Но кем, когда, зачем? С противотанковым рвом –понятно. Как и с копанкой на том острове, что напротив монастырского. Протоку вырыли монахи, чтобы сократить путь до карьера: они возили на лодках песок и так срезали крюк километра в три. Возили до тех пор, пока не истощился карьер, но к тому времени монастырь уж отстроился: и собор возвели, и колокольню, и гостиный двор для паломников, хозяйственные постройки. Не нужна стала копанка, но не заросла напрочь, уцелела, ею и сейчас байдарочники ходят. В общем, с ней понятно, отчего и почему, а тут – зачем? И кто?
Но вот и лодка, она у него хорошая, «бестер-450». Мотор вообще отличный, Yamaha на 20 «лошадок», больше и не надо. Все на месте, да и куда что денется? Туристов здесь не бывает, тут берега заросшие, не то что палатку поставить, и не пристанешь толком. Местным тоже делать нечего, если только кто за грибами на Плешь поедет, но местные его лодку знают.
Олег ступил на ствол упавшего дерева – оно окунуло мертвую крону в воду, а мертвыми корнями еще держалось за землю. К нему он причалил, к нему и лодку привязал.
Корзина, пусть и не тяжелая, нарушала равновесие. Олег отвел свободную руку в сторону, растопырил пальцы, готовый вцепиться в воздух. Сделал три мелких шага и схватился за алюминиевый борт. Поставил корзину. Забрался сам.
Подвесник завелся с полрывка. На самом малом Олег направился к выходу из старицы. Намотать на винт водоросли он не боялся. На «лапе» мотора была металлическая пластина с остро заточенным краем.
-–
Такую конструкцию – с лезвием, похожим на кукри, нож непальских гуркхов, – он отыскал в Интернете, потом самолично клинок выпилил, изогнул и закрепил. А узнал о ней раньше – во время круиза по Средиземке. У Липарских островов, ночью, он как раз был на вахте, они влетели в «рыбацкое поле» – мешанину расставленных сетей. У него екнуло под ложечкой: это ж та еще напасть – намотать сети на винт – ныряй потом, срезай. Но шкипер, человек бывалый, его успокоил, потому что в марине, принимая яхту, проверив паруса, работу приборов, уровень солярки в топливном баке и много чего еще, специально поинтересовался у представителя чартерной компании, есть ли у винта лезвие «антисеть», и тот заверил, что, да, имеется. Так что волноваться не о чем, ну порежут одну-другую, так рыбачки сами виноваты, нормальные буйки надо ставить, с подсветкой, а не старые канистры вешать. Обошлось, однако, без экзекуций: мотор включать не пришлось, как зашли под парусами, так под ними и вышли, счастливо миновав рыбацкие ловушки Тирренского моря. Хотя, конечно, такой нож не панацея, могли сеть килем прихватить и пером руля…
Тот случай вспомнился здесь, на озере, когда пару раз у винта срывало шпонки, и ему приходилось браться за весла. Вот он и «вооружил» мотор надлежащим образом. С тех пор водяную зелень подвесник шинковал, как повар капусту. А случалось, и сети браконьерские кромсал, те, что притапливали не слишком глубоко.
Егоров считает, что из-за порезанных сетей все и вышло. Был у них в свое время о том разговор.
«Не боишься, Олег?»
«Чего?»
«А того самого. Спасибо скажи, что народ у нас мирный, а то ведь можно и заряд дроби из кустов получить. Так, чтобы не насмерть, а для острастки и науки».
Позже, после пожарища, участковый в своем мнении утвердился:
«Из-за них спалили, Олег, из-за сетей. А ведь я предупреждал!»
Только ошибается Игорь Григорьевич…
-–
В старице вода была гладкой, как черное расплавленное стекло, но и озеро сегодня было тихим. Ни ветерка, дальний берег затянут дымкой. Это значит, есть на то примета, что быть к вечеру дождю, а до него шквалистому ветру, и будет он от северо-запада, со стороны райцентра, сначала его потреплет, потом прошелестит по деревьям полста километров, после чего доберется сюда и разгонит волну. Но пока тихо.
Олег взял правее, чтобы обогнуть остров Косой.
Вообще-то остров правильнее было бы называть Кособоким, только это длинно. А потому правильнее, что остров действительно кособочился. Он напоминал запятую: где «хвостик» – там порос камышом, а где «кружок» – клонился так, словно хотел нырнуть в воду, да отчего-то раздумал. Тот край «кружка», что был обращен к северу, представлял собой косогор, местами отвесный, по весне подмываемый паводком, а до того терзаемый ледоходом. Южный край был с длинным пляжем, и там еще долго было мелко. На этом мелководье хорошо брала уклейка.
На Косом острове – тащил его когда-то ледник, кряхтел и пыжился, но выдохся и бросил – летом часто останавливались байдарочники. Иногда только переночевать, и эти гадили больше, чем те, кто задерживался на несколько дней, те кое-как прибирались.
Олег приезжал на остров со Славкой. А раньше еще и с Шурупом. Тому стоило оказаться на берегу, как он начинал радостно безумствовать, то повизгивая, то заливаясь лаем. А Славке здесь была самая пахота. Лишь поначалу лицо его кривилось, на глаза наворачивались слезы, руки повисали бессильно.
«Не плакать!» – строго говорил Олег.
Было у них на Косом укромное место – яма, оставшаяся после скатившегося по склону валуна. Камень успел вновь врасти в землю, а яма на прежней его лежке осталась, пусть и приглаженная временем. В этой яме Олег разводил костер и сжигал все, что приносил Славка.
На острове были окопы – с косогора хорошо просматривался вражеский берег, – россыпь стрелковых ячеек. Огонь запалить можно было и в них, но в самый первый раз, выбирая место для костра, Олег обошел их стороной.
Когда солнце скатывалось к лесу, Олег залезал в лодку, чтобы поймать вечерний клев, а с ним и впрямь что-нибудь поймать, тех же уклеек, тоже рыба.
Он подсекал, выуживал, забрасывал снова, а Славка все причесывал да прихорашивал остров. Закапывал жестянки и бутылки. Собирал в кучки головешки у костровищ. Всякую бумагу – линялые газеты, салфетки, обертки – бросал в костер, и туда же разную пластмассу: огонь все стерпит.
Олег тянул до последнего, потом сматывал удочки и отправлялся за Славкой и Шурупом.
Звереныш, топыря лапы, запрыгивал в «бестер». Потом в лодку садился Славка. Заглядывал в глаза благодарно и преданно. Хватался за весла. На моторе было бы быстрее, но Славке нравилось грести, и это еще несколько минут рядом с дядей Олегом.
На причале их ждала Колычева. Она всегда встречала их, когда они ездили на Косой: темно все-таки, поздно.
«Мама! – кричал Славка. – Мама! Мы плывем».
Мария Филипповна не отвечала, оставаясь безмолвным силуэтом, вырезанным не слишком умело – ни талии, ни шеи – из черной бумаги. В силуэт ее превращал фонарь у причала, маяк, желтая бусина, зажигавшаяся от фотореле, остальные фонари на территории усадьбы требовали ручного вмешательства. И этот фонарь, укрывшийся за спиной, окружал Колычеву светящейся каймой. Это было красиво, почти волшебно.
«Мама!» – кричал Славка.
Нос лодки ударялся о причал. Колычева подхватывала веревку, привязанную к носовой утке.
Славка ставил на помост Шурупа, и тот уносился к дому, к миске, в которую налила молока эта замечательная добрая женщина.
Выбирался на причал и Славка. Он что-то говорил, быстро-быстро, захлебываясь словами. И не в силах объяснить, как ему хорошо, тыкался головой в плечо матери, продолжая лепетать что-то уже совсем бессвязное.
Мария Филипповна гладила сына по голове, но смотрела на Олега, словно пыталась что-то разглядеть. Или разгадать.
Олег привязывал «бестер». Обвивал цепью дейдвуд мотора и замыкал замок, чтобы не снимать подвесник и никого не искушать: свои, местные, не тронут, но вдруг кто сторонний на озере объявится, что вряд ли, конечно, но всякое случиться может.
Самые обычные дела позволяли изгнать с лица то, что могло его выдать. Он не хотел такой откровенности. «Мама!» – кричал Славка. У него такого не было. С мамой, его мамой, дай ей Бог здоровья. Он завидовал Славке, злился на себя и не в силах был с собой справиться.
Колычева могла заметить плохо стертые следы этой зависти, и Олег отворачивался. Темнота была ему в помощь, а ей не в помощь фонари.
Вот почему он задерживался на Косом допоздна. Не из-за Славки. Эти минуты на причале, всего-то одна-другая, портили все. Поэтому они отправлялись на остров раз в месяц, не чаще, когда Олег сдавался, потому что Славка так ждал, смотрел так жадно, что не уступить было невозможно.
«Пора нам», – говорила Мария Филипповна.
Он поднимал на плечо весла, их он относил в эллинг.
«До свидания. И тебе, Слава».
«Я завтра приду», – тот отрывал голову от плеча матери.
«Конечно, приходи. Будем корабль строить. Еще дядя Саша приедет. Когда хочешь, тогда и приходи».
«Приду».
Славка никогда не болел, не простужался. Все недуги и невзгоды, отмеренные Господом ли, судьбой ли, он уже выбрал. Поэтому он придет. И завтра, и послезавтра…
«Может, отвезти?» – спрашивал Олег. Колычевы были не из Покровского – полымские, но и туда четыре километра, и это если по тропинке вдоль берега, обходя Подлое болото, а по дороге все шесть. Поэтому он и спрашивал, даже не гадая, что услышит в ответ.
«Мы сами, у меня фонарик есть», – гордо говорил Славка и доставал из кармана фонарь. В его пластмассовом корпусе была укрыта динамо-машинка, приводившаяся в действие рычагом. Фонарь тонул в ладони Колычева. Тот начинал сжимать пальцы. Раздавалось жужжание, соцветие LED-светодиодов выбрасывало белый луч. Олег как-то попробовал, но чтобы так быстро и так ярко, у него не получилось.
«Пойдем, Слава!» – торопила мать.
Они уходили. Луч фонаря шарил по траве. Иногда сквозь него проскакивали белые искры – мотыльки, а иногда Славка ловил лучом ночную бабочку, и та металась в конусе света, пока в отчаянном усилии не вырывалась на свободу – во тьму.
Олег поднимался к дому. На ступеньках всегда что-нибудь находилось – пирожки, печенье, банка молока, не только Шурупу лакомиться. Молоко у Марии Филипповны Колычевой было чудесное. Но его к ночи, может быть. Сначала водки.
* * *
Лера поддернула замок «молнии» к шее. Куртка жала в плечах, но уж лучше так, чем голой грудью на всю улицу светить.
Настроение менялось ежеминутно. То она улыбалась, вспоминая реакцию матери… Этого она и добивалась – позлить. Для того нацепила шмотки, в которых нечего удивляться, если на улице к тебе подвалит урод с мутными глазами и предложит располовинить пупырь пивасика. Ханжам надо бросать вызов, иначе они возьмут верх. Они мнят себя непогрешимыми, будущее для них как следующая глава плохого детектива, когда, несмотря на все потуги автора, уже ясно, что убийца – дворецкий. Отсюда все эти нотации, поучения и глухота – других они не слышат, не считают нужным. Вот и мать из таких. Хотя не из замшелых, от которых нафталином разит до тошноты. Принять бы это и примириться, но ее не смиряло то, что мать не в рядах помороженных, пусть на шажок, а впереди. Потому что другие были по боку, а с матерью так не получалось. Потому что мать ее в первый класс за руку вела, бантики вязала, на костюм лисички-сестрички воротника своего пальто не пожалела. Так с какой минуты, с какого дня стало перевешивать другое? Вроде и незаметно, но подрастала кучка, камешек к камешку, те лишь поначалу обращались в ледышки, истаивали, потом превращаться перестали. И уже ничего не прощалось, не забывалось, и был вынесен приговор: виновна! А значит, наказуема. Хотя бы этой идиотской кофточкой, ляжками врастопырку, да, наверное, и Денчиком.
Проходили секунды, и улыбка слетала, даже не пытаясь зацепиться за губы. Конечно, Денис ее любит, и она его, но чтобы сразу в омут? Это для в книжек про закаливание. И не в Денисе, она в себе не уверена, поэтому шалаш не нужен – нужна квартира.
Лера вышла из подъезда, но не пошла направо – к метро, не пошла налево – к остановке автобуса, она пошла прямо – по аллее, что начиналась от их дома и тянулась вглубь квартала.
-–
Здесь они когда-то гуляли с отцом, она еще маленькая была, и отец рассказывал, как эта аллея появилась.
Случилось это лет за пять до ее рождения. Деревья посадил сосед из квартиры двумя этажами выше, низенький дядечка в спортивных штанах с пузырями на коленях. Потом ухаживал, по весне окапывал, поливал.
«Никто ему не указывал, никто не помогал, все сам, – говорил отец. – По велению души. Тут главное – понять, чего она хочет, требует. И сосед наш это понял».
Деревья окрепли и потянулись вверх, а потом как-то внезапно, в один год, стали высокими, и если не гордостью квартала, то уж точно украшением. Но дядька в линялых трениках этого не застал – сердце подвело. Лера помнила, как его увозили, как чертыхались санитары, корячась на лестнице с носилками. Сейчас в квартире, что двумя этажами выше, живет его жена… вдова. Серая мышка. Из дома почти не выходит, только в магазин, и чтобы дойти до него, не нужна аллея, достаточно тротуара, магазин в их же доме, витринами на улицу. Прошмыгнула – и назад, в норку. И никто к ней не приходит, детьми они с мужем не обзавелись. И дом дядька в трениках не построил. Из обязательного набора только дерево посадил, и не одно.
-–
Между деревьями стояли скамейки. Это ЖЭК постарался. Лера села, поправила юбку, достала телефон.
– Денчик, с матерью я поговорила… Да никак. Все она понимает, а шевелиться не хочет. Помнишь, она по просьбе отца девку деревенскую в московскую клинику устраивала. Что?.. Он попросил – мать сделала. Теперь ее очередь, а она не хочет. Что?.. Нет, из вредности – это вряд ли. Она или сама какие-то планы имеет, или действительно не верит, что отец расщедрится. Я так думаю, нам самим попробовать надо. Что?.. Я тоже унижаться не собираюсь. Но просто попросить – что в этом такого? В общем, я так думаю, надо съездить к нему. Вдвоем! У тебя же мотоцикл на ходу. Ты свою подработку в ресторане на два дня бросить можешь?.. А ты постарайся. Ради меня. Ради нас… Ладно, ладно, не злись, вечером поговорим. Пока… И я тебя.
Дав отбой, Лера пробежалась по списку контактов. Отец… Позвонить? Чтобы не как снег на голову. Еще можно бабушке о себе напомнить, пусть работу проведет. И дядя ей поможет на правах младшего братика. Нет, фигня, и пальцем не пошевелят, они и прежде через не могу общались, а как отец на озеро уехал, так вообще вычеркнули. Поэтому в разговоре с матерью они о других Дубининых и не вспомнили. Отчего же сейчас на ум пришло? Что, спасение утопающего – в последней соломинке?
Лера встала. Так звонить или врасплох?
Свернув за угол дома, она направилась к метро по застеленному листьями асфальту.
– Посторонись!
Рабочие в оранжевых жилетах пытались взгромоздить в кузов грузовика ствол дерева.
Лера торопливо прошла мимо. И подняла глаза, сама не зная почему, что заставило?
У окна их квартиры стояла мать. Лера старательно завиляла бедрами. Пусть видит! Пусть знает, что и сегодняшний урок, пускай неуклюже преподанный, остался ею невыученным. И тоже поставлен в вину.
* * *
Он выпьет. Такой день – как не выпить?
Олег обогнул Косой с запасом. У западной оконечности острова была мель с увязшими в ней валунами, последышами все того же ледникового периода. Когда на юге, у дальней границы озера, поднимали щиты бейшлота, чтобы напоить Волгу, сделать ее судоходной и в самую сильную засуху, уровень в озере понижался и валуны высовывали из воды черные мокрые спины. В мокрое лето и по весне, в половодье, вода укрывала их, и тогда они были особенно коварны, запросто можно лодку побить.
Как обогнул, открылась деревня. Покровское. Два десятка домов, еще больше за деревьями на «второй линии», а там еще и «третья».
Берег был утыкан банями и сараями. Подзавалившись на бок, лежали вытащенные на песок лодки.
Один дом, другой… У забора стоял Тютелька. Его и с приличного расстояния невозможно было не узнать. Такой куртки ядовито-зеленого, «кислотного» цвета не было больше ни у кого. Завези такую в магазин в Покровском, так и останется висеть на «плечиках», никто не позарится. Хотя Люба в своем магазинном хозяйстве такого безобразия и не потерпела бы.
Тютелину куртка досталась с чужого плеча. С подорванным в пройме рукавом и подпалиной на груди, небольшой, с донышко чайной чашки. Как подпалина оказалась в столь «неуказанном» месте, на сей счет залетные не распространялись. Куртку они хотели выбросить, а Тютелька прибрал. Зачем добру пропадать, и вещь-то стоящая – не промокает, изнутри местами сетка, чтобы не потеть, рукава на резинках, капюшон. Цвет, конечно… А что нам цвет? И рукав пришить можно, делов-то, а на пятно карман, из подкладки, и будто так и надо, по-модному.
Приложив ладонь козырьком к бровям, Тютелька смотрел на озеро. На него смотрел, на Олега.
Знал ли Тютелин, что залетных больше нет? Не исключено. Казалось бы, откуда? Но это если рассуждать логически, а в реале новости здесь разлетались быстро – так быстро, что в этом явно была какая-то тайна, недоступная чужакам. Олег, хотя и жил на озере не первый год, все еще слыл приезжим, поэтому секретом не владел. Поначалу удивлялся, пытался разобраться, а потом и то и другое бросил – плюнул, как плюнул Тютелька на наличие подпалины на куртке, выкинутой залетными. Ведь они у него квартировали, залетные, и в прошлом году, и в этом.







