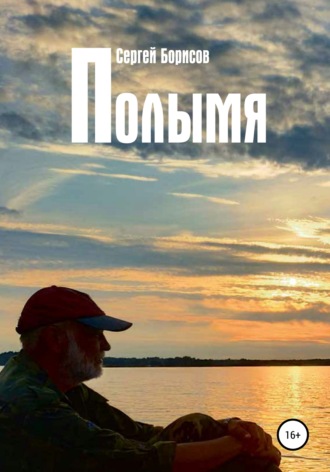
Сергей Юрьевич Борисов
Полымя
Еще говорят, это из-за недостатка цинка – он нужен для роста плаценты. Вот и обкрадывается организм, оттого уродуется обоняние, непредсказуемым становится вкус. И все это во имя будущей жизни! Так всегда: без жертв нового не построить – ни в государстве, ни в человеке. Все просто, но ей-то что до этой простоты? Сейчас! Здесь!
Сухими выплаканными глазами она обвела стены. Ну почему брат обил их вагонкой? Оторвала бы кусочек обоев… Она зажмурилась, представив, как языка касается шершавая полоска бумаги. Сглотнула. Стало еще хуже. Господи, угораздило же ее поскользнуться! Дождь, ступеньки мокрые… Хорошо еще, что устояла, не грохнулась с крыльца.
Всего лишь растяжение, а до соседей не добраться. Прыгать? А можно ли ей на пятом месяце? Лучше не рисковать, на сегодня приключений хватит.
Что делать? И до кухни-сарайчика не дойти, а там упаковки от вермишели, геркулеса, в карманах куртки старые билеты на электричку.
Как еще хватило сил вернуться в дом…
Вот же странно: лежишь – совсем нога не болит, а ступить нельзя – искры из глаз. Может, перелом? Нет, растяжение, без вариантов, другие даже не рассматриваются.
Где бы взять обрывок газеты?
Крикнуть? Никто не услышит. СНТ спит. И зачем она сказала родителям, чтобы съездили на помывку в город. Успокаивала еще: ничего со мной до утра не случится. Вот и «не случилось»…
А все дача! Шесть соток! Сюда приезжают вкалывать. Тут не до чтения. Отец вообще никогда этим не баловался, брат тоже равнодушен, а вот за маму обидно: раньше – да, а теперь только перед сном страницу-другую. Говорит, это ей помогает: страха меньше и вера крепнет.
Она вздрогнула. Есть бумага, только руку протянуть!
Зажигать свет она не стала. Повернулась на бок, нащупала книгу, вырвала страницу, сунула в рот и стала жевать.
Ради тебя, малыш, ради тебя!
Книгу она положила рядом с собой, прикрыла ладонью, ласково, точно боялась, что та заплачет, запричитает, возопит.
Библия безмолвствовала».
* * *
Что-то ему сегодня все про дачи попадается да про падения: один ногу подвернул, другая… И что с этими «пятью месяцами» делать? Тоже гори-гори ясно? Что-то рука не поднимается…
Рука поднялась для другого. Олег еще раз отдал должное кашинскому бальзаму. Закурил.
Шуруп недовольно заворочался.
Ну вот еще, будет кто указывать, что можно и что нельзя. Табачный дым ему, видите ли, не по вкусу. А снежок в мордень, это вам как, любезный? Можно устроить. Только там темно, холодно и углы давно помечены. Там скучно, даже полаять не на кого.
-–
Когда на белоснежном покрове озера впервые появилась цепочка волчьих следов, Шуруп пришел в неистовство. Хотя откуда ему было знать, шалопаю, что следы волчьи? Он книжку Формозова «Спутник следопыта», в отличие от хозяина, не читал, с рисунками из нее не сверялся. Что, память крови? Инстинкт, который не задушишь, не убьешь?
Шуруп носился колбасой, вздергивал нос и горбатил загривок. Весь его вид выражал недоумение: куда делся вражина?
Вообще-то было чему удивляться. Следы обрывались у берега, у причала. Словно волчара брел, дырявя лапами снег, а потом ему это надоело, и он воспарил, попирая закон тяготения, подставил мохнатый бок ветру, и тот унес его в даль.
Вероятно, нашлось бы и менее фантастическое объяснение, но Олег его не искал. Как-то совсем не до эзотерики, когда по твоей земле бродят волки. Между прочим, существа плотоядные.
Он хотел позвонить Егорову, а потом подумал: можно и съездить. И в магазин зарулить.
«Эй, брателло, карета подана».
Олег придержал дверцу «хайлюкса» в ожидании, когда Шуруп займет привычное место на правом сиденье. Оно было застелено старым джемпером, который Олег не выбросил, будто предчувствуя, что он еще послужит. Тогда рядом не было Шурупа, его вообще не было, распутной мамаше лишь предстояло его нагулять, а поди ж ты, так и произошло, нашлось дело – сиденье джипа оберегать от грязноватой, непоседливой, когтистой животины.
Шуруп запрыгнул, покрутил головой, тот еще лоцман, и нетерпеливо тявкнул: дескать, чего тянешь, газуй!
Дорога была вполне проезжей, иначе пришлось бы воспользоваться снегоходом. Но днями вызванный скрепер прошелся, почистил, навалил сугробы на обочины. И у дома было прибрано, для того имелись снегоуборщик приличной мощности, бешеная тарахтелка, и набор лопат от именитой фирмы Fiskars. Хотя Олег предпочитал жестяную собственного изготовления. Зачем, спрашивается, сделал при таком шанцевом изобилии? А захотелось.
Он покатил по белому-белому миру, мимо кустов, обратившихся в волны, мимо воспетых Есениным берез в подвенечных платьях, мимо укутанных в плащаницы елей. В воздухе клубились снежные искры, вздрагивающие от прикосновения солнечных лучей.
«Красота-то какая!»
Пес покосился на него с укоризной: что за сантименты, парниша?
«Красота, говорю», – настоял на своем Олег.
Шуруп обнажил левый клык, но упрямиться не стал, склонил лохматую башку.
«Так-то лучше, – удовольствовался этим Олег. – Старших нужно слушать. И почитать».
Тут джип повело, даже ABS подключился, так что стало не до разговоров. Олег выправил машину и, только повернув на большак, прибавил скорость.
В Покровском он остановился у дома Егоровых. Участковый был за столом, чаевничал после обеда. Усадил напротив.
«В соседнем районе тоже видели, – сообщил он. – Значит, теперь и у нас объявились. Из новгородских лесов идут. Много их там стало, жратвы на всех не хватает, вот и…»
«Мигрируют», – подсказал Олег.
«Точно. Хорошо, что предупредил. Надо людей оповестить, чтобы осторожничали. Думаю, не сегодня-завтра распоряжение поступит на отстрел. А нашим охотничкам только того и надо. Ружья у многих есть, даже у Тютелина старая «тулка» в сундуке хранится».
«В сундуке?»
«Ты еще об охотничьем билете спроси. Да, в сундуке. А ты в каком деревенском доме сейф видел? Правила, они городскими для городских пишутся, а у нас свои особенности. Приходится учитывать. Кстати, тебе и самому неплохо бы ружьишко купить. Живешь на отшибе, а тут волки, да и вообще, не помешает».
Олег отодвинул чашку:
«Пойду я».
«Что ж так коротко? – всполошилась мать участкового, появляясь в дверях. – Я бы блинов сейчас на скорую руку…»
«Потом как-нибудь, Анна Ильинична, обязательно. Шуруп, наверное, извелся весь».
«Нашел компанию, – хмыкнул Егоров. – Толку от твоего Шурупа – ни сторожить, ни за дичью. А о ружье все-таки подумай. Я помогу споро документы выправить. Волки – это не шутки, так что ходи и оглядывайся».
«Обязательно».
«Корабль-то как, строишь?»
«Помаленьку. Больше в мастерской вожусь».
«Ты его по весне как конструктор собирать будешь?»
«Вроде того».
«А как вообще, получается?»
«Стараюсь», – сказал Олег, поднимаясь. Признаваться, что получается не очень, совсем не хотелось.
Во дворе из-под наста высовывались зеленые еловые лапы – Анна Ильинична укрыла клумбы, навалила веток. Столбы забора примерили белые шапки, да так в них и остались. Сирень гнулась до земли под непомерной снежной тяжестью.
Холод обжигал. Замок «молнии» защемил край шарфа, так что пришлось повозиться, прежде чем справился. Тропинка, попираемая валенками, обиженно поскрипывала. А все равно, хорошо-то как!
Шуруп встретил его печальным взглядом: что так долго? И вообще, не по-человечески это, собаку взаперти держать.
«Сам виноват, – сказал Олег, усаживаясь рядом. – Овечкой не прикидывайся. Что в прошлом месяце учудил, не забыл, или напомнить?»
Да уж, Шуруп навел тогда шороху. Олег – в магазин, а этот непоседа – на поиски приключений. Всю деревню всполошил. Набрехался до хрипоты. Ну и нарвался, собравшись доказать собрату по породе, кто тут за смотрящего, а что соперник весом больше и статью вышел, того не учел. К магазину Шуруп приплелся помятый, понурый, скулил жалобно. Олег хотел наподдать чертяке, но сдержал себя, обошелся без пенделя. Однако проучить Шурупа следовало, и с тех пор на волю в Покровском и Полымени его не выпускали: смотри и облизывайся, глядишь, ума чуток прибавится. И судя по нынешнему безупречному поведению, урок был усвоен, вопрос – надолго ли?
Следующая остановка – магазин. Дверь, заиндевевшая у косяков, была плотно прикрыта. Ступеньки присыпаны песком.
Покупателей в магазине не было.
«Добрый день».
Люба стояла на табурете. Спрыгнула, ушла за прилавок.
С тех пор как Олег был здесь последний раз, ангелов прибавилось. Улыбающиеся и строгие, со сложенными за спиной и расправленными крыльями, в длинных хитонах и коротеньких рубашках, они висели под потолком на нитках и вращались в медленном танце. Сейчас их было десятка полтора, а на прилавке лежали еще две фигурки – и листы плотной бумаги, и ножницы, и цветные карандаши, и катушка ниток.
«Помешал? Извините. Давайте помогу, я все-таки повыше вас».
«Не надо. – Челка плотнее занавесила лицо. – Сама справлюсь. Вам хлеба?»
«Хлеба мне, Люба, не надо. У меня просьба. Не могли бы вы и мне таких ангелов вырезать. Парочку».
«Зачем вам?»
«Нравятся. Очень они у вас хорошо получаются. В доме повешу».
«Зачем?»
«Как зачем? Новый год на носу. Потом Рождество, Крещение. Пусть радуют. Пожалуйста».
«Сделаю…» – последовало после паузы, и Олег мог только догадываться, сколько всего эта пауза в себя вместила.
«Договорились. Я дня через три заеду».
Он взялся за ручку двери. Сейчас подует сильнее, и ангелы под потолком закружатся, как девочки-снежинки на утреннике в детском саду.
Больше в Покровском его ничего не удерживало. Что намеревался – сделал. А с Любой вон как издалека заходить приходится…
«Все, Шуруп, – он повернул ключ в замке зажигания. – Домой, на волю».
Через три дня, под перестук капели внезапной оттепели, он снова был у магазина. Вошел и ждал, пока уберется Тютелька, покупавший курево. На прощание тот одарил Олега неприязненным взглядом.
«Не хотел при этом…» – объяснил Олег доверительно и вполголоса, словно у них с Любой была одна тайна на двоих. А тайны сближают.
Люба протянула ему конверт.
Слова восхищения были заготовлены, но произнести их следовало чуть погодя. Поэтому Олег достал из конверта бумажных ангелов, рассмотрел и только тогда сказал:
«Спасибо! Прелестно!»
Он не лукавил. Фигурки были выполнены мастерски. Тонкая работа, и со вкусом. Это он отметил, когда еще прошлой зимой увидел, как и чем украшает продавщица поселковый магазин. Тогда он воздержался от вопросов – не те были отношения, не сложились еще, а в этом году спросил у Анны Ильиничны, и та просветила:
«К Рождеству готовится Люба. И так каждый год, лет пять уж. Народ сначала посмеивался, но не по злобе, плохого не думай, из удивления. От кого-кого, а от Любы такого никто не ожидал. Она же каменной казалась, а смотри-ка, каменная, да не совсем. Ох, ничего-то мы о людях не знаем. Живем рядом, а не видим. Любу многие просили таких ангелов им сделать, она всем отказала. Кто-то сам пытался вырезать, но так красиво не получалось. Тут без любви никак, а у Любы она нерастраченная, сам понимаешь».
«А если я попрошу, то как?»
«Вот уж не скажу. Ты, Олег, человек у нас новый, за тобой следа нет, за спиной Пятнатой не обзываешь. Попробуй, а откажет – не обижайся».
«Не обижусь. Отучен. А давно у нее…»
Олег поднес пальцы к лицу, но Егорова оборвала его на полуфразе:
«На себе не показывай! Примета есть – на тебя зараза перейдет».
Олег отдернул руку, но вопрос повторил:
«Давно у нее пятно это?»
«Не с рождения. Она в школе училась, в последнем классе. Тогда в деревнях наших детишек куда боле было, чем сейчас, их в район на автобусе возили. Как-то вернулась из школы и жалуется: щека горит. Отчего? Укусил кто? Обожглась? Нет, ничего такого. Думали, пройдет, а оно вон как вышло, через неделю пятно на треть лица. В школу Люба больше не ездила, стеснялась на людях показываться. Игоряша-то мой, он тогда хоть и помоложе был, а настырный, поговорил с директором школы. Уж как убедил, не ведаю, но диплом об окончании десятилетки ей выдали».
«А что врачи?»
«Ездили они с матерью. Только у нас не больничка – одно название. Доктора какие-то мази прописали, те не подействовали. Тогда руками развели: не знаем, что такое, в областную давайте. Отправились они туда, а им: вам в Москву надо, нет у нас специалистов по таким болезням».
«И что?»
«А то, что в Москве они не были. По бесплатному лечиться – время терять. За деньги – а где их взять? Времена-то какие были? У нас ферму закрыли, да и вообще – ужас. Народ совсем обеднел, а столичные врачи дорого стоят, не напасешься».
Олег пожал плечами:
«Так-то оно так, но можно было исхитриться, другие как-то выкручивались».
«Как? С сумой по миру пойти: подайте, люди добрые. А Люба гордая, у меня денег не взяла».
«У вас?»
«А что ж такого? Я матери Любы постарше буду. Хоть и не подруги, а все же в одной деревне всю жизнь живем. Как с дочкой эта беда приключилась, она мне не раз плакалась. Вот я и принесла деньги, у нас с Игорем отложены были. Не взяла… Разуверилась Люба».
Егорова внимательно посмотрела на Олега, что-то для себя решая:
«Ладно, ты не разнесешь, при себе держать будешь, потому и скажу. Не разуверилась она, а поверила. Люба ведь не только к докторам обращалась. К знахаркам тоже. Есть у нас такие. Одна так даже знаменитая, к ней издалека люди приезжали. Одни Любе отвары совали, другие – примочки, и все без толку. Тогда они к той знаменитой повелись, а знахарка глазами зыркнула и говорит: идите отсюда, порча это, и нет от нее средств во всем свете, и денег ваших мне не надо, потому как помочь не могу, не дано мне этого».
«Какая честная колдунья», – с иронией проговорил Олег.
«Ворожея. Ведьмино семя. А у них правило: пообещала, что сделать не может, дар могут отобрать».
«Кто?»
«Кто дал, тот и отнимет. Силы какие-то, а какие… Может, то колдуньям известно, только они помалкивают».
«А не проще все? Видят, что не справятся, случай сложный или запущенный, вот и не берутся, чтобы своей репутации не навредить. Так ведь легко клиентуру растерять».
«Может, и так, – не стала спорить Егорова. – Те, которые поглупее, на это не смотрели, с отварами своими, а эта, значит, была умная».
«Была?»
«Померла она прошлым летом. Даже в газете писали».
«Болела? Что же она себе не помогла? Сапожник без сапог».
«Вот ты смеешься, а неправильно это. Умер кто, пусть земля ему пухом, его пожалеть надо, ему суд предстоит, и что еще там решат… Я думаю, если и были за ней прегрешения, то многое простится. Людям помогала и многим помогла. А что кому отказывала, так то не грех, а наоборот, обманывать не хотела, надеждами тешить, а это уже благо».
«Вы же про ведьмино семя сказали, не я».
«Сказала… Но не осудила. Есть кому повыше меня судить. Вдруг не ведьмой она была, наговорами только, а божьим человеком, как Евфимий».
«Это тот, который в скиту жил?»
«Ну да, я же тебе рассказывала. Или как Ириней».
«Старец монастырский?»
«Он, дай ему Господь здравия. Вот к нему, к старцу, Люба и пошла после всего с поклоном и крестным знамением».
«То есть знахарке не поверила?»
«Да как же ей можно верить, ведьме?»
«Помилосердствуйте, Анна Ильинична, то она у вас ведьма, то не ведьма, то хорошая, то плохая. Вы уж определитесь, а то у меня мозги набекрень».
«Это потому, что я старая, а у старух в голове каша пшенная. Но слушай, что дальше было».
Олегу захотелось закурить. Или выпить. А лучше и то и другое. Так захотелось, что запершило в горле. Он кашлянул.
«Что такое? – забеспокоилась Егорова. – Водички?»
«Нет, все нормально. Так что было дальше?»
«Не знахарке – Люба старцу поверила. Когда с монастырского острова вернулась, сказала матери, что терпеть велел».
«Утешил, называется».
«Не понимаешь ты, Олег. Терпеть – это ждать».
«Чего?»
«Чуда. И человека. Чуда без человека не бывает».
«За чудесами – это к волшебникам. Еще святые их творят. Мученики разные, страдальцы».
«Они за людей страдают, потому и могут других больше. Только не они творят – Господь по их молитвам».
«Пусть так».
«Так и есть».
Исходя из услышанного от Егоровой, Олег сомневался, что получит согласие продавщицы сельмага вырезать ему из бумаги ангелов. Но, должно быть, он и впрямь был на особом счету. Чем еще объяснить?
«Спасибо, – еще раз поблагодарил он. – Только вот что, Люба…»
Девушка и прежде была настороже, а после его слов напряглась, готовая и защищаться, и нападать.
«Вы не будете возражать, если я вашим даром поделюсь? Дурного не думайте, я о Славке Колычеве. Он ко мне приходит, увидит – попросит, а я отказать не смогу, так что уж лучше сам».
В ответ он услышал тихое:
«Славе можно. – А затем продолжение, на которое рассчитывал: – Я вам еще сделаю… – И совсем шепотом: – …Олег».
Этого он не ожидал – чтобы по имени. Есть контакт! Теперь его надо закрепить, упрочить.
«А какого отдать – этого или этого?»
Люба наклонила голову, и челка-завеса сдвинулась в сторону.
«Какого хотите».
«Тогда этого, с кудряшками. Как считаете, понравится?»
«Не знаю».
«Обязательно понравится. Прямо сейчас к Славке и заеду, чего тянуть, верно?»
«Верно».
«Остановись, – подумал Олег, – на сегодня достаточно».
«Все, погнал. А к вам опять дня через три».
На крыльце Олег улыбнулся: прокатило как по маслу, даже лучше, словно смазки ED-40 не пожалели, это которая в синем баллончике, напрыскали от души.
С козырька над крыльцом сорвалось несколько капель, простучали по ступенькам. Стоит подморозить, они обратятся сосульками, а крыльцо затянется льдом, и Люба будет его скалывать, присыпать песком.
«Й-эх! – выдохнул он. – Эй, Шуруп, бродяга, заждался?»
Пес расплющил нос о стекло двери «хайлюкса», вид при этом у него стал уморительный.
«Едем к Славке!»
И они отправились в Полымя, держась колеи и рассыпая брызги.
Славка оказался дома, и как же он обрадовался ангелу! Сложил огромные лапищи ковшиком и принял, как птенца в гнездо. И это было чудо, то самое, о котором говорила Егорова, которого без человека не бывает.
Вечером Олег порылся на полках и нашел «Алые паруса». Хорошее собрание у Воронцова, богатое.
Он помнил слова капитана «Секрета» о чуде, которое подвластно человеку, но помнил, как эти слова звучали в фильме, изреченные до неприличия красивым актером Лановым. А как в книге?
Олег сел в кресло у камина. Нет, сначала он достал из конверта бумажного ангела. Куда бы повесить? И повесил, закрепив нитку скотчем на углу каминной доски. Только после этого открыл книгу. Стал листать – и не обнаружил нужные слова там, где им полагалось быть, в финальной сцене. Он даже растерялся, но потом наткнулся на них несколькими страницами ранее. И были они какими-то путаными, хотя и хранили главное: если душа человека хочет чуда, подари ему это чудо, и новая душа будет у него, и новая у тебя.
Не об этом ли толковала Анна Ильинична? Отчасти. Только атеист Грин не стал вплетать в свой пассаж Господа. Но эти слова были и о нем, Олеге Дубинине, обещавшем себе сторониться всего и всех, зарекавшемся и позабывшем о зароке. Но еще не поздно сделать по-ленински: шаг вперед, два шага назад. И вероятнее всего, так и будет. Он отступит.
Олег перелистывал страницы. К началу – когда моряк Лонгрен отказал человеку в спасении, пускай и не заслуживавшему его. Потом в конец – когда Ассоль вошла в море, протягивая руки к Грэю. И поразился тому, как диаметрально противоположно подана эта сцена в книге и фильме, как по-разному показаны жители Каперны. Злобные, испуганные, ненавидящие, они отшатнулись от девушки, дождавшейся своего принца. Так у Грина. И они защитили ее от кабатчика Меннерса, облагороженные творящимся на их глазах чудом. Так на экране. Наверное, писатель был честнее, но в фильме смотрелось лучше.
Он закрыл книгу и вернул ее на полку.
Проходя мимо камина, Олег коснулся пальцем фигурки ангела, и ангел повернулся к нему.
* * *
Сейчас их было три. В потоках теплого воздуха, поднимавшихся от углей, ангелы тешили взор изящными пируэтами. А тот, в чьих крошечных ручках был горн, казалось, еще и дрожал от нетерпения, готовый возвестить наступление Рождества.
– Рано, – успокоил его Олег. – Сначала Новый год. Елку нарядим, куранты послушаем, водочки хряпнем, отметим, проспимся, тогда и о Рождестве подумаем. Так, Шуруп?
Веки хитреца затрепетали, но глаз он не открыл. Лукавое отродье!
Олег вмял сигарету в пепельницу. Щедро плеснул в бокал, отхлебнул. И снова вернулся к папке, лежащей на коленях. Или хватит на сегодня, а то глаза замылились? С другой стороны, лучше пережечь, чем недожечь, тем более что слабенькое нынче аутодафе получилось. Вот когда он роман жег, ну чисто Гоголь второй том «Мертвых душ», тогда знатно полыхало.
Так, что там сверху? «Четыре нуля». Это о книгах. И о людях, конечно, их мироощущении, сказал же кто-то, что мир человека – в себе, и в его воле превратить этот мир в рай или ад. Когда же это было написано? Где-то в начале двухтысячных, но идейка мелькнула еще в армии.
-–
Он прислушался к совету Путилова. Сам вызвался, и оказалось – ничего сложного. Начальник строевой части, ознакомившись со свежеиспеченным рефератом, остался настолько доволен, что соизволил молвить: годится, пожалуй, не хуже тех, что… «Ошибаетесь, товарищ капитан, – подумал он прежде, чем была произнесена понятно какая фамилия. – Лучше, чем у Борьки».
И понеслось! Он прилежно строчил курсовые и прочую лабуду, без которой офицеру не подняться на следующую ступеньку карьерной лестницы. Таким образом, план, очерченный Путиловым, был успешно реализован.
И перевыполнен. Вспомнив навыки, полученные в школе, он занялся переплетным делом. «Коленкор не трожьте, лидерин берите, он красивше, глаже и воду держит, и клей мажьте ровно, без затеков», – внушал малолетним оболтусам трудовик, тридцать лет оттрубивший в типографии «Московский рабочий», после выхода на пенсию не усидевший дома и заделавшийся педагогом в берете и сером халате. Можно ли было представить, что это когда-нибудь ему пригодится? Надо будет, думал Олег, полосуя скальпелем дерматин – откуда в армии коленкор с лидерином? – после дембеля зайти в школу, проведать старика, вдруг живой, тянет лямку.
В общем, через пару месяцев после того, как Путилов отчалил на гражданку, он был уже в седле, и ноги в стременах. В штабе и во взводе все было пучком. Получив положенное количество ударов ремнем по седалищу и заглотив кружку отвратительного пойла – бормотухи местного розлива, он был переведен в следующую категорию, что предполагало расстегнутый воротник кителя, кирзачи гармошкой и кучу иных прав при минимуме обязанностей. Оставалось только тихо-мирно ждать увольнения в запас.
Он клепал рефераты, резал-клеил папки и кляссеры для начштаба. Потом втихую стал мастырить дембельские альбомы, украшая обложки, которые обтягивал шинельным сукном, значками и лычками. Благодаря такой эксклюзивной продукции он пользовался большим уважением среди полковых «дедушек», даже большим, чем Путилов. Все складывалось оте-нате, только эпистольских булочек было жалко, от них остались лишь ностальгические воспоминания. Эпистол ушел на дембель в числе последних, и кто знает, дождались его три девицы или нет, остановился он в выборе или пустился во все тяжкие по чужим постелям. Всяко может быть, но ушел хлеборез – и как в воду канул.
Одно было паршиво: никак не складывалось со сменщиком. Казалось, подбирал со всем тщанием, отследил биографию, но выпускник Владимирского педагогического института оказался истеричным типом, зыркающим исподлобья, а после принятия внутрь разбавленного на треть спирта Royal вид у него становился маньячным. Кончилось тем, что его увезли, полуживого, из какой-то забегаловки на окраине города. По выходу из госпиталя он прямиком отправился на год в дисбат. От более сурового наказания его спасло то, что облеванную папку с документами он из рук все же не выпустил.
На смену будущему преподавателю физики пришел дипломированный учитель истории. Эту тщедушную личность перевели из какой-то дальней части, где его зачморили до такой степени, что он хлебнул электролита. Сделай он глоток побольше, наверняка комиссовали бы и отправили домой в Смоленск, а так подлечили – и давай, иди дослуживай. Паренек он был исполнительный и безобидный, но в него вбили страх, и потому на окружающий мир он взирал снизу вверх. В доброе расположение ефрейтора Дубинина – да-да, повысили приказным порядком – он не верил и в ожидании подлянки вел себя серой мышкой: скользнул в уголок, прикрылся бумажками и притих. А потом и другое выяснилось. Бывая в городе, новенький заходил в чипки, как называли в этих местах простенькие кафе, чайные и рюмочные, и слезно просил сердобольных продавщиц дать что-нибудь поесть. Пришлось старшему секретчику, которого подобная стыдоба могла ударить рикошетом – не уследил за подчиненным, а то и похуже, гнобишь, обираешь, – прояснить «бедному солдатику» кое-какие правила поведения. Тот слушал, втянув голову в плечи, готовый к удару, которого не последовало, обещания врезать было довольно. Какое уж дружеское общение при таком раскладе!
Так и тянулись дни, серые, неотличимые, и единственно, что наполняло их красками, это рассказы, которые Олег сочинял, не помышляя о том, чтобы разослать их по редакциям. Цену своим писаниям он представлял и не хотел краснеть даже заочно – достаточно воображения, чтобы представить глумливые гримасы редакторов или кто там отшивает будущих гениев?
Сюжеты между тем множились: они толкались, как шары в барабане «Спортлото», взывая и требуя поскорее быть перенесенными на бумагу, а уж что из этого выйдет, с этим потом. Вот и рассказ «Четыре нуля» был зачат тогда, родился позже.
«Мама была «жаворонком». Будь она «совой», ложись не в десять, а после полуночи, он лишился бы не только завтраков, но и принужден был бы объясняться.
Мать интересовало все, что с ним происходит. Но как же бесили его эти бесконечные расспросы. Иногда он не мог удержаться от резкости. Потом корил себя.
Особенно тягостны были вопросы, которые приносили с собой чувство беспомощности: как ответить? И это при том, что ответы были. Только, облекаемые в слова, они становились слишком длинными и уже потому невнятными.
Его раздражало собственное неумение кратко сформулировать свое суждение, которое возникало расплывчатой мыслью, потом обрастало доказательствами правоты, проявлялось в поступках, перерастало в привычку, обещая со временем стать чертой характера.
Если бы мама была «совой», если бы увидела, она обязательно бы спросила, зачем он занимается такими странностями.
У него было заведено: без четверти двенадцать он стелил кровать, потом туалет, ванная. Без пяти он был в постели.
У изголовья ночник. На полке электронные часы. На них цифры из мерцающих зеленым палочек с подрубленными углами. Еще несколько минут – и точка безвременья, полночь.
Он лежал и ждал.
Четыре нуля.
Он брал с тумбочки книгу. Кафка, Астафьев, Адамович, Василь Быков…
Это раньше он читал на ночь Ильфа и Петрова и непритязательную фантастику. И спал тихо, просыпался с улыбкой. А не как сейчас, словно вагоны разгружал.
Конечно, это замечательные книги. Только нравиться они не могут. Приложимо ли вообще к ним слово «нравиться»? Ну как могут нравиться «Каратели» Адамовича? Ужасом веет от их страниц.
«Зачем ты это читаешь, сын?» – спросила бы мать.
Этот вопрос он и сам задавал себе. Мазохизм? Если бы… Это даже лечится. Но все сложнее. Настолько, что не поддается ни анализу, ни дальнейшему синтезу.
Разумеется, можно придумать что-нибудь возвышенное. Это как епитимья: после проведенного в праздности дня – ну какие у него заботы? – окунуться в юдоль горя, страданий и отчаяния. И очиститься в раскаянии.
В этой версии много искусительного, если бы не истинная причина – страх. У него много личин, и одна из них – страх перед завтрашним днем. Что будет утром? На работе? Вечером? Пусть у него всего лишь проблемки, но и они ранят, потому что это его сложности, его беды. Так не лучше ли быть к ним готовым, чем встретить в настроении радостном, приподнятом? Тогда падение будет особенно болезненным, а так можно терпеть.
Четыре нуля.
Он протянул руку. Что на сегодня? Чехов. «Дядя Ваня».
Книги не было. Забыл приготовить! Он встал… и словно вывалился из времени.
В себя его привел сквозняк, вольно гуляющий по паркету. Он переступил на закоченевших ногах, шагнул к кровати и юркнул под одеяло.
На часах девятка уступила место нулю, а один из нулей – единице. Десять минут нового дня. Он повернулся на бок и подложил под щеку ладонь для тепла и опоры».
И куда это девать? Спалить? Так вроде бы и неплохо. Хотя косяки прежние: гляньте, граждане, какой у нас тонкий душевный строй.
Олег потянулся, разминая спину, потом разорвал листок надвое, половинки – на четвертушки, те – на осьмушки и посыпал клочками темнеющие угли. Бумага вспыхнула и свернулась каракулевыми завитками, отдав лишь толику тепла. Ангелы ее не заметили.
* * *
Шуруп приподнялся. Уши – торчком. Взгляд жалостливый.
– Ну давай поиграем, – сдался Олег.
Пес сорвался с места и кинулся к двери. Ткнулся в нее носом, засучил лапами.
– Ты чего?
Просьба выпустить во двор обычно выглядела менее драматично. Тем более метель, погода, когда хороший хозяин…
– Да что с тобой?
Олег подошел к двери. Щелкнул выключателем, зажигая фонари около дома.
– Хочешь – на здоровье, только потом не скули.
Отпер и открыл дверь.
Двор застелило накрахмаленной скатертью. Фонари боролись с темнотой и метелью – и проигрывали – это была неравная битва.
Пес метнулся наружу. Резко затормозил на краю веранды, расставив лапы, и зашелся лаем.
Олег напрягся: неужели волки?
Шуруп продолжал исступленно лаять. Оглянулся, взывая к хозяину.
Олег сунул ноги в валенки, накинул куртку, вернулся к камину и взял топор. Лишь после этого вышел на веранду и встал рядом с псом.
Посмотрел налево – туда, где во мраке утонул скит. Потом поднял голову. Над фонарями, мешаясь со снежной крупой, летели искры.
– Ах, ты ж!
Правее, туда надо было смотреть. Там границу косогора очертила дрожащая рыжая полоса.
Олег слетел со ступеней и побежал мимо сторожки, мимо беседки, мимо кустов смородины, превратившихся в сугробы. Упал, покатился, приподнялся, смахнул с лица снег и увидел, как вспыхивает крыша стапеля.
Он соорудил ее летом, рассчитывая вести сборку корпуса и осенью, а если получится, то и зимой. Вкопал столбы, крайние для надежности укрепил растяжками с талрепами. Уложил лаги, а потом три часа возился с огромным полотнищем, прежде чем ему удалось натянуть на каркас упорно сопротивлявшийся пошитый в Москве купол. Ниже ската крыши купол спускался лишь на полметра. Стен как таковых не было, они бы только мешали, но в ноябре, в косые дожди, он несколько раз прошелся вокруг стапеля с рулоном прозрачной пленки, превращая сооружение в некое подобие теплицы. Потом еще и простучал пленку степлером. Сейчас от нее уже ничего не осталось – расплавилась, стекла маслянистыми ручейками. И купола нет – метель разбросала пытающие лохмотья.







