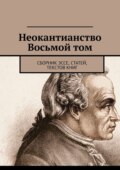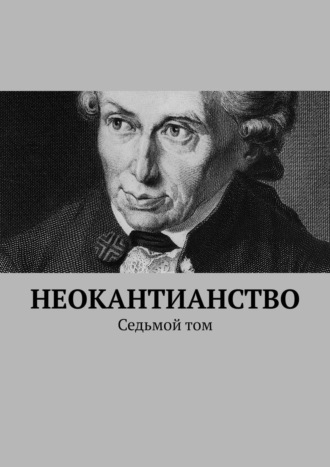
Валерий Алексеевич Антонов
Неокантианство. Седьмой том
Это наиболее характерные черты шиллеровского идеала нравственно прекрасного. Все они взяты из «AnmulhundWürde». И на самом деле, в этом трактате уже содержится все существенное для нашей темы. Как известно, сила Шиллера заключалась не в расширении, а в интенсивности его мира мысли, что он сам знал и часто признавал.188 Конечно, существуют многочисленные параллельные отрывки или дальнейшие, более богатые изложения высказанных здесь мыслей; их можно найти в сохранившихся фрагментах его эстетических лекций, которые иногда почти слово в слово совпадают с тем, о чем здесь говорится,189 далее в эссе о моральных преимуществах эстетических манер, в эстетических письмах, наконец, в стихах и переписке. Но они не принесли нам ничего принципиально нового, даже эстетические письма, при всем богатстве их других глубоких и плодотворных мыслей. Ибо, если даже ведущая мысль этих писем, что то, что уничтожает сопротивление склонности к добру, способствует нравственности, связана с понятием нравственно прекрасного, то она, как и основная тема эстетического воспитания человеческого рода вообще, касается скорее воспитательного, т.е. педагогического, чем чисто этического вопроса и потому лежит в стороне от нашего пути. Кстати, мнение Шиллера по этому вопросу, изложенное во многих местах, настолько хорошо известно, что только по этой причине мы можем воздержаться от более подробного обсуждения. Поэтому нам достаточно сослаться, как на особенно важные, на менее известные отрывки из так называемых «Эаллий», которые мы раскопали на стр. 237—239 (выпуск 5/6), и в заключение мы рассмотрим только сравнение, которое также представляет интерес с систематической точки зрения и которое содержится в письме к Кёрнеру от 28 февраля 1793 года.
Там поэт называет птицу в полете «счастливейшим представлением материи, побежденной формой, тяжести, преодоленной силой». Гравитация, однако, ведет себя «так же против живой силы птицы, как – в случае чистых детерминаций воли – склонность ведет себя по отношению к законодательной причине». Орел, парящий сквозь чистый эфир, облака под ним (nuncpluat), к солнцу, является для нас символом возвышенного, а крылья используются как «символ свободы». Но в то же время он представляет собой победу чистой красоты, ибо «мы воспринимаем красоту везде, где масса полностью господствует над формой и… над живыми силами… полностью господствует».. полностью доминирует». Это верно как для эстетического мира, так и для морального, и для последнего также является примером угасания возвышенного в прекрасном.190
Обратное дополнение прекрасного возвышенным будет рассмотрено позже. Здесь же мы имели дело только с чистым представлением нравственной красоты. Вряд ли можно сомневаться в том, что последняя предстает в наиболее богатой форме в творчестве Шиллера. Но как Кант отнесся к понятию нравственной красоты, которое так успешно отстаивал и так плодотворно развивал его ученик? Отверг ли он ее полностью, как принято считать? Отвечая на этот вопрос, мы должны более подробно, чем это было необходимо, остановиться на многократно обсуждавшийся позиции Шиллера по вышеупомянутой проблеме.
На самом деле, Кант, похоже, понимал под возвышенным только чувство, вызываемое моральным законом, и практически исключал прекрасную мораль. По крайней мере, длинный отрывок из «Критики способности суждения», который непосредственно касается этой темы, вряд ли можно понять иначе на первый взгляд. Там (Кр. 129) говорится:».. … Поскольку эта сила (моральный импульс) фактически дает о себе знать эстетически* только через жертвоприношения (что является лишением, хотя и ради внутренней свободы, но, с другой стороны, раскрывает непостижимую глубину этой сверхчувственной способности, с ее последствиями, простирающимися в неизмеримое), удовольствие отрицательно с эстетической стороны (по отношению к чувственности), т.е. против этого интереса, но если смотреть с интеллектуальной стороны, то оно положительно и связано с интересом. Отсюда следует, что интеллектуальное, само по себе функциональное, нравственно доброе, оцениваемое эстетически, должно представляться не столько прекрасным, сколько возвышенным, так что оно вызывает скорее чувство уважения, отталкивающего влечения, чем любви и доверительной привязанности; ведь человеческая природа соглашается на это добро не сама по себе, а только силой, которую разум прилагает к чувственности.
Таким образом, добро не может быть «эстетически оценено» как прекрасное и достаточно возвышенное, поскольку оно «негативно» по отношению к чувственному, противоречит его интересам и «фактически лишь делает себя эстетически узнаваемым через жертвы». И все же некоторые стилистические обороты речи оставляют возможность интерпретации, которая не исключает полностью нравственно прекрасное, например, «фактически только», «хотя ради внутренней свободы» и особенно «скорее чувство уважения… чем любви и доверительной привязанности» (не: только уважение, но не любовь). Однако мы можем оставить эту возможность в стороне, поскольку несколькими страницами ранее Кант гораздо яснее говорил о систематическом допущении прекрасного; мы имеем в виду уже затронутый выше (с. 539) отрывок с другой точки зрения (Кр. 124), где о нравственном чувстве говорится, что оно может служить «для того, чтобы законность действия из долга в то же время можно было представить себе как эстетическую, т.е. как возвышенную или также как прекрасную, не теряя при этом своей законности». Таким образом, Кант допускает систематическую возможность нравственно прекрасного, даже если сам он не развил эту мысль в своей системе. Ибо мы считаем, что можем утверждать это без сомнения: Критический философ не дал систематического развития идее прекрасной морали, несмотря на всю свою погруженность в актуально прекрасное и несмотря на то, что он даже представляет красоту «в опасном осложнении с моралью 191как символ добра». Действительно, вышеупомянутые и многие другие отрывки, кажется, исключают ее. Тем не менее, зародыши и начала этой концепции, которая так мощно развилась у его ученика, присутствуют уже у Канта.
Таковые, по нашему мнению, заключаются прежде всего в идее автономии. При добровольном подчинении закону, данному самим собой, чувство подчинения все более и более отступает перед сознанием того, что мы подчиняемся именно своему лучшему «я», и позволяет возникнуть в нас тому чувству гармонии и примирения, которым, как мы признали выше (с. 546), характеризуется прекрасное. Поэтому чувство уважения..… со склонностью», поскольку моральный закон, «навязанный нами самими», все же «является лишь следствием нашей воли»;192 и, «чтобы волить то, для чего один только разум предписывает обязанность чувственно пораженному разумному существу, способность разума внушать чувство удовольствия или удовлетворения от исполнения долга, безусловно, принадлежит ему». 193По этой же причине Кант мог сказать в своем знаменитом апострофе к долгу, что он не угрожает ничем, «что возбуждает и пугает естественное отвращение в разуме», а просто устанавливает закон, который сам по себе находит путь в разум».194
Сюда же относится многое из того, что мы уже объяснили в предыдущем очерке об оправдании чувства Кантом, особенно предложение о «разумном самолюбии* (pr. v. 89); к этому мы хотим добавить отрывок Religion в p. 58: «Естественные склонности, рассматриваемые сами по себе, хороши, т.е. безупречны, и не только бесполезно, но и вредно и предосудительно желать их искоренить; их нужно только приручить…»
Выражение «нравственная красота» или «нравственно прекрасное», конечно, нигде не встречается в критический период Канта, и вышеприведенный отрывок (Kr. 124), кроме одного из «Учения о добродетели», который будет упомянут позже, является, насколько нам известно, единственным, в котором эстетический термин «schönc» вообще относится к чистой нравственности; ибо когда в Kr. 131 «аффект тающего рода» причисляется к «прекрасному чувственного рода», то этот прекрасный чувственный род лишь очень слабо соответствует шиллеровскому идеалу нравственной красоты. То, что Канту не «возможно не хватало» чувства последней, как думал Кёрнер (см. выпуск 5/6 стр. 244), доказывают «Замечания об ощущении прекрасного и возвышенного» (1766), которые мы обсудим в нескольких словах, хотя в целом мы исключили из нашего обсуждения докритические сочинения Канта, а также докантианские сочинения Шиллера.195
– Там истинная добродетель основывается на принципах, но они явно базируются на «чувстве красоты и достоинства человеческой природы» (с. 23). Прекрасное, однако, по сути отождествляется с добром, чувствами сострадания, симпатии и доброты, которые совпадают с добродетелью «лишь случайно» (с. 19 f.). Это «вспомогательные инстинкты», «дополнения добродетели» или «перенятые добродетели»; хотя они никогда не могут считаться «подлинной добродетелью», они, тем не менее, имеют близкое сходство с ней и облагораживаются своим родством с ней; они порождают «прекрасные поступки» (с. 23 f.). Характеристика нравственной красоты, данная Шиллером (см. выше с. 548), – легкость в себе и свобода от стесняющих усилий – встречается уже здесь (с. 51). Однако, в частности, рисунок двух полов как представителей прекрасного и возвышенного содержит большое количество настолько метких замечаний, что после их прочтения возникает желание заподозрить влияние Канта на Шиллера, тем более что из его переписки с Гете мы знаем, что он читал сочинения Канта – как кажется, довольно рано (19 февраля 1795 года). Среди прочего, принятая добродетель называется прекрасной добродетелью. Женщины «будут избегать зла не потому, что оно неправильно, а потому, что оно безобразно, и для них добродетельные поступки означают те, которые нравственно красивы».
Ни ought, ни must, ни obligation». – «Я с трудом верю, что прекрасный пол способен на принципы, и надеюсь этим не обидеть, ибо они крайне редки и у мужчин».196 Эстетическое суждение также четко и определенно отличается от суждения «согласно моральной строгости», «поскольку в ощущении прекрасного мне остается только наблюдать и объяснять видимость».197
В любом случае, понятие моральной красоты не осталось чуждым Канту, даже если он почти полностью отодвинул его на задний план в трех своих великих критиках по методологическим причинам, указанным ранее. С другой стороны, понятие благородного, уже заявленное в «Наблюдениях «* (с. 12) как совместимое с прекрасным и развитое в Kr. 1*30 f., кажется нам несколько более близким к понятию морально-красивого у Шиллера, который часто использует оба термина одинаково. Над моральным энтузиазмом (см. выше с. 542), который не заслуживает одобрения с чисто этической точки зрения, но «тем не менее эстетически возвышен», Кант ставит «отсутствие аффектации ума, решительно преследующего свои неизменные принципы», который он называет «возвышенным в гораздо более превосходном смысле» и характеризует как благородный нрав.
Сейчас мы говорим о принципах, а не о примирении с чувственностью, но «неизменный» характер этого расположения, по крайней мере, свидетельствует о некотором внутреннем родстве с идеалом Шиллера о нравственном образе мышления, ставшем природой. Кстати, здесь мы хотели бы еще раз отметить, что любимая идея Шиллера, тесно связанная с этой, о том, что культура должна снова стать природой, исходит от самого Канта. Если Минор 198предполагает влияние «идей» Гердера как решающее, мы не сомневаемся, что это могло сыграть свою роль, поскольку идея в целом была в то время пропитана образом мышления Руссо, но у нас есть прямое свидетельство Шиллера о заимствовании у Канта со ссылкой на очень конкретный отрывок из «Критики способности суждения» (ср. выпуск 5/6, с. 238).И даже если уклониться от переноса означенного там отрывка с эстетической точки зрения в этическую область, можно сослаться на кантовский отрывок – написанный в 1786 году, то есть задолго до философских эссе Шиллера и, скорее всего (ср. там же стр. 228), прочитанный последним – из MuthmasslichenAnfangMenschengeschichte*, где Кант развивает «трудную проблему» со ссылкой на Эмиля Руссо: «как должна продолжаться культура». 228), где Кант, следуя Эмилю Руссо, развивает «трудную проблему»: «как должна продолжаться культура, чтобы развить предрасположенности человечества как морального вида, принадлежащие его судьбе, так, чтобы они больше не противоречили предрасположенностям как вида природного», и заканчивает словами: «…пока совершенное искусство снова не станет природой, что является конечной целью моральной судьбы человеческого рода». Греки, на которых так часто ссылается Шиллер, также не отсутствуют в работе Канта и восхваляются в значительном месте как пример счастливого союза высшей культуры со свободной природой.199
Но при всем том – Кант не приходит к фундаментальному признанию чувственности в этике, к систематическому соединению чистой воли с чувством для прекрасной нравственности. Мы видели выше на примере Шиллера, что уважение к нравственно возвышенному переходит в любовь к нравственно прекрасному. Теперь важно, как Кант говорит о любви в своем главном этическом труде (кн. V. с. 100 и далее).
Библейская заповедь: возлюби Бога превыше всего и ближнего своего, как самого себя, является для него «сердцевиной, законом всех законов», но требуемая в ней любовь должна быть не патологической или склонной, а «просто» практической, т.е. мы должны стремиться с удовольствием исполнять свой долг по отношению к Богу и ближнему. Если бы мы могли делать последнее, то «нравственное расположение было бы достигнуто во всем своем совершенстве», но такой «идеал святости» недостижим ни для одного существа, которое никогда не бывает полностью свободно от желаний и склонностей «в отношении того, что оно требует для полного удовлетворения своего состояния». Таким образом, закон Ситлена не может быть основан на любви, «которая не касается никакого внутреннего отказа воли против закона», но мы должны сделать его «постоянной, хотя и недостижимой целью» нашего стремления. Ибо «через некоторую легкость ее удовлетворения» «благоговейный трепет превратится в привязанность», а «уважение – в любовь». Здесь, таким образом, признаются гармония и любовь, но в качестве идеала выдвигается не гармония разума и чувственности, а упразднение всякой чувственности в существе, так сказать, безгрешном, не нравственная красота, а нравственная святость. Все остальное – это моральный восторг, рост самомнения, и именно в этом контексте следуют наиболее «игористические» отрывки, в которых всякое волнение сердца и восхваление благородных, возвышенных и великодушных поступков противопоставляется «ветреному, чрезмерному, фантастическому образу мыслей».
Такова, в основном, позиция Канта в отношении нравственно-прекрасного до разработки его Шиллером. Привело ли его знакомство с теорией Шиллера к изменению этой позиции?
К сожалению, первоначально предполагавшийся обзор эстетических писем Канта, который имел бы для нас неоценимое значение, был опущен (ср. с. 262); однако мы можем, по крайней мере, воспользоваться более пространным примечанием, уже цитированным полностью ранее (с. 24G), которое Кант добавил ко второму изданию «Religioninnerhalbetc.» после прочтения «AnmuthundWürde». Недавно этот источник был ценным образом дополнен серией ценных концептуальных набросков Канта по этому отрывку, которые Рудольф Райке опубликовал в своей книге. LosenBlätternausKantsNachlass“ 200Пять печатных страниц, относящихся к нашей теме и представляющих интересный взгляд на мыслительный аппарат нашего философа, очевидно, были написаны под непосредственным впечатлением от чтения „AnmuthundWürde“, из трактата которого Кант выписал несколько наиболее значительных отрывков – тех самых, которые мы привели на с. 547 f.. Как известно, сам Кант заявил, что он „согласен с Шиллером в самых важных принципах“; в варианте черновика это, пожалуй, еще более резко подчеркнуто: „Люди, наиболее согласные друг с другом по смыслу, часто впадают в разногласия, потому что не могут быть поняты друг другом в словах. И Шиллер, как мы видели (стр. 255), примерно в том же смысле выразился в своем письме к Канту.
Действительно ли разница между этими двумя понятиями должна основываться на простом недопонимании слов? Мы думаем, что да: Нет, и далее мы постараемся обосновать это более подробно.
Шиллер, однако, не хотел добавлять к понятию долга никаких милостей, в то время как Кант защищал его, основываясь на недоразумении. Шиллер не хотел, чтобы грации вмешивались в дело определения долга. Согласие между ними по поводу этой методологической точки зрения было подробно разобрано в предыдущем томе. – Если, однако, Кант хочет отнести благодать только к «благотворным последствиям», которые добродетель, «если бы она повсюду нашла себе дорогу», распространила бы в мире, то это уступка, которая не может быть достаточной для Шиллера, даже если он объявит себя благодарным за «снисходительный упрек» в своем письме к Канту.201 Ведь его волнуют не просто последствия; он хочет более фундаментального признания чувства или, как чаще говорили в то время, чувственности. Однако Кант не допускает этого. «Только после победы над чудовищами Геракл становится Мусагетом», то есть только после победы над желаниями этика может сопровождаться Грациями; тогда как Шиллер с самого начала стремится к примирению, которое должно занять место завоевания. – Это различие еще более отчетливо проявляется в черновиках Канта (Reickep. 272 f.). Милости не позволено «присоединять» себя, только «присоединяться» к себе; более того, даже для того, чтобы получить доступ к ней, милость не должна быть связана с понятием долга, «что противоречит законодательству, которое является строгим требованием и хочет, чтобы его уважали само по себе».
По этой причине Кант не хочет ничего знать об «участии» чувственной природы в этике, как того хотел Шиллер (см. выше с. 548). Она должна противостоять «анархии природных склонностей» не как «сотрудничающая», а как «сдерживаемая деспотизмом категорического императива»; «всеобщая гармония», которой требует Шиллер, может быть достигнута только «через их упразднение» – мы относим «их» к анархии, а не к природным склонностям, что было бы бессмысленно.202 Ревность к сохранению чистоты этики сияет повсюду, беспокойство о том, что чувственность, природа, склонности, если их допустить, могут нарушить чистоту понятия долга, идиосинкразию этического долженствования. Поэтому сначала долг, потом благодать! Вот почему первый вопрос, который Кант ставит сразу после эпиграфа «Талии»: «должна ли благодать предшествовать достоинству или последнее предшествует первому» – не во временном отношении, конечно, а «rationeprius» – и отвечает на него, конечно, в последнем смысле, в то время как Шиллер ставит и то, и другое на равную ногу.
Только «когда прививка этого понятия (долга) к нашим склонностям окончательно произошла», тогда «вполне может случиться, что мы совершаем послушные поступки с удовольствием», но не «с удовольствием из долга», которое «противоречит само себе». Это удовольствие – лишь «парергон морали». Пока у конечного существа есть физические потребности, которые «могут противостоять моральным», «императивная форма» морали (которую Шиллер отверг для «детей дома») должна оставаться на месте «со всей уверенностью в себе». – Подход Канта к Шиллеру заключается в том, что первый описывает «веселое настроение» как «эстетическое качество» добродетели. И перед лицом упрека Шиллера, будто «ригористический образ мышления» несет в себе «карфузианское» настроение, он с полным основанием может сказать о себе: «Я всегда настаивал на культивировании и поддержании добродетели и даже религии в бодром настроении. Угрюмое, свесившее голову, словно стонущее под тираническим игом, карфузианское исполнение своего долга – это не уважение, а рабский страх и, следовательно, ненависть к закону» (Reickep. 275). Но это веселое сердце, «признак истинности добродетельного нрава», должно проявляться только в «соблюдении своего долга», а не означать «успокоение в признании закона».
Таким образом, хотя эффект может быть одинаковым, методологическое различие снова сохраняется: последующая ассоциация, а не участие в чувстве.
– Как и у Шиллера, этической целью Канта является нравственное существо, не отдельные поступки, не добродетели, а «добродетель как твердо установленная склонность». Но когда он завершает это словами: «точно исполнять свой долг», то снова становится очевидным различие между характером Канта и прекрасной душой Шиллера: у Шиллера нравственный идеал состоит в гармонии долга и склонностей, у Канта – в полном подчинении последних строгому велению долга. У последнего «прекрасная душа» означает лишь добросердечного человека, который проявляет интерес к природной красоте (Кр. 165).
Таким образом, хотя понимание Канта с Шиллером по главному пункту различия было лишь весьма неадекватным,203 и здесь мы находим зародыши, можно даже сказать необходимость, концепции, более соответствующей концепции Шиллера. Так, когда в конце заметки он объясняет, что без этого «веселого настроения духа» никогда нельзя быть уверенным в том, что «завоевал также любовь к добру»; при этом любовь, конечно, следует понимать в смысле «практической любви», о которой говорилось выше (с. 556). Или же просто в связи с эссе Шиллера, когда он отметил на полях страницы новозаветные изречения (кн. ст. 103 и Религия 194): «Заповеди Мои не тяжелы» и «Иго Мое легко и бремя Мое легко» (Reicke p. 266). В любом случае, мораль и чувство для него также совместимы, если не объективно, то, по крайней мере, субъективно, т.е. психологически в субъекте, и поэтому уже не являются абсолютными противоположностями.
Но то, что именно идея автономии, на которую мы уже ссылались выше, скорее всего, ведет от этического ригоризма Канта к нравственной красоте Шиллера, доказывает другой отрывок из «Концепций» (Reicke p. 268), где, подчеркнув именно свободное подчинение закону, он продолжает: «Подчинение доказывает уважение, чем больше свободы, тем больше благодати. Полным следствием этого было бы: совершенная свобода совершенная благодать или – нравственная красота». Но Кант не заходит так далеко, даже если ранее он и допустил оборот речи о том, что долг и абсолютное долженствование должны иметь место только там, где объективный моральный закон «не является в то же время субъективно всегда достаточно сильным для действия».
Если в этической области Кант, таким образом, сохраняет свою «строгую» позицию, то в эстетической области «благодать» допускается как «игра».204 «Человеческие действия делятся на дело (которое подчиняется закону долга) и игру. Было бы несчастьем, если бы последняя была ему запрещена; он не был бы счастлив в жизни».
Но «эти (в значении: это) должны быть ограничены условием первого (в значении: д.)». Когда Кант продолжает: «Милости принадлежат игре в той мере, в какой она может дать и укрепить хорошее мужество, чтобы способствовать первому (sc. business)», он тем самым делает важную уступку, а именно возможность эстетического воспитания человека. Что касается этого последнего пункта, то подобное утверждение уже встречалось в «Критике способности суждения» (с. 232): «Вкус делает возможным, так сказать, переход от чувственного побуждения к привычному моральному интересу». Однако Кант оставался слишком поглощен моралью, чтобы затронуть тему, столь богато разработанную Шиллером впоследствии, кроме как в таких случайных вспышках мысли (ср. также Kr. 162).
Что касается поздних этических сочинений Канта, то в них сохраняется его прежняя систематическая позиция, но, поскольку они почти полностью относятся к прикладной этике, он часто делает уступки стороне морально прекрасного. Можно сказать: Кант уступает все, что он может уступить со своей твердо определенной точки зрения. Особенно это касается последних страниц трактата «Конец всех вещей» (1794), где говорится о любви к христианству.205 Уважение, говорит он там, без сомнения, «первая вещь», потому что без него нет истинной любви.
Если же речь идет не только об идее долга, но и о соблюдении долга, то любовь «как свободное принятие воли другого в соответствии с его максимами является необходимым дополнением к несовершенству человеческой природы», несовершенство которой заключается в необходимости «принуждения» к исполнению заповеди долга. Но то, что «человек не любит делать, он делает скупо… …что на это (долг) как на движущую силу нельзя очень рассчитывать без добавления другого (любви)». Христианство теперь хочет поощрять любовь к исполнению долга, поэтому его основатель говорит не как командир, требующий послушания, а как мягко назидающий филантроп. Своим «либеральным образом мыслей, одинаково далеким от чувства рабства и от рабства», он завоевал «сердца» людей, чьи «умы» уже были «просвещены идеей закона их долга». Наконец, «чувство свободы в выборе конечной цели», т.е. autoteli’e в дополнение к автономии, описывается как то, что делает законодательство любимым. – Tugendlehrep. 329 f. напоминает цитированный выше отрывок из LosenBlättern*, где говорится об «обязанности» «добавлять милости к добродетели»; хотя они являются лишь «внешними или вспомогательными (parergd) * и «отделяющими монеты», они, тем не менее, способствуют чувству добродетели через их «прекрасный, похожий на добродетель вид» и работают на чувство добродетели, «по крайней мере, делая добродетель популярной»206. К приведенному ранее обороту речи из «Конца всех вещей», который в ответ на казуистический вопрос, не будет ли благосостояние мира лучше, если вся мораль будет ограничена юридическими обязательствами, отвечает: «В этом случае, по крайней мере, будет недоставать великого морального украшения мира, а именно любви к человеку, которая… необходима, чтобы представить мир как прекрасное моральное целое во всем его совершенстве» (§35, с. 309). (§35, с. 309.) Приведенное выше «с удовольствием», а не «из удовольствия», находит свое повторение в «этическом аскетизме», где «во всякое время веселое сердце» и «привычное создание» «веселого настроения духа» также выдвигается как признак истинного нравственного здоровья (ibid. §53, с. 343), с чем можно сравнить утверждение ibid. с. 246 (Введение в учение о добродетели XVII), что ум в покое есть «истинная сила добродетели» и «состояние здоровья в нравственной жизни». Педагогика в итоге выражается аналогичным образом: Одно только веселое сердце способно испытывать удовольствие от добра (ч. 2. IX. 421), а наш удел – «развивать природные склонности пропорционально» (proportionirlicb), «чтобы мало-помалу сами собой выработались все природные склонности человечества» (там же, 370). Все эти отрывки весьма близки к идеалам нравственной красоты Шиллера.
Учитывая все это, мы не станем соглашаться с вышеупомянутым суждением Кёмерса, будто Канту не хватало чувства нравственной красоты. Даже если бы это не было уже достаточно опровергнуто эстетическим сочинением 1766 года, которое написал тот же Кант и которое, даже если оно уже не является авторитетным для критического периода, тем не менее, уже показывает позднейшие принципы в их зародыше, как заметил Гете с одобрения Шиллера.207 Но везде, и особенно в критических трудах, проявляется сильная забота о чистоте отдельных направлений сознания, стремление любой ценой предотвратить смешение точек зрения, в данном случае этической и эстетической; стремление, которое кажется нам здесь и там слишком далеким, почти постыдным, но которое вполне естественно для основателя критицизма, особенно в этической области, где ему пришлось увидеть своего самого сильного противника в эвдемонизме, который он впервые и только что победил. Философия Канта – это настолько чистая духовная философия, чистая наука, что разделение, но и прояснение научного процесса проявляется сильнее, чем объединяющее, но и слегка смешивающее чувство.
В противоположность этому, заслуга Шиллера состоит в том, что он искал и нашел эстетическое дополнение в концепции моральной красоты Канта, которая была только в зародыше, наряду с этическим ригоризмом, который он также понимал в его методологической необходимости и поэтому принял, а также в том, что он ввел и развил моральную красоту как равную наряду с моральным возвышенным. Он был прав, когда указывал на тесную связь воли с чувствами, на возможность интимного соединения последних с «чистым духом», на сотрудничество чувственной природы, которая «одалживает морали весь огонь своих чувств», чтобы она могла чувствовать себя. С другой стороны, Шиллер зашел слишком далеко в своих нападках – ибо таковой она была и осталась, несмотря на все почитание и внимание, по свидетельству самого Шиллера (ср. с. 247) – в некоторых местах. Так, он был неправ, обвиняя императивную форму морального закона в том, что она придает ему «вид чуждого закона» и направляет человека «скорее страхом, чем уверенностью». Кстати, в этом случае он поправил себя, написав в 24-м Эстетическом письме: «Даже священное в человеке, моральный закон, не может избежать фальсификации, когда он впервые появляется в чувственности.
Поскольку она говорит только запрещающее и против интересов его чувственного самолюбия, она должна казаться ему чем-то внешним, пока он еще не пришел к тому, чтобы рассматривать свое самолюбие как внешнее, а голос разума как свое истинное «я». Таким образом, он чувствует только оковы, которые налагает на него последнее, а не бесконечное освобождение, которое оно ему обеспечивает» и т. д. То, что отдельные нравственные поступки должны вытекать из целостного человека, было характерной чертой подлинной этики во все времена; у Канта тоже нет иной цели, кроме как основание характера. И когда Шиллер сравнивает «схоластического ученика морального правила» с «твердыми штрихами» рисунка, которым он противопоставляет «тициановскую живопись» прекрасной души, он забывает, что эти твердые штрихи являются основным условием этих размашистых контуров, и что, даже если «пересекающиеся пограничные линии» могут, более того, должны исчезнуть в законченном произведении искусства, не только ученик не может без них постичь принципы искусства, но и мастер не может без них обойтись.
В связи с подробным обсуждением позиции Канта в отношении морально-прекрасного, мы считаем, что можем обойтись без дальнейших замечаний и должны ответить лишь на последний вопрос. Считал ли Шиллер морально-прекрасное, представленное выше (с. 545 f.), своим последним словом? Достижима ли нравственная красота или это всего лишь идеал? И если да, то не является ли она, в нашем и его понимании, односторонним идеалом?