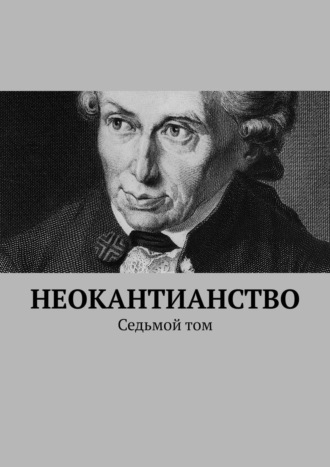
Валерий Алексеевич Антонов
Неокантианство. Седьмой том
Однако это высшее благо было рассмотрено годом ранее – в том же году Пруссия заключила особый мир с Французской республикой – в специальном труде философа, его знаменитом трактате «О вечном мире». Сам Кант называл его «философским наброском». Но мы можем назвать его политическим завещанием. Ведь он выходит далеко за рамки простого мирного трактата, за который его обычно принимали из-за названия. Скорее, в нем он выразил свои сокровенные политические мысли более свободно, чем в «формально-систематической юридической доктрине», связанной с его лекциями. В своих письмах, а также в кратком предисловии он называет работу «грезами», но это полуироничное слово, по сути, призвано защитить его от «злобного толкования» «мудрых государственных деятелей», которые в иных случаях смотрят на простого теоретика «с его пустыми идеями» с величайшим самодовольством, но как только он говорит им неприятные истины, они «чуют в нем опасность для государства» (Предисловие, стр. 149).
Прежде всего, в документе вновь открыто выражен принцип Руссо, который прусские правители того времени осудили как «якобинство», что без идеи первоначального договора «не может быть придумано никакого права над народом» (стр. 151). Далее: «Ни одно государство не может насильственно вмешиваться в конституцию и правительство другого государства» (Статья V, стр. 153). И первая окончательная статья о вечном мире гласит: «Гражданская конституция в каждом штате должна быть республиканской». Теперь, даже если республиканская не тождественна демократической, а лишь выражает оппозицию деспотической, или, точнее, означает «принцип отделения исполнительной власти от законодательной» (стр. 162): республиканизм, тем не менее, основан на «неотъемлемых», «врожденных» правах человека – свободе, равенстве и – как это теперь выражено более свободно, чем в формулировке 793 года – «зависимости всех от единого общего законодательства». Однако, по мнению Канта, чистая демократия не совсем благоприятствует этому идеалу, «потому что там все хочет быть господином», тогда как монарх при определенных обстоятельствах может действовать скорее как верховный слуга государства, «как, по крайней мере, говорил Фридрих II». (последнее слово зачеркнуто у Канта!).
Самое интересное, однако, и то, в чем он выходит за рамки своей позиции по великой революции, которую мы до сих пор развивали, находится в первом разделе приложения, который посвящен «раздору между моралью и политикой». Здесь развивается следующая идея: Поскольку для этого политического идеала необходимо «коллективное единство объединенной воли» всех граждан, а оно вряд ли может быть достигнуто каким-либо другим путем, то «при осуществлении этой идеи на практике нельзя считаться ни с каким другим началом правового государства, кроме как с силой, на принуждении которой впоследствии основывается публичное право»; что, конечно, позволяет «заранее ожидать больших отклонений от этой идеи (теории) в реальном опыте» (стр. 186f). Конечно, поясняется далее, мирное и постепенное развитие само по себе предпочтительнее, чем «постоянное приближение» к конечной цели. Но как только «благодаря стремительности революции, порожденной плохой конституцией, была рационально достигнута более законная конституция, уже нельзя считать допустимым вести народ обратно к прежней…". (стр. 188).20
Да, в примечании к этому отрывку (стр. 189) он идет еще дальше. Однако и здесь он вначале думает, по-видимому, о состоянии своего отечества, которое он хотел бы видеть избавленным от страданий насильственного свержения: закон разума может допустить, чтобы «состояние публичного права, пораженного несправедливостью, сохранялось до тех пор, пока все либо созреет само собой, либо будет приближено к зрелости мирными средствами» для полного свержения; и таким образом государственная мудрость «в том состоянии, в котором находятся вещи сейчас, сделает реформы, соответствующие идеалу публичного права, своим долгом». С другой стороны, она будет «использовать революции, когда природа вызывает их по своей воле, не для того, чтобы смягчить еще больший гнет, а как призыв природы, чтобы путем основательной реформы создать правовую конституцию, основанную на принципах свободы, как единственно прочную». Таким образом, здесь формально-юридическая точка зрения, преобладающая в правовой доктрине, явно отходит на второй план перед моральной и одновременно историко-политической, которая не осуждает революции с самого начала, а оценивает их как исторические события, вызванные «самой природой», действительно используя их как прямой стимул прогресса.
Поэтому неудивительно, что работа «О вечном мире» произвела такой фурор, что – в то время это было еще редкостью – первое большое издание было распродано за несколько недель и вскоре пришлось выпускать новое; неудивительно также, что она была переведена на различные иностранные языки, особенно на французский, и что именно эта работа – благодаря отрывкам, опубликованным из нее в «Paris Moniteur» – впервые привлекла внимание нескольких французских ученых, а также Национального института критики. Репутация Канта как «истинного космополита» еще больше укрепилась благодаря этому. В письме лифляндского поклонника, барона фон Юнгерн-Штернберга, от 12 мая 1796 года, он обращается к нему именно так, и, доверяя его «известному космополитическому образу мыслей», редакторы планируемого нового журнала «Der Kosmopolit» обращаются к нему с просьбой о поддержке посредством рекламы и собственных пожертвований. Действительно, этот призыв зашел так далеко, что в публичных газетах можно было прочитать, что французская нация попросила Канта через аббата Сийеса «рассмотреть составленные ими конституционные законы, вычеркнуть бесполезное и указать лучшее» (Плюккер – Канту, 15 марта 1796 года); или даже, что он был «призван во Францию как законодатель, как основатель мира и спокойствия» и «получил на это разрешение своего короля» (М. Реус – Канту, 1 апреля 1796 года). Факт, лежащий в основе этих слухов, распространившихся вплоть до Нижнего Рейна (Плюккер в Эльберфельде) и Южной Германии (Реусс в Вюрцбурге), заключался в том, что 2 января 1796 года уроженец Восточной Пруссии действительно был вызван во Францию. 2 января 1796 года Карл Теремин, уроженец Восточной Пруссии, а ныне «шеф бюро Комитета благосостояния», обратился к своему брату, проповеднику в Мемеле, с просьбой организовать переписку между кенигсбергским философом и Зейесом, который испытывал живой интерес к критической философии, поскольку она затрагивала его собственные принципы, и «рассматривал ее изучение среди французов как дополнение к революции»! С другой стороны, «нация, обладающая такой восприимчивостью, как эта, и революция, прекрасное и благородное в которой недостаточно известно иностранцам, потому что оно слишком опошлено, заслуживает внимания философа», «книга» Канта – более подробная информация о работах Канта, очевидно, не была известна начальнику бюро комитета благосостояния – должна быть переведена на французский язык, в Париже должна быть учреждена профессура кантовской философии. Это исторически интересное письмо брат Мемель также отправил по адресу философа 6 февраля того же года с сопроводительным письмом; последний, как «подлинный философ», безусловно, является «гражданином мира» и, следовательно, хотел бы «внести вклад в просвещение целой нации». (Вот как писали в то время беспристрастные теологи!) К сожалению, ответа Канта на все три письма (от Плюккера, Рейсса и Теремина) нет. Вместо этого нам приходится довольствоваться скупой информацией Р. Б. Яхманна 21о том, что философ отказался от переписки с Зейесом из «патриотизма», так же как он «горячо и часто» желал, чтобы Пруссия не хотела «вмешиваться во внешние дела чужого государства». Это живое пожелание, которое, кстати, полностью соответствует статье V цитированного выше «Вечного мира», кажется нам прямо противоположным тому, что хочет доказать биограф, озабоченный патриотической репутацией своего героя. Ведь Кант тем самым также отвергал вмешательство Пруссии в пользу Людвига XVI и против революционной Франции, и «его искренняя радость, когда это желание исполнилось» (Jachmann, op. cit.), вряд ли может быть связана с каким-либо другим событием, кроме выхода Пруссии из антифранцузской коалиции (1795).
Подходящим краеугольным камнем, так сказать, ко всему тому, что мы объясняли до сих пор, является отрывок, в котором Кант в последний раз и в то же время наиболее широко, прямо и недвусмысленно выразил свою симпатию к революции. Речь идет о 6-м и 7-м разделах второй части «Спора факультетов» (1798). Эта вторая часть посвящена вопросу: «Находится ли род человеческий в постоянном движении к лучшему?». Решающим для утвердительного ответа философа является «случай нашего времени, который доказывает эту моральную тенденцию человеческого рода: энтузиазм Французской революции, несмотря на все зло, которое она принесла с собой». «Революция одухотворенного народа, которую мы наблюдаем в наши дни, может быть успешной или провальной; 22она может быть настолько наполнена страданиями и жестокостями, что здравомыслящий человек, если бы он мог надеяться счастливо осуществить ее во второй раз, никогда бы не решился на эксперимент такой ценой, – я говорю, эта революция, Я говорю, эта революция обнаруживает в умах всех зрителей (которые сами не вовлечены в эту игру) желание участвовать, граничащее с энтузиазмом, выражение которого само по себе было связано с опасностью, и которое, следовательно, не может иметь иной причины, кроме моральной предрасположенности человеческого рода» (стр. 131). Но «истинный» энтузиазм всегда идет только «к идеалу, и то чисто моральному», а именно к понятию права. «Противников революционеров» – наемные армии коалиции – «нельзя было пробудить к рвению и величию души, которые порождало в них одно лишь понятие права, и даже понятие чести старой воинственной аристократии (аналог энтузиазма) исчезло перед оружием тех, кто имел в виду право народа, к которому принадлежал, и считал себя его защитником» (стр. 133). Поистине более впечатляющее, потому что более неприукрашенное и мужественное слово о канонаде при Вальми, чем известное слово Гете!
И это событие, касающееся всего человечества, это «всеобщее и бескорыстное участие», с которым «болеют» за «ожидаемый успех» великого предприятия, есть со своей стороны явление не революции, а… эволюции конституции по естественному праву, которая, хотя еще не завоевана сама собой только в дикой борьбе… тем не менее ведет к стремлению к конституции, которая не может быть зависима от войны, а именно к республиканской конституции“ (стр. 134). Но „такое явление“ „в истории человечества уже не забывается“, потому что оно выявило в человеческой природе склонность и способность к лучшему, подобных которым ни один политик не смог бы вывести из предшествующего хода событий…". Да, даже если „революция или“ (как ее характерно называют здесь) „реформа конституции народа в конце концов не удается…", то «это событие слишком велико, слишком переплетено с интересами человечества и… слишком широко распространено, чтобы о нем не вспомнили народы при всяком благоприятном случае и не пробудили к повторению новых попыток такого рода» (стр. 135). Таким образом, в этом разделе, озаглавленном «Гадательная история человечества», Кант предсказал последующие революции, начиная с французской в 1830 году и заканчивая русской в октябре 1905 года. Для остальных же оба раздела представляют собой открытое утверждение морального закона революции, более не сдерживаемое «формализмом позитивности в праве и государстве» (Cohenloc. cit. стр.533), как это незадолго до этого отстаивал в специальном письме его восторженный последователь Ж. Б. Эрхард, которого он с одобрением цитирует на странице 134.
Какое окончательное суждение о позиции Канта в отношении Французской революции мы должны вынести после всего этого? Согласно свидетельству Яхманна, которое в данном случае согласуется с записью Гиппеля, он рассматривал это великое событие современности как «эксперимент» на предмет того, удастся ли ему «реализовать идею совершенной государственной конституции, оставленной разумом» (Яхманн, стр. 130). В определенном смысле это правда. Только это не было простым «удовольствием», с которым «натуралист смотрит на эксперимент, который должен подтвердить важную гипотезу» (там же). Скорее, Кант от всей души участвовал в этом «эксперименте». Это подтверждается не только свидетельствами, которые мы слышали от его биографов, особенно из уст Метцгера (loc. cit. стр. 110), но прежде всего всем отрывком из «StreitderFakultäten». Человек, который так пишет, и делает это в возрасте семидесяти четырех лет, особенно если он в целом так критичен и вдумчив, как Кант, должен был сам следить за этим великим историческим зрелищем с глубоким внутренним сочувствием, даже с энтузиазмом. Конечно, как теоретик по профессии и склонности, он проявляет себя и здесь. Только по этой причине он отклонил бы вызов из Франции или во Францию, даже если бы старость, привязанность к узкому кругу своей родины и привычки его спокойной научной жизни не запрещали ему сделать это. Он не хотел быть «практиком», «политиком» в обычном смысле этого слова, о чем на каждом шагу свидетельствуют его труды по истории и философии государства. И поэтому он не хотел нести ответственность за практические пути, которыми шла революция в своих отдельных фазах, тем более за ее насилие, которое не только противоречило его иренческой [мирной – wp] натуре в целом, но и его глубокому убеждению в необходимости безусловной законности в государственной жизни. Даже в последнем рассмотренном отрывке, который, к тому же, так открыто заявляет о своей приверженности принципам Революции, в более пространном примечании (стр. 132) добавляется осторожная оговорка (в отношении Пруссии): «ворчание подданных» по поводу иностранной интервенции ни в коем случае не означает желания упразднить монархию, напротив: а то, что государству угрожает опасность из-за таких «невинных измышлений», придумали только «клеветнические подхалимы» [Verleumder – wp], которые осудили их как «инновационизм, якобинство и Rottierung». Но, несмотря на все эти практические оговорки, он всегда невозмутимо отстаивал либеральные принципы революции; даже в то время, когда почти все другие выдающиеся духи Германии робко отстранились от нее. И не кто иной, как молодой Карл Маркс, пусть как угодно можно относиться к его оценке Канта, верно определил, что его (политическая) философия представляет собой «немецкую теорию Французской революции».23
От практикующего Гиппеля исходит еще одно слово, направленное против Канта и его особого коллеги Крауса: «Превосходные ученые, уважаемые люди, но не способные управлять страной, деревней, курятником! 24Это напоминает нам человека, который не мог постичь могущественную эффективность знаменитого философа, потому что тот еще не сумел улучшить жителей той же улицы. Нам не нужно сначала приводить примеры Сократа, Руссо или Фихте, которые, вероятно, не могли управлять и курятником: Кант сам уже давно дал ответ в своей монографии «Теория и практика», процитированной выше. Кстати, он был если не искусным бизнесменом, то, по крайней мере, опытным судьей. И он ни в коем случае не был оптимистом или «идеалистом» в своей оценке отдельных человеческих существ, да и вообще человечества в целом, как оно есть; напротив, от него можно услышать много вполне реалистичных и даже пессимистичных слов о нем. 25Тем не менее, он решительно отстаивал мнение, что политика в конечном итоге должна быть ориентирована на мораль, на человечество, каким оно должно быть, короче говоря, что она является «моральной задачей». 26Его политика была той, о которой Макс Адлер придумал прекрасное слово: она не развращает, но требует характера. 27«Высшее благо» Канта – это политическое благо. Политика признается «как власть, которая в последней инстанции решает вопрос о прогрессе человеческой культуры, которая также теоретически может привести к истинному прогрессу». Политика, понимаемая в этом смысле, есть не что иное, как история. История ставит перед человеческим разумом постоянно меняющиеся задачи; сама же цель остается вечной, поскольку она укоренена в идее прогресса человечества. И шагом вперед к этой цели, самым огромным во времена Канта, стало всемирно-историческое событие Французской революции и ее всемирно-историческая оценка со стороны современников, прежде всего самого философа. Это возвращает нас к нашей первоначальной мысли, и как мы начали наши замечания со слов Манеса, которому посвящена эта книга, так мы не можем завершить ее прекраснее, чем его словами: «Права меняются, народы приходят и уходят, учреждения культуры меняются, сами идеи, которые предполагают объективную ценность и определенное осуществление, переходят в другие ценности и содержания, наконец, исчезают и индивиды, которые считают себя авторами всех исторических событий, – только одни задачи разума остаются неизменными, потому что их определенность состоит исключительно в их определимости.»28
* * *
Литература – Karl Vorländer – Kants Stellung zur französischen Revolution, in «Philosophische Abhandlungen» – Hermann Cohen zum 70. Geburtstag, Berlin 1912
Этический ригоризм и нравственная красота с особым указанием на Канта и Шиллера I
Вопрос об этическом ригоризме – это, говоря исторически, вопрос о философском отношении Шиллера к Канту. То, что Кант является первым научным представителем этического ригоризма в философии – ибо стоиков мы можем легко здесь не принимать во внимание, а Фихте, которого придется упомянуть во вторую очередь, был лишь преемником Канта – не нужно объяснять читателям философского журнала. Ведь Кант однозначно назвал его моральным «ригористом 29и выражал эту точку зрения на протяжении всех своих этических
сочинений. Нам кажется, что историческое и систематическое отношение Шиллера, человека, который наиболее подробно разбирал этот вопрос с Кантом, к критическому философу в этом вопросе установлено менее точно и определенно. С одной стороны, часто можно встретить, особенно в истории литературы, удобную точку зрения, согласно которой, с комплиментарным цитированием известного ксенофонта: «Я люблю служить своим друзьям, но, к сожалению, делаю это по склонности и т.д.», просто объясняется, что Шиллер «эстетически смягчил» этический ригоризм Канта. С другой стороны, Коген, кажется, тоже заходит слишком далеко, когда утверждает, что поэт в этом отношении полностью согласен с философом.30
Поэтому систематическому обсуждению двух главных представителей нашего вопроса должно предшествовать, хотя бы для того, чтобы получить основу, историческое разъяснение, включающее, помимо отрывков их сочинений, в которых затрагивается наша тема, также переписку обоих. Ведь всегда необычайно привлекательно следить за ходом мыслей двух великих умов в их наиболее интимном выражении, а здесь, где на первый план выходят самые глубокие и интимные отношения между философией и поэзией, это, конечно, особенно важно: помимо интересных прожекторов, которые падают по этому случаю на Гете, Кёрнера, Гумбольдта, Фихте и других представителей веймарского круга друзей. Поэтому мы надеемся, что вы извините нас, если в исторической части нашего трактата, которая следует первой, мы примем более общий подход к нашему предмету и попытаемся показать нашим читателям ход развития отношений Шиллера с Кантом в целом, то есть прежде всего его изучение последнего; мы смеем надеяться на это тем более, что подобная попытка еще не предпринималась с такой специализацией и в тесной связи с самыми непосредственными источниками наших знаний.31 К сожалению, между обоими главными героями было отправлено только по одному письму. Тем богаче источники переписки Шиллера: с 1787 года – с Кёрнером, в 1793 году – с герцогом Фридрихом Кристианом Шлезвиг-Гольштейн-Августенбургским, с 1794 года – с Гёте; переписка Шиллера с Вильгельмом фон Гумбольдтом и Фихте для нас менее актуальна.32
I. Отношение Шиллера к Канту в его историческом развитии.
1787—1790.
Мы не будем здесь углубляться в докантовскую философию Шиллера, если только угодно называть этим именем философскую поэзию «Писем Юлии и Рафаэля» – совершенно отдельно от еще более ранних юношеских попыток.33 Достаточно привести свидетельство самого Шиллера об этом докантианском периоде: «То, что мой Julius сразу же занялся вселенной, в моем случае, вероятно, индивидуально; а именно потому, что я сам не читал почти никакой другой философии и случайно не познакомился ни с какой другой. Из философских трудов (из тех немногих, что я читал) я брал только то, что можно прочувствовать и обработать поэтически» (письмо Кёрнеру, 15 апреля 1788 года). Последнее из философских писем, однако, от Рафаэля к Юлиусу, в котором заметно кантовское влияние, исходит не от нашего поэта, как до сих пор считает Куно Фишер,34 а от его друга Кёрнера; в определенной степени его следует рассматривать как критическое наставление Кёрнера-Рафаэля Шиллеру-Юлиусу! Похоже, что Кёрнер был первым, кто неоднократно указывал поэту на критическую философию. Отсюда его шутливо-гневное замечание в письме к Шиллеру от 7 сентября 1787 года: … «То, что Рейнгольд делает Вас прозелитом, скоро приведет меня в смятение, так как я всегда напрасно проповедовал Вам Канта». Это письмо – ответ на первое письмо Шиллера, в котором упоминается Кант (от 29 августа 1787 года).
Шиллер рассказывает, что благодаря влиянию Рейнгольда в Йене он впервые прочитал некоторые небольшие сочинения Канта 35«Наперекор Рейнгольду, вы (sc. Körner) презираете Канта, ибо он утверждает, что через сто лет у него должна быть репутация Иисуса Христа. Но я должен признаться, что он говорил об этом с пониманием и уже побудил меня начать с маленьких эссе Канта в «Berliner Monatsschrift», среди которых идея всеобщей истории 36доставила мне необычайное удовольствие. Кажется практически предрешенным, что я еще буду читать Канта и, возможно, изучать его.
В письме Рафаэля-Кёрнера к Шиллеру у него, как он сам пишет, появилась «ясность» в важных вопросах; и он правильно подозревает, что в том, что друг обронил о «сухих исследованиях человеческого знания и унизительных пределах человеческого знания», содержалась «отдаленная угроза – в отношении Канта». «Что толку, ты его приведешь? Я знаю, что волком вой. На самом деле, я думаю, вы очень правы». Но в то же время он признается в нежелании своей поэтической натуры: «Я пока не очень хочу углубляться в эту тему». – Кёрнер, который сам живо интересуется Кантом, хотя и далеко не всегда в полном согласии с ним, старается не ограничивать право своего друга на свободное развитие. «Из-за внешнего повода беспокойства по отношению к Канту у меня уже была возможность познакомить его с ним, и я этим доволен. Теперь все зависит от тебя, куда ты хочешь направить диалог» (25 апреля 1788 года). Но в последующие годы Шиллер еще не приходит к проникновенному философскому исследованию. Отчасти ему мешают новые, важные жизненные события (назначение в Йену, помолвка), отчасти он все еще находится в состоянии философского брожения, в котором чувствует необходимость придать своему духу необходимую «силу и зрелость» (Кёрнеру 12 декабря 1789 года).
Следующее письмо Юлиуса к Рафаэлю (как ответ Шиллера на вышеупомянутое) планируется им несколько раз, но так и не появляется. Я, конечно, не забуду обещанное философское письмо, но оно не должно появиться так быстро, ибо ты знаешь, сколько хлопот мне обычно доставляет моя философия» (К. 31 авг. 1789). «Возможно, Вы все-таки получите обещанное письмо от Юлиуса, и скорее, чем Вы ожидаете» (10 ноября). На исторические взгляды Шиллера, однако, не могла не повлиять вышеупомянутая лекция о небольших сочинениях Канта по философии истории, а также опубликованная в январе 1788 года в «DeutschemMerkur» Виланда статья «UeberdenGebrauchteleologischerPrincipieninderPhilosophie», над которой активно работал сам Шиллер. По крайней мере, Кёрнер радуется, когда его друг присылает ему инаугурационную лекцию «Понятие и цель университетской истории»: «То, что вы не постеснялись говорить о Канте в такой лекции и даже упомянуть телеологический принцип, было для меня большим триумфом». Он (Кёрнер) сейчас очень живо интересуется философией Канта, чему он не в состоянии противоречить, но от чего он также не испытывает полного удовлетворения. «Где это лежит, я сейчас выясняю». Он с нетерпением ждал письма от Юлиуса (17 ноября 1789 года).
Через несколько месяцев, 22 февраля 1790 года, Шиллер обвенчался с Лоттой «кантовским теологом» – как он сам сообщил своему другу неделю спустя – в деревенской церкви близ Йены. Только теперь, «под боком у дорогой женщины», где «жизнь совсем другая», пишет он 16 мая, в нем вновь пробуждается «старое желание философствовать». Летом 1790 года он читает опубликованный том по «той части эстетики, которая касается трагедии», и фактически» занимается» этой эстетикой сам, не обращаясь «к эстетической книге». «Мне доставляет большое удовольствие находить общие философские правила и, возможно, даже научный принцип для различных переживаний… И в конце концов, всё это возвращается к Юлиусу и Рафаэлю». На что Кёрнер ответил: «Пусть только Рафаэль поскорее узнает что-нибудь о Ваших идеях; в его ответе, конечно, не должно быть недостатка», с поощрением: «Мой идеал философии и Вас превосходит то, чего Вы еще достигли». В то же время в этом письме (от 28 мая 1790 года) Кёрнер сообщает о своем подробном изучении только что опубликованной «Критики способности суждения» Канта. Даже сейчас Шиллер не находит для этого времени; он довольствуется тем, что желает своему другу «удачи с новой лекцией Канта». «Здесь (в Йене) их хвалят на все лады» (18 июня 1790 года).
Гете был одним из тех, кто испытал на себе сильное воздействие работ Канта. «Он обрел пищу для своей философии в критике телеологической силы», – сообщает Кёрнер 6 октября 1790 года после восьмидневного пребывания Гёте в Дрездене. И далее: «Вы вряд ли догадаетесь, где мы нашли больше всего точек соприкосновения. – Где же еще, как не в Канте!». Тот, кто захочет описать все еще малоизвестную позицию Гете в отношении критической философии, должен будет использовать, помимо отрывка из ^Annalen* или «Tages- und Jahresheften*, в котором он рассказывает о генезисе своей дружбы с Шиллером (см. ниже), почти еще более важные эссе, напечатанные под названиями «Einwirkung der neueren Philosophie* и «Anschauende Urtheilskraft mit anderen Abhandlungen «Zur Naturwissenschaft im Allgemeinen.37 Первое впечатление, которое Шиллер получил от философского стиля своего великого оппонента при первой встрече с ним в 1790 году, полностью соответствует этим более поздним признаниям Гете. Он писал Кёрнеру 1 ноября 1790 года: «Я чувствовал себя по отношению к нему так же, как и вы. Он был у нас вчера, и разговор вскоре перешел на Канта. Интересно, как он все излагает на свой лад и манер и с удивлением вспоминает прочитанное». Но «ему совершенно не хватает сердечности, чтобы исповедовать что-либо. Для него вся философия субъективна, и на этом убеждение и аргументация одновременно заканчиваются. Его философия… слишком много черпает из разума там, где я черпаю из души. В целом, его способ воображения слишком чувственный и слишком трогательный для меня. Но его дух работает и исследует… и стремится к созданию целого – и это делает его для меня великим человеком». Кёрнер соглашается с мнением своего друга. «Гете слишком чувственен в философии и для меня»; но «я считаю, что для нас с вами благотворно то, что мы с ним соприкоснулись, чтобы он предостерег нас, когда мы зайдем слишком далеко в интеллектуализме» (11 ноября 1790 года).
Решительный поворот Шиллера к Канту произошел в 1791 году.
В первые два месяца, в течение которых поэт страдал от тяжелой болезни груди, мы ничего не слышим о философии. Но к началу марта философское «обращение» Шиллера, по выражению Кёрнера, уже должно было произойти. Соответствующее письмо Шиллера, ответом на которое является письмо Кёрнера от 13 марта, отсутствует в доступном нам издании переписки Шиллера и Кёрнера. К счастью, однако, оно найдено в «Жизни Шиллера» Каролины В. Вольцоген,38 датировано 3 марта 1791 года и в интересующем нас отрывке гласит: «Вы не догадываетесь, что я сейчас читаю и изучаю? Ничего хуже – Кант. Его „Критика способности суждения“, которую я сам купил, сбила меня с ног своим новым, светлым, остроумным содержанием и вызвала во мне величайшее желание постепенно вникнуть в его философию. При моем ограниченном знакомстве с философскими системами „Критика разума“ и даже некоторые труды Рейнгольда были бы для меня слишком трудными и отняли бы слишком много времени. Однако, поскольку я сам уже много думал об эстетике и еще больше разбираюсь в ней эмпирически, я гораздо легче продвигаюсь в „Критике способности суждения“ и время от времени знакомлюсь со многими кантовскими идеями, поскольку он ссылается на них в этой работе и использует многие идеи из „Критики разума“ в „Критике способности суждения“. Короче говоря, я подозреваю, что Кант не такая уж непреодолимая гора для меня, и я обязательно займусь им более плотно».
На что Кёрнер ответил 13 марта: «Новость о Вашем философском обращении привела меня в такой трепет, что я чуть было не послал Вам сегодня несколько листов «Philosophica»… Мне не терпится увидеть, что идеи Канта произведут в Вашей голове. Однако «Критика способности суждения» ближе всего к вашим предыдущим исследованиям, и ее можно понять даже без других кантовских работ». 1791 год был довольно мрачным для Шиллера в плане здоровья. «Несколько рецидивов заставили его опасаться худшего, он нуждался в самом тщательном уходе, публичные лекции были бы для него крайне вредны, а всякую другую напряженную работу пришлось приостановить. 39Когда в Рудольштадте сильный припадок приблизил его к смерти, он попросил свою невестку прочитать ему отрывки из «Критики способности суждения» Канта, которые указывают на бессмертие. «Он спокойно принял луч света из души спокойного мудреца… 40Поэтому понятно, что только 4 декабря этого года снова появляется свидетельство о философских занятиях: «Сейчас я работаю над эстетическим эссе о трагическом наслаждении. Вы найдете его в» Thalia» и заметите в нем большое влияние Канта. Это первый из тех трактатов, одинаково восхитительных по своему идейному содержанию и блестящему языку, в которых Шиллер изложил сокровища своих философских мыслей, под названием:







