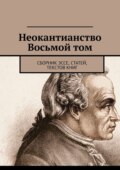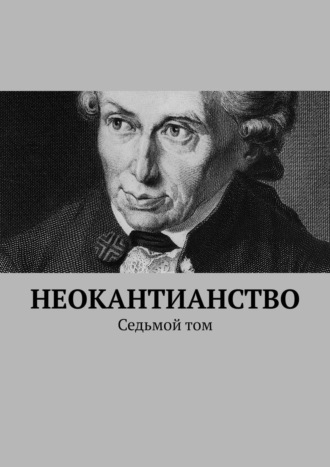
Валерий Алексеевич Антонов
Неокантианство. Седьмой том
Ueber den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen.41
С самого начала кантовское и классическое в нем – это чистое разделение сфер сознания, ограничение искусства тем, что ему свойственно, отличие от его «более серьезных сестер», познания и морали. Полная философия искусства доказала бы, что оно действительно должно пройти свой путь через мораль», но что его истинной целью должно быть только удовольствие. «Только выполнив свой высший эстетический эффект», оно, с другой стороны, «окажет благотворное влияние на мораль» (с. 431). Но давайте ограничимся более узкой темой. Хотя на с. 432 говорится, что «приятный дух – это непременный удел нравственно совершенного человека», позже подчеркивается, совершенно в кантовско-ригористическом смысле, что сила морального закона проявляет себя наиболее славно, когда он находится «в конфликте со всеми другими силами природы». Среди этих природных сил, однако, «есть все, что не является нравственным». «Высшее сознание нашей нравственной природы может сохраняться только в насильственном состоянии, в борьбе, и высшее нравственное наслаждение всегда будет сопровождаться болью»; с этим делается переход к трагедии (с. 437). На с. 441 он замечает: «Нравственные достоинства уменьшаются в той же мере, в какой в них участвуют удовольствие и склонность», а на с. 443: … «Для правильного определения отношений моральных обязанностей к высшему принципу морали необходим разум, независимый от всех природных сил, а значит, и от моральных влечений (в той мере, в какой они действуют инстинктивно)». Что может быть более кантовским, чем такие высказывания?
В том же месяце, когда этот трактат появился в» NeueThalia*, январь 1792
Шиллер пишет Кёрнеру: «Сейчас я с большим рвением занимаюсь Кантом и философией и многое бы отдал, если бы мог каждый вечер беседовать о них с Вами. Я принял бесповоротное решение не оставлять это занятие, пока не постигну его до конца, даже если это будет стоить мне трех лет. Кстати, я уже многое взял из нее и превратил в свою собственность». В то же время он хочет изучать Локка, Юма и Лейбница. За обеденным столом у него несколько молодых кантианцев (1 января 1792 г.).42 В своем ответе от 6 января Кёрнер также сожалеет, что они теперь не вместе, и называет «первым импульсом в философии Канта» его, хотя и только «кажущуюся», бесплодность – в то время это обвинение уже выдвигалось против формального идеализма – а вторым, по крайней мере для него, его «отсутствие доказательств»: выражение, которое часто встречается в том же отношении в его письмах. Конечно, когда Кёрнер в том же письме заявляет: «В целом я считаю философию не наукой, а искусством», и далее: «Красота – ее первый закон. Истина – это подчиненная потребность», то легко понять, почему Кант, к которому он, тем не менее, чувствовал новое влечение, не мог полностью удовлетворить его.
Во «второй части» «новой Талии» Шиллер затем опубликовал эссе Ueber die tragische Kunst» («О трагическом искусстве»), которое является продолжением предыдущего. Мы приведем из него только те отрывки, которые относятся к нашей более близкой теме. Он восхваляет «высокую ценность философии жизни, которая, постоянно ссылаясь на общие законы, сводит на нет чувство нашей индивидуальности». Это «унаследованное духовное настроение» – удел «сильных и философских умов, которые научились подчинять себе эгоистический импульс путем постоянной работы над собой» (с. 451). Чувственность и нравственность резко противопоставляются друг другу и подчеркиваются освобождающие, возвышающие и блаженные качества последней. «Ничто так искусно не может вернуть ее (чувственность) в ее пределы, как помощь сверхчувственных, нравственных идей, на которых неподавленный разум, как на духовных опорах, поднимается вверх, чтобы подняться над мутной дымкой чувств к безмятежному горизонту» (с. 460).
Возвращаясь к нашей переписке, мы передаем рекомендации молодых кантианцев, например, датчанина, который хочет проповедовать «новое евангелие» в Копенгагене, и дальнейшие замечания Кёрнера о философии Канта. 25 мая Шиллер хочет еще раз прочитать «Urtheilskraft» Канта, прежде чем приступить к эстетическим письмам*, и предлагает своему другу сделать то же самое. Мы еще вернемся к этому письму, свидетельствующему о философско-поэтической двойственности натуры поэта, в котором он признает себя «дилетантом» в теории и чувствует, что его поэтический пыл ослабевает, а также к не менее интересному ответу Кёрнера (5 июня). – 3 сентября Шиллер интересуется, читал ли Кёрнер «Критику откровения». «Она написана не Кантом, но в его духе». 15 октября он пишет: «Я хотел заниматься поэзией, но приближение студенческого времени вынуждает меня заняться эстетикой. Теперь я по уши погружен во власть суждения Канта. Я не успокоюсь, пока не проникну в эту материю и она не станет чем-то подвластным мне». 6 ноября он начинает свою «Privatissimum in Aesthetics» 43и» в результате огромной деятельности» «уже выдвинул много светлых идей». Наконец, 21 декабря он считает, что нашел объективное понятие красоты, которое eo ipso также квалифицируется как объективный принцип вкуса и на котором Кант отчаивается» 44и хочет «упорядочить свои мысли по этому поводу и обсудить их в беседе»:
Kallias oder über die Schön heit auf die kommenden Ostern herausgeben». Кёрнер (27 дек.) с большим нетерпением ждет эту работу, особенно из-за «драматических талантов», так подходящих Шиллерудиалогической форме.
Такой «Каллиас» не появился в виде книги.
В 1793 году началась чрезвычайно оживленная и обширная эстетическая переписка с Кёрнером, которую каждый, кто возьмется писать о теории искусства Шиллера и ее отношении к эстетике Канта, должен будет подробно учесть 45Поскольку это не является нашей нынешней задачей, мы, однако, верные своему принципу, извлечем из почти ста страниц 11 писем от 25 января – 7 марта только те отрывки, которые представляются либо относящимися к нашей более узкой теме, либо важными для общей позиции по Канту.
Здесь Шиллер показывает себя решительно независимым от Канта, например, в дедукции понятия красоты, предпринятой в первом письме. Но когда его друг Кёрнер думает, что из этого можно сделать вывод (4 февраля): «Возможно, нам удастся найти философский камень, несмотря на Канта», Шиллер отвергает его – настолько поменялись роли по сравнению с прежними временами – с замечанием: со своей логической оценкой красоты он (Кёрнер) все же слишком близок к эстетике совершенства школы Вольфа; он сам (Шиллер) «говорит здесь больше, чем кантианец» (8 февраля). 14-страничное письмо Шиллера от 18 февраля имеет особое значение. В предыдущем письме (от 15 февраля) Кёрнер сообщал: «В основной теореме Вашей теории есть нечто чрезвычайно удовлетворительное, особенно для друга кантовской системы… Только я не хотел бы выводить красоту из нравственности, а скорее последнюю из последней и обе из высшего принципа. Этот высший принцип, конечно, еще предстоит найти». Далее следует подлинно кантовский ответ Шиллера: «… Я так далек от того, чтобы выводить красоту из морали, что считаю ее почти несовместимой с ней. Нравственность определяется чистым разумом, красота как свойство внешности определяется чистой природой.
Высший принцип, который вы требуете, – это… Бытие из простой формы». А теперь также следует прямое признание Канту: «Только это я еще отмечаю, что вы абсолютно свободны от всех вторичных идей, которыми прежние религиоведы (?) в моральной философии, или бедняги, подтасовывавшие философию Канта, исказили понятие морали, – ибо тогда вы будете полностью убеждены, что все ваши идеи, как я могу догадаться по вашим прежним высказываниям, находятся в большем согласии с основанием морали Канта, чем вы сами, возможно, сейчас не подозреваете. Конечно, ни один смертный не произнес еще более великого слова, чем это кантовское слово, которое в то же время является содержанием всей его философии: Определи себя от самого себя; а также в теоретической философии: Природа подчиняется закону рассудка. Эта великая идея самоопределения излучается к нам из определенных явлений природы, которые мы называем красотой» (с. 30). Я уже объяснял в своей диссертации,46 что фраза bestimme Dich aus Dir selbst не является, согласно формулировке, кантовским улучшением; однако отрывок ценен для нас как восторженное признание поэтом основ кантовской морали.
В дальнейшем в этом же письме содержится систематическое развитие этики Канта. От актуально прекрасного Шиллер переходит к прекрасному в неактуальном смысле, то есть к моральной красоте, и иллюстрирует добросердечный, полезный, чисто моральный, великодушный и морально прекрасный поступок пятью примерами, которые связаны с историей, относящейся к рассказу о добром самаритянине (с. 37—41). Для нас важны только третий и пятый. Чисто нравственным (но не более)» является поступок, когда он «совершается вопреки интересам чувств, из уважения к закону» (с. 39). Оно становится прекрасным только тогда, «когда выглядит как эффект природы, возникающий сам собой», когда автономия разума и автономия во внешности совпадают». «По этой причине максимум совершенства характера человека – это нравственная красота, ибо она возникает только тогда, когда долг стал для него природой». «Очевидно, что насилие, которое практический разум совершает над нашими инстинктами в определении нравственной воли, имеет в своей внешности нечто оскорбительное, нечто постыдное… потому что мы рассматриваем всякое существо в эстетической оценке как самоцель, и нам, для которых свобода есть высшее, противно, что нечто должно быть принесено в жертву другому и служить средством».
Поэтому нравственное действие никогда не может быть прекрасным, если мы наблюдаем за действием, в результате которого оно лишается чувственности. Оно должно иметь такой вид, как если бы природа просто выполняла предписание наших инстинктов, действуя вопреки инстинктам, под властью чистой воли» (с. 41 f.). – Еще один» трак» на 30 страницах, который следует за 23 февраля, призван доказать: Красота = Свобода во внешности = Природа в искусстве. Однако мы не хотим идти по его следам, уходящим в собственно эстетическую сферу, а хотим лишь выделить ссылку на Канта. Если 19 февраля (в конце письма) Шиллер просил своего друга назвать «среди всех объяснений прекрасного, которые Кант видит включенными, хоть одно, которое разрешает проблему неистинно прекрасного так удовлетворительно, как, я надеюсь, это было сделано здесь», то 23 февраля (с. 58) он признается, что его теория – это только теория неистинно прекрасного. 58), что его теория – лишь объяснение фразы в «Критике способности суждения» Канта, с. 177, которая «обладает огромной плодотворностью», а именно: «Природа прекрасна, когда она похожа на искусство; искусство прекрасно, когда оно похоже на природу 47Наконец, для нас важны заключительные замечания этого длинного и интересного письма:
Суровость есть не что иное, как противоположность свободного. Именно эта суровость часто лишает эстетической ценности величие понимания, часто даже морального. Сама добродетель становится любимой только через красоту. Поэтому Цезарь и Кимон приятнее Катона и Фокиона, просто ласковые поступки «часто» (!) больше, чем чисто моральные, умеренные добродетели больше, чем героические, женское начало часто (!) больше, чем мужское; «ибо женский характер, даже самый совершенный, никогда (?) не может действовать иначе, чем по склонности». (стр. 70 f.)
В своем ответе от 26 февраля Кёрнер соглашается со своим другом: «То, что ты говоришь об оскорбительном характере идеи долга, написано от моего сердца». Его всегда раздражало «это место в кантовской системе». Он подозревает, что «важность отношения формы к содержанию, аналогия формы с духовным… возможно, плодотворность платоновских идей». (!) – Следующее письмо Шиллера сопровождается дополнением о «красоте искусства» (с. 112—122), которое Кёрнер комментирует 7 марта, но в остальном не содержит ничего более эстетического.
Прежде чем перейти к другому содержанию этого письма, однако, чтобы в какой-то мере сохранить хронологию, мы должны добавить письмо Шиллера к Фишениху от 11 февраля, тому самому, который упоминался выше (стр. 234, примечание)48 среди гостей Шиллера на обеде и который зимой 1792/93 года защитил докторскую диссертацию в Бонне. Это письмо одинаково знаменательно как для энтузиазма молодых студентов по отношению к Канту, так и для энтузиазма нашего поэта. В нем говорится: «Я очень рад вашему столь счастливому началу лекций и хорошему восприятию философии Канта преподавателями и студентами. Я не очень удивлен, кстати, по поводу молодых студентов: ведь у этой философии нет другого противника, кроме предрассудков, которых не следует бояться в молодых умах. Очевидно, это обстоятельство очень много говорит в пользу ее истинности… Полная новизна Вашего Евангелия в Бонне, должно быть, очень вдохновляет Вас. Здесь (в Йене) на всех улицах слышны звуки формы и содержания, на пюпитре почти невозможно сказать ничего нового, кроме как решив не быть кантианцем, – как это ни трудно для нас, я все же действительно попытался это сделать.
Мои лекции по эстетике завели меня довольно глубоко в этот запутанный вопрос и заставили познакомиться с теорией Канта настолько точно, насколько это необходимо, чтобы не быть больше простым копиистом…».49
Вернемся к письму от 28 февраля. В нем Шиллер сообщает о скором появлении «Философской религиозной теории» Канта, то есть «Религии в границах чистого разума», которая будет напечатана в Йене. 50Он «очарован» той половиной, которая была напечатана до сих пор, и «с трудом может дождаться оставшихся листов». В ней Кант «связывает результаты философского мышления с детским разумом», руководствуясь похвальным принципом – «который Вы очень любите» – «не отбрасывать существующее, пока от него еще можно ожидать реальности, но скорее совершенствовать его». «Возмутительным» для чувств поэта, правда, является предположение Канта о склонности к радикальному злу, но «против его доказательств ничего нельзя возразить, как бы этого ни хотелось». Среди теологов он «не заслужил бы особой благодарности». Напротив, Логос, искупление (как философский миф), идея рая и ада, Царство Божие «и все эти идеи» кажутся Шиллеру «наиболее счастливо объясненными». – Далее Шиллер сообщает, что он находится в процессе написания теодицеи для предстоящего нового издания своих стихов. Он с нетерпением ждет этого, так как «новая философия гораздо поэтичнее, чем философия Лейбница, и имеет гораздо больший характер». Еще большего он ожидает от другого стихотворения, над которым работает («Идеал и жизнь»? ) – в своем ответе (4 марта) Кёрнер очень радуется «Теодицее», а также новой работе Канта, которая, вероятно, была вызвана «Критикой всякого откровения» (Фихте).
Больше всего он отвергал положение о радикальном зле, потому что оно «основано на одностороннем опыте». (После прочтения текста он написал 31 мая: «Кантианский продукт вызывает у меня неприятные ощущения своей нордической жесткостью и неплодотворной искусственностью догматики»). Кёрнер продолжает: «Если бы только Кант не заставил нас больше ждать своей „Метафизики нравов“! Или, может быть, он еще не в ладах с самим собой по этому поводу? По крайней мере, ему будет трудно построить на ее предпосылках здание плодотворных доктрин». 51К сожалению, в письмах Шиллера нет ответа на эти серьезные упреки, так же как и на этом обрывается обширная и продолжительная переписка с Кёрнером по поводу «Philosophica»; отчасти потому, что в последующий период поэт часто страдает от своего старого недуга, отчасти потому, что, как он жалуется, его плохо поддерживают соавторы и ему приходится много работать для «Талии». Тем не менее, его дух и сила воли одержали победу над слабым телом. Именно в это время один из самых зрелых плодов его эстетических исследований, трактат об изяществе и достоинстве, появившийся во второй части «новой Талии», был создан с величайшей легкостью, «не более чем за шесть недель», как он сам сообщил своему другу, когда посылал его нам (20 июня). Поскольку к этому трактату, наиболее важному для отношения Шиллера к Канту, нам придется вернуться более подробно в критико-систематической части нашей работы, мы лишь кратко представим наиболее значимые для нашей темы мысли.
По мнению Шиллера, у человека может быть три отношения к «самому себе», то есть его чувственной части к рациональной: 1) подчинение чувственности (субстанции) разуму (форме), 2) подчинение разума субстанции, 3) гармония разума и чувственности – формы и субстанции – долга и склонности. Только третье состояние порождает красоту пьесы, лежащей посередине между достоинством духа и похотью порыва. После этих замечаний – примерно в середине всего трактата – Шиллер впервые в своих трудах обращается к «бессмертному автору критики», которому мы обязаны тем, что мораль «наконец перестала говорить на языке наслаждений», и которому принадлежит слава «восстановителя здравого смысла из философствующего». Подобно Канту, Шиллер также хочет «полностью отвергнуть притязания чувственности в области чистого разума и в моральном законодательстве» и «до этого момента» он считает себя «в полном согласии с ригористами 52морали»; но он надеется «не стать латифундистами», продолжая пытаться утверждать эти притязания чувственности «в области видимости и в реальном исполнении морального долга».
После дальнейшего развития мыслей (которые будут обсуждаться в систематической части) о том, что человек должен не просто совершать отдельные моральные поступки, но быть моральным существом, что он должен повиноваться своему разуму с радостью, что и почему он должен не только привести в связь удовольствие и долг, но что долг должен стать его природой (ср. Вышеупомянутые отрывки из примерно одновременных писем к Кёрнеру), он возвращается (с. 365) к самому Канту, на этот раз в менее одобрительном, а местами – хотя и со всей осторожностью – в агрессивном 53смысле. В моральной философии Канта, говорит он, «идея долга изложена с такой суровостью, которая отталкивает от нее все милости и может легко соблазнить слабый ум искать нравственного совершенства на пути мрачного и монашеского аскетизма». Конечно, такое «неправильное толкование» было бы «самым возмутительным из всех» для «безмятежного и свободного духа» «великого мирского мудреца», но он сам дал «сильный, хотя с его намерением, возможно, едва ли можно избежать этого», повод для этого «строгим и вопиющим противопоставлением» двух принципов. После доказательства Канта «уже не может быть никакого спора о самом вопросе» среди «мыслящих умов, желающих убедиться», и он вряд ли знает, «как можно не отдать скорее всю свою человечность, чем получить иной результат от разума в этом вопросе».
Но каким бы «чистым» и «объективным» ни был Кант в своем исследовании истины, он руководствовался «более субъективной» максимой в своем «изложении найденной им истины». Ведь ему пришлось бы нападать и преследовать без снисхождения мораль того времени, как грубый материализм, так и «не менее сомнительные» принципы совершенства, и таким образом стать» Draco своего времени», «потому что оно еще не казалось ему достойным и восприимчивым Solon». Итак, до сих пор Кант прямо противопоставляется Шиллеру. Однако теперь (с. 366) начинаются возражения: «Но чем были обязаны домочадцы, что он заботился только о князьях?». – «Поскольку моральный угодник хотел бы придать закону разума ту расхлябанность, которая превращает его в игрушку его удобства, то, следовательно, необходимо было придать ему ту жесткость, которая превращает мощнейшее выражение моральной свободы в более похвальный вид рабства?». – «Неужели сама императивная форма нравственного закона должна была обвинить и унизить человечество…?» Не тем ли самым, в случае «предписания, которое человек как разумное существо дает самому себе», была вызвана «видимость чуждого и позитивного закона»? 54– «Аскетический дух» такого закона не совместим с «чувствами красоты и свободы». «Прекрасная душа», в которой «чувственность и разум, долг и склонность гармонируют», заслуживает предпочтения перед «схоластическим учеником морального правила, как того требует слово мастера (Канта?)», как тициановская картина перед жесткими штрихами рисунка. Конечно, вся эта красота характера, самый зрелый плод его человечности, является – как провозглашается в начале следующего раздела о «достоинстве» – «всего лишь идеей», которая только «дана» человеку, но никогда полностью не достижима.
Кёрнер, как мы уже можем предположить, полностью согласен с замечаниями своего друга против Канта; правда, для него они не зашли достаточно далеко. Он отвечает (29 июня) весьма антикантиански: «То, что ты говоришь о моральной философии Канта, я поддерживаю всей душой. Ваше извинение за Канта разумно, но я почти думаю, что вы отдаете ему слишком много чести. Возможно, ему не хватает чувства нравственной красоты; и я еще не полностью убежден в доказательности его моральной системы. Что же тогда заставляет нас обобщать каждое отдельное действие и рассматривать его как максиму? Разве не является высшим совершенством мыслящего существа определять себя в зависимости от индивидуальных обстоятельств, а не в соответствии с общими правилами, которые, в конце концов, являются лишь средством от умственной неспособности (!)?». Кстати, в последней половине «произведения» Шиллера, которое он приветствует с большим одобрением и как высшее доказательство «изящества», «достоинство уже слишком преобладает, и это должно, мне кажется, быть подчинено изяществу в изложении философии – так же как и в добродетели (!)». (!) К сожалению, и в этом случае мы не имеем ответа Шиллера, по крайней мере, в письме или directe, на такой чисто эстетический взгляд на вещи. Возможно, этому помешало его путешествие в Швабию.
Но «AnmuthundWürde» вызвал к жизни не только старого друга Кёрнера, но и более значительные фигуры, самих Гёте и Канта, высказывания, которые слишком значительны для отношения обоих к Шиллеру, чтобы не упоминать их здесь.
Что касается Гете, то можно было бы подумать, что он почувствовал бы себя обращенным к Шиллеру. Но дело обстоит как раз наоборот: это скорее тормозило, чем способствовало взаимопониманию между двумя великими. Гете сам сообщает об этом в своем» Annalen».55
Объяснив ранее, как отталкивали его прежние безудержно гениальные произведения музы Шиллера, он продолжает: «Его эссе о „Благодати и достоинстве“ было столь же мало способно примирить меня. Философию Канта, которая так возвышает предмет, казалось бы, ограничивая его, он поглощал с радостью; она развивала то необыкновенное, что природа заложила в его существо, и он, в высшем смысле свободы и самоопределения, был неблагодарен великой матери, которая, конечно, не относилась к нему по-мачехиному… Я мог даже истолковать некоторые резкие отрывки прямо в свой адрес; они показывали мое вероучение в ложном свете… Огромная пропасть между нашими мировоззрениями только еще больше расширялась… Ни о каком союзе не могло быть и речи», потому что «никто не мог отрицать, что между двумя умственными антиподами разрыв больше, чем диаметр земли». Точно так же он упоминает в другом месте,56 что «резкие выражения», с которыми Шиллер обращался к «доброй матери» с «изяществом и достоинством», сделали это сочинение «столь ненавистным» для него.
Если Шиллер недостаточно далеко зашел для Гете, поэта природы, в признании претензий чувственности и природы, то Кант, философ, зашел слишком далеко. Но мы не имеем в виду, как это делает Куно Фишер, что позиция Шиллера «уже больше склонялась к образу мышления Гете, чем Канта «2), а наоборот. Критическое слово об этом позже. Пока же достаточно отметить, что ««Мужество и достоинство» было гораздо более благосклонно воспринято Кантом, чем Гете. Во втором издании «Religioninnerhalbetc.», которое было опубликовано в следующем году (1794), Кант заговорил о вмешательстве Шиллера в пространном примечании к тому самому отрывку, который установил контраст между ригористами и латифундистами. Это единственный отрывок в его работах, в котором кенигсбергский мудрец высказался о своем отношении к одному из своих величайших учеников; по этой причине, а также потому, что он касается исключительно центрального пункта нашего вопроса, мы не можем не привести его здесь полностью, несмотря на его объем. Кант пишет: «Профессор Шиллер в своем мастерском трактате об изяществе и достоинстве в морали не одобряет эту концепцию обязательства, как будто она несет с собой настроение, подобное картонному домику; но я, поскольку мы едины в самых важных принципах, не могу не согласиться и в этом; если только мы сможем разобраться между собой. – Я охотно признаюсь, что именно по причине своего достоинства я не могу приписать понятию долга никакого очарования. Ведь оно содержит безусловную необходимость, с которой благодать находится в прямом противоречии.
Величие закона (как на Синае) внушает благоговение (не робость, которая отталкивает, и не очарование, которое приглашает к знакомству), которое пробуждает в подданном уважение к своему господину, а в данном случае, поскольку он находится в нас самих, чувство возвышенности нашей собственной судьбы, которая для нас привлекательнее всего прекрасного. Но добродетель, то есть твердое отношение к выполнению своего долга, также благотворна по своим последствиям, более чем все, чего может достичь в мире природа или искусство; и великолепный образ человечества, созданный в этой своей форме, позволяет сопровождать милости, которые, однако, если еще говорят о долге, держатся на почтительном расстоянии. Если же мы посмотрим на те приятные последствия, которые добродетель, если бы она повсюду нашла себе дорогу, распространила бы в мире, то моральный разум вовлекает в игру чувственность (силой воображения). Только победив чудовищ, Геракл становится Мусагетом,57 перед работой которого трепещут те добрые сестры. Эти спутницы Венеры Урании становятся сестрами-богинями вслед за Венерой Дионы, как только вмешиваются в дело долга и хотят дать за это пружины. – Если мы теперь спросим, что является эстетическим качеством, темпераментом добродетели, так сказать, мужественной и потому жизнерадостной, или тревожной, склоненной и подавленной, то вряд ли нам понадобится ответ.
Последнее рабское состояние души никогда не может иметь места без скрытой ненависти к закону, и бодрое сердце в исполнении долга (а не утешение в признании его) является признаком почтительности добродетельного нрава, даже в благочестии, которое состоит не в самоистязании кающегося грешника (что очень двусмысленно…), а в твердой решимости стать лучше в будущем, которая, подстегиваемая хорошими успехами, должна порождать бодрое настроение духа, без которого никогда нельзя быть уверенным, что человек также любит себя. …), а в твердой решимости поступать в будущем лучше, которая, подстегиваемая хорошими успехами, должна порождать бодрое настроение духа, без которого никогда нельзя быть уверенным, что человек полюбил и добро, т.е. что он взял его в свои максимальные рамки. Радостное впечатление, которое произвело на Канта это рассмотрение Шиллера, видно из его письма к Кёрнеру от 18 мая 1794 года: В новом издании своей «Философско-религиозной теории» Кант позволил себе высказаться по поводу моего сочинения о грации и достоинстве и защититься от содержащихся в нем нападок. Он отзывается о моем труде с большим уважением и называет его работой руки мастера. Я не могу выразить, как я рад, что это письмо попало в его руки и что оно произвело на него такое впечатление». Какое глубокое почтение и непритворная радость выражены в этих строках! Это почитание ученика, почти ученика по отношению к мастеру, радость смешивается со скромным почтением к великому человеку века, которому по счастливой случайности попало в руки его письмо и побудило его так высоко оценить его. И с другой стороны, Кёрнер снова оказался прав, когда с обоснованной гордостью ответил своему Шиллеру замечанием, которое говорит о многом: «То, что Кант высоко ценит вас, меня не удивляет. В характере ваших умов есть определенное сходство, которое можно заметить при ближайшем сравнении» (25 мая 1794 года).
Вернемся от этого отступления к оставленной хронологической последовательности. Одновременно с «AnmuthundWürde», как сообщил Шиллер 27 мая 1793 года, он написал эссе о «патетическом представлении». Оно было опубликовано в «Талии» (3-е и 4-е издания) под названием: «VornErhabenen. ZurweiterenAusführungeinigerKantischenIdeen», в двух частях. Только вторая часть была позднее включена Шиллером в сборник его «Младших прозаических сочинений» под названием «О патетическом», тогда как первая была переработана для этой цели и в этой более поздней форме, «отличавшейся больше собственными взглядами», была включена в этот сборник (1801) и, таким образом, в наши издания Шиллера под названием «О возвышенном». – На самом деле, раннее издание 58в соответствии со своим названием полностью соответствует кантовской точке зрения и, например, ставит «моральную определенность» в резкий контраст с «физической». 59Более важным для нашей цели является различие, проведенное в трактате «О патетике» между моральной и эстетической оценкой (с. 417—424). Оно будет рассмотрено позже с систематической точки зрения.
В качестве основы для такого рассмотрения и одновременно для исторической фиксации точки зрения Шиллера здесь может найти свое место «попутное замечание» о «разнообразии эстетического впечатления, которое концепция долга Канта производит на различных критиков». «Незначительная часть публики находит эту концепцию долга очень унизительной; другая находит ее бесконечно возвышающей сердце. Оба правы, и причина противоречия кроется лишь в различии точек зрения, с которых оба рассматривают этот предмет. Однако нет ничего великого в простом исполнении своего долга, а поскольку лучшее, на что мы способны, – это лишь исполнение, и притом недостаточное исполнение, своего долга, то в высшей добродетели нет ничего вдохновляющего. Но верно и настойчиво исполнять свой долг, несмотря на все ограничения чувственной природы, и неизменно следовать святому закону духа в узах материи – это действительно возвышенно и достойно восхищения. Конечно, в нашей добродетели нет ничего достойного внимания, и сколько бы мы ни позволили ей стоить, мы всегда будем бесполезными слугами; с другой стороны, в мире чувств она тем более желанный объект. Итак, если мы оцениваем поступки с нравственной точки зрения и соотносим их с моральным законом, то у нас нет оснований гордиться своей нравственностью; если же мы рассматриваем возможность этих поступков и соотносим способность разума, лежащую в их основе, с миром видимости, то есть если мы оцениваем их с эстетической точки зрения, то у нас нет оснований гордиться своей нравственностью. Т.е. в той мере, в какой мы оцениваем их эстетически, нам позволено определенное самоощущение, более того, оно даже необходимо, потому что мы обнаруживаем в себе принцип, который велик и бесконечен вне всякого сравнения» (с. 422). Как мы не смогли преодолеть удаление слова в комментарии Канта против Шиллера выше, так мы не сможем преодолеть удаление слова в комментарии Шиллера здесь.