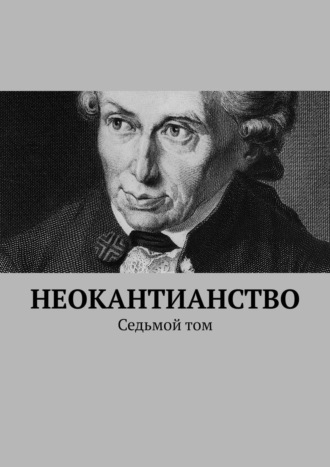
Валерий Алексеевич Антонов
Неокантианство. Седьмой том
Этический ригоризм и нравственная красота. II
Методологическое обоснование этического ригоризма
Те, кто говорит об этическом ригоризме, обычно понимают под ним – не без согласия с лингвистической деривацией этого слова 105– холодную осуждающую жесткость строгого морального судьи, которому неведомы чувства любви и мягкости, терпимости и сострадания, в более благоприятном случае – жесткое, требовательное следование моральным принципам, которые, может быть, легко проповедовать и хорошо звучат «в теории», но не могут быть осуществлены в так называемой «практике жизни»: моральный менталитет, который справедливо заслуживает порицания в обоих случаях. Эта концепция этического ригоризма как взгляда на жизнь часто заставляла рассматривать этику Канта или Фихте с этой точки зрения; пытались объяснить философию через философов и при этом впадали во всевозможные биографические моменты. Так, в отношении Канта проницательный Лихтенберг уже поднял скептический вопрос о том, не являются ли некоторые его учения, «особенно в отношении морального закона», следствием его возраста, «где страсти и мнения потеряли свою силу»,106 другие выдвигали его восточно-прусское происхождение как объяснение его «нордической твердости», Шиллер, как мы видели, говорил о своей «нордической твердости» в своей «нордической» философии. Шиллер, как мы видели (стр. 275), говорил о впечатлениях своей юности, которые еще не были полностью преодолены, и о следах монастыря, которые еще не были полностью искоренены (под этим он, должно быть, подразумевал пиетистские влияния в детстве и первые годы молодости Канта).
С другой стороны, этому можно противопоставить прекрасную характеристику Канта в «Humanitätsbriefe» («Письмах о человечестве») его позднего оппонента Гердера, которые, хотя и были получены на личном опыте в годы учебы Гердера, все же были написаны в 1795 году – уже после того, как возникло напряжение! – и свидетельствует о «юношеской бодрости» и «несокрушимом веселье и радости», которые уже можно было прочесть на лице любимого учителя; или также изумление самого Шиллера в вышеупомянутом отрывке, что такой «лидер и веселый дух» мог столкнуться с этим (ср. цитированный выше, стр. 242); наконец, все, что дошло до нас об эллинской общительности его стола, его социальных достоинствах и мягкости его характера. Человек, который не только в praxi (как Сократ), но и в «казуистических вопросах» своего учения о добродетели не считал ниже своего достоинства «если не как панегирист, то хотя бы как апологет» принимать умеренное наслаждение вином и удовольствиями стола, не выходящими за рамки, который – что еще важнее – накидывал «завесу филантропии» на недостатки других, «не только смягчая наши суждения, но и скрывая их» над недостатками других, действительно, кто, подобно Лессингу, хотел уважать предрасположенность к добру даже в порочных людях и не отказывать ни одному человеку в моральной ценности – можно ли назвать его жестким ригористом моральных суждений? Разве все, что мы знаем о жизни и личном характере Канта, не свидетельствует о более высокой степени внутреннего спокойствия и гармонии характера, чем это могло быть присуще страстной поэтической натуре Шиллера, которого так часто сравнивают с ним как с «апостолом красоты» и которому после восторженного неистовства юности сначала пришлось пройти через «гигантскую борьбу долга»?
Но такие биографически-личностные моменты, как бы они ни были важны для психологии характера соответствующих философов, не могут иметь значения для философии как систематической науки. Несомненно, в известном высказывании Фихте: «То, какую философию человек выбирает, зависит от того, каким человеком он является», содержится глубокая психологическая истина. Да, возможно, это предложение можно было бы с не меньшим основанием перевернуть и осмелиться на столь же, то есть относительно обоснованное, утверждение: «То, каким человеком человек становится, зависит от того, какую философию он выбирает». По крайней мере, более пристальный взгляд на историческое и личное влияние той самой этики, которая была осуждена как «кригористическая», несомненно, дал бы достаточно оснований для такого разворота. И мы, конечно же, будем последними, кто не признает, что критический идеализм не только привел научные исследования в новое русло, но и практически обновил моральный дух широких кругов немецкого народа и способен оказывать такое же воздействие и сегодня, так что, взятый предпочтительно с этой морально-практической стороны, он может, более того, должен с полным основанием называться «очищенной философией жизни» (Шиллер). Но рассмотрение этих взаимосвязей между философией и жизнью не входит в систематическую задачу, которая должна нас здесь занимать.
История литературы, а в ограниченной степени и история философии, может учитывать, помимо общеисторических, и такие личностно-психологические моменты: Философия как наука должна исследовать правильность системы, а не обрабатывать биографический материал. Поэтому в дальнейшем мы рассматриваем ригоризм, по крайней мере, в первую очередь, не как взгляд на жизнь, а как метод. Поэтому мы можем и будем пока оставлять имена Канта и Шиллера за рамками уравнения. Если мы обратимся к ним позже, то сделаем это, во-первых, из вполне обоснованного интереса, не только исторического, но и систематического, которым трактат об этическом ригоризме обязан этим двум людям, а во-вторых, из убеждения, которое стало для нас неопровержимым, что Кант в особенности и, как, возможно, менее широко принято считать, Шиллер тоже, вслед за ним, ясно признали и выразили прежде всего методологически-систематическое значение этического ригоризма.
Этический ригоризм обосновывается как методологическая необходимость.
Основные понятия и инструменты логического мышления, такие как определение, анализ, критика, диспозиция и так далее, уже обозначают в своих названиях момент определения через ограничение, расчленение, дифференциацию, в качестве обязательности метода. Основные понятия и инструменты логического мышления, такие как определение, анализ, критика, диспозиция и так далее, уже обозначают в своих названиях момент определения путем ограничения, расчленения, различения, выделения как корень всякой научной деятельности. Это относится и к упражнению самой элементарной логики, но точно так же и к высшей кульминации философской мысли, которая имеет место в построении системы. Как там возведение простейшей идеи в понятие предполагает дифференциацию через определенные характеристики, так и первой задачей философии как системостроительной науки является: чистая дифференциация различных сфер сознания. Это критическое дело является предпосылкой систематического, представляет собой, так сказать, поиск строительной площадки и планирование основания, на котором должно дрожать систематическое здание. Но таких областей, в той мере, в какой они поддаются объективации и, следовательно, научной обработке, три: те самые, которые со времен Платона занимают мыслящий, желающий и чувствующий человеческий дух под популярными названиями истинного, доброго и прекрасного и которые он в правильном языковом инстинкте описывает как миры, то есть самодостаточные целостности, формирующие себя по собственным законам: Наука, мораль и искусство. В сознании этому соответствуют три основных направления последнего: познание, воля и третье, коренящееся в чувстве, но поднимающееся из его неопределенности к самостоятельному, идиосинкразическому образованию, которое мы будем называть, вместе с Наторпом,107 творческим воображением. Как бы ни была оправдана насмешка над «душами», пока мы думаем о них как о трех отдельных ящиках в сундуке человеческого сознания, «душе», мы всегда будем возвращаться к тому факту, что существуют три различных основных направления сознания, которые проявляются в воображении, желании, чувстве, в той или иной форме.
Перечень трех факультетов души предназначен не для того, чтобы «ввести ложную психологию, угрожающую методу истории развития, но скорее для того, чтобы служить необходимой дифференциации культурных областей сознания».108
Наряду с этими тремя основными направлениями сознания, которые достигли своей закономерности в науке, морали и искусстве, и которые в ходе культуры ответвлялись от общего корня в виде отдельных, иногда разделяющих, иногда объединяющих ветвей, теперь появляется, как четвертый, первоначальный элемент, чувство как таковое: не как дальнейшая ветвь, ответвляющаяся от них, а скорее как общая почва, из которой они выросли. Последние формируют, ограничивают, устанавливают, объективируют в предметы, в законы; это представляет собой то, что, по общему признанию, является самым первоначальным, самым непосредственным, самым глубоким, но также и самым бесформенным, самым незавершенным, самым неопределенным, а потому и самым невыразимым, самым субъективным, что только есть. Последнее стремится к юридическому определению, ограничению, формированию; последнее не хочет, чтобы его индивидуальность, то есть неделимость, была ограничена общепринятыми законами, чтобы его размеры, находящиеся в постоянном равновесии между полюсами удовольствия и неудовольствия, не сдерживались фиксированными ограничивающими берегами.
Чувство удовольствия и неудовольствия – это общая психическая подпочва, которая прочно переплетается со всеми тремя направлениями сознания. Мы чувствуем истины, мы чувствуем моральные импульсы, а формы художественного воображения даже возникают непосредственно из почвы чувства. Последнее, в своем избытке и безмерности, хотело бы теперь увлечь в свою неопределенную, бесформенную глубину те три области сознания, которые достигли своей собственной формы в науке, морали и искусстве, хотело бы овладеть формой как своим материалом, вместо того чтобы позволить ей проникнуть в себя и все более и более уничтожать ее, хотело бы вбить эти три культурные провинции в свое собственное царство. Поэтому против этих сил глубины они должны прежде всего стремиться защитить свою территорию, прежде чем устанавливать границы между собой; в противном случае они хотят существовать свободно, то есть по своим собственным законам, в соответствии со своей собственной конституцией. В лоне чувств, из которого они выросли, они, конечно, могут заново наполнить себя теплом и внутренней жизнью, но сначала они должны убедиться в своей независимости решительным, самоуверенным сопротивлением и защитить себя от угрожающего порабощения прочными пограничными стенами.
И этот отказ должен быть твердым и непоколебимым сопротивлением, эта охрана границ должна быть скрупулезно точной – как это знает только «геометр в своем деле», – которая не позволит отнять у себя ни клочка своей территории: только тогда она может заключить мир и – теперь уже и дружбу с противником, который был отброшен назад и отныне остается в своих границах, к взаимной выгоде и благочестию. Здесь, таким образом, только с непоколебимостью точки зрения можно пройти, прежде чем противник сможет оценить, с несгибаемостью бойца, прежде чем будет одержана победа и наведены мосты связи в дружественную страну, с жесткостью взгляда, который твердо и неуклонно устремлен к одной цели и не смотрит ни вправо, ни влево, пока, достигнув ее, он не сможет и – должен свободно направить себя в любую сторону, или, если оставить язык картины: здесь вступает в свои права методическая необходимость ригоризма.
Но прежде всего независимость этики находится под угрозой такой опасности из-за посягательств чувства. Теоретическая наука, по крайней мере, в ее точной форме, как математика, чистое естествознание и формальная логика, меньше беспокоится о влиянии чувства на познание; хотя оно достаточно часто усиливалось и может еще усилиться до тревожной силы, особенно в притязаниях неправильно направленного религиозного чувства.109 Искусство же, напротив, вовсе не стремится отделиться от течения чувства, а лишь вливает его шипение в чистое русло реки, чтобы очистить его до умеренности и гармонии.
Мораль же не имеет твердой, непоколебимой основы в неизменных науках, как познание природы, а может ссылаться только на «factum», так сказать»,110 представляет собой лишь идею, задачу, которую еще только предстоит осуществить. Поэтому чувство наслаждения – и наиболее соблазнительное в своих лучших формах, в духовных наслаждениях и религиозных чувствах – давит на него со всей своей почти неодолимой силой и стремится увлечь его в свое лоно, лишить его чистоты и независимости, которое представляется как нечто мнимое, пустое, абстрактное, которое должно преклониться перед живой реальностью чувств или даже превзойти их, преувеличить их до того морального восторга, которому порой с такой готовностью предается даже самый вялый человек, «лишь бы не дать ему действовать хорошо». Отсюда опасность эвдемонизма во всех его формах, с которым всегда приходилось бороться чистой этике, отсюда трудность постижения чистой этики вообще. Но этический ригоризм, взятый философски, т.е. методически, хочет сказать не что иное, как только следующее: что для систематической самостоятельности, если вообще существует этика, должна быть установлена чистая воля, которая, в силу своего значения как своеобразного основного направления сознания, производит свое содержание из своей собственной формы и тем самым претендует на обозначение «формализма» как почетного титула этики.111 Для того чтобы сохранить себя в чистоте, т. е. Чтобы сохранить себя чистой, т.е. чтобы сохранить свой независимый характер, мораль или чистая воля должна быть совершенно отделена от чувства, с которым она так тесно связана как воля вообще в общем первоначальном источнике сознания, этика как наука должна противопоставить всякому обоснованию, которое так или иначе хочет поставить ее в зависимость от течений чувства, самое резкое противоречие, независимо от того, упрекают ли ее поэтому в ригоризме, который в этом, методическом смысле она воспримет скорее как похвалу, чем как порицание.
Она вынуждена проявлять эту ригористическую сторону, если не хочет утратить все претензии на собственную обоснованность, позволить своей законности должного раствориться в законности долженствования, которая ей чужда, при условии, что субъективная игра инстинктов признается как имеющая вообще какую-либо психологическую законность. Ибо если желание и неудовольствие, если изменчивая игра одних только инстинктов управляет, то (по выражению платоновского» Филеба») животные являются такими же «хорошими свидетелями», и больше нет никакой этики, а есть только психологическое или, если хотите, физиологическое объяснение так называемых «моральных чувств». Конечно, – к этому мы вернемся позже – каждое моральное желание связано с чувством, будь то удовольствие или неудовольствие, будь то чувство власти или свободы,112 но оно не должно зависеть от него. Мы должны уметь волить «даже при самой острой душевной боли, которая не уравновешивается никаким противовесом настоящего, или вспоминаемого, или ожидаемого удовольствия»; не волить «даже там, где манит самое блаженное, нераскаянное удовольствие»,113 – если того требует нравственный закон. Последнего совершенно не касается в своей обоснованности и ценности весь вопрос об эвдемонизме или пессимизме. Пусть вычисляют, в чем заключается максимум ощущения удовольствия или неудовольствия и как его можно достичь, этику это совершенно не интересует. По сравнению с мягкостью и теплотой чувства, воля, конечно, кажется жесткой и холодной, именно там, где она проявляется наиболее энергично и чисто, имеет наименьшее чувство: аналогично истинам науки, когда они разрушают давно заветные любимые мечты. Говорят о горькой и жестокой правде, даже если это «чистая» правда; так же и о железной или грубой воле; о жестких или холодных, трезвых принципах. Но именно эти качества, заслужившие упрек в ригоризме, на самом деле являются лишь неизбежным следствием «критически ищущей и методически инициированной» науки, чистой и независимой этики. И поборники чувства, представители подлинного индивидуализма, должны быть благодарны этому принципу чистого разделения, в котором каждая часть сохраняет свое неограниченное право, свою полную «неразделенную» индивидуальность. Ведь благодаря разделению – только в методических целях и только на первых порах – несходного, предотвращается смешение, и теперь чистое чувство получает свободный путь для развития в своей сфере во всей своей теплоте, живости и близости.
С другой стороны, мораль должна резко отграничить свою территорию как от опыта, так и от чувства. Мы не хотим здесь вдаваться в систематическую связь и объяснять, как учение об опыте в его регулятивной кульминации в идеях не только делает этику возможной, но даже требует ее;114 мы хотим лишь кратко подчеркнуть различие этих двух точек зрения. Конечно, чистая воля носит цвет мысли, и всякое желание связано с познанием, как всякое познание связано с актом желания, но достаточно ясно, что естественное познание, как полагание того, что есть, и моральное желание, как полагание того, что должно быть, сами по себе различны. Даже если бы, например, владея мировой формулой духа Лапласа,115 мы могли заранее рассчитать все моральные поступки с такой астрономической точностью, как наступление солнечного или лунного затмения, этическая точка зрения не сошла бы тем самым с ума ни на волос, ибо ее сфера – не от мира сего, причинность свободы – не от природы, морального закона – не от естественного закона.
В этом случае моральные поступки рассматривались бы с точки зрения естественной причинности, вполне оправданной в своих пределах, и признавались бы в своем качестве естественных продуктов, но еще не оценивались бы по своей этической ценности. Вся моральная статистика мира не исчисляет морали,116 «потому что мы вовсе не поддаемся моральному исчислению, потому что мораль ведет иной счет, чем средний».117 Нравственная свобода и естественная необходимость несоизмеримы. Должна существовать чистая мораль, даже если она никогда не была найдена в опыте и никогда не будет найдена: этого требует этика как воплощение необходимой и вечной задачи, как осуществление идеи. И это идеальное требование признают почти все этики, как бы они теоретически ни сопротивлялись ему, иногда бессознательно, в конечном счете. «Ищите его, и если вы не можете найти его нигде в наглых объятиях необходимости – тогда практикуйте его!» Так современный представитель этики, представляющий себе эту науку как «единую теорию приводов с точки зрения детерминизма», пишет о справедливости, проистекающей из морального порядка мира; а этик, гораздо более далекий от критического идеализма, заявляет о своем полном согласии с этим «потрясающим предложением»118. Но содержит ли оно что-либо иное, кроме требования идеального мира должного, который, по общему признанию, существует в нашем сознании «только» как идея, как задача, как точка зрения, «которую мы видим себя вынужденными принять вне мира явлений», но которая, следовательно, обладает не меньшей реальностью, чем весь мир действительности? Таким образом, и по отношению к опыту пограничное различие этики должно быть резким, четким, непоколебимым. Однако это противоположное отношение чистой этики к эмпиризму, вероятно, больше подходит под термин «формализм», обоснованность и плодотворность которого мы пытались подробно объяснить в другом месте. Под термином ригоризм, с другой стороны, мы понимаем, вероятно, в соответствии с общим мнением, противопоставление чистой воли чувству желания. К ригоризму в этом смысле относятся следующие соображения, с которыми мы переходим к рассмотрению Кантом и Шиллером обсуждавшейся до сих пор проблемы.
2. Этот методологический смысл этического ригоризма встречается у Канта почти во всех отрывках, которые явно или скрыто критикуются как ригористические.
Как известно, первым этическим сочинением Канта критического периода – поскольку мы включаем в рассмотрение только его – является «GrundlegungzurMetaphysikderSitten». Оно представляет вновь найденные фундаментальные этические идеи, естественно, с первой, первозданной силой; с другой стороны, оно хочет подготовить понимание к «Критике практического разума», т.е. в определенной степени быть популярным. Через оба момента, через огонь первого энтузиазма в проповеди нового морального евангелия, а также через популярный характер письма, методико-систематический элемент легко мог бы быть отодвинут на задний план. Но что мы видим вместо этого? Уже первые страницы представляют методологический вопрос как отправную точку санированного расследования: «является ли природа науки» – ибо «обычный человеческий разум мыслит себя», как говорится в более позднем отрывке (с. 22 и далее), принцип «не является таким же, как природа науки» (с. 22 и далее прим. пер.), принцип «не разделяется в общей форме» – не требует, чтобы эмпирическая и рациональная части всегда были тщательно разделены», чтобы «знать, как много может достичь чистый разум в обоих случаях»; не было ли бы «крайне необходимо, особенно для моральной житейской мудрости, работать над чистой моральной философией, которая была бы полностью очищена от всего, что может быть только эмпирическим и принадлежит антропологии» (с. 5). Поэтому в предисловии ставится задача перенести деление на чистую и прикладную науку, принятое в школе Вольфа, на «совершенно новую область», этику,119 и – можно добавить – также в новом смысле. И как все предисловие служит почти исключительно для того, чтобы заострить это систематическое различие, так и весь текст, по сути, является лишь вариацией и дальнейшей разработкой этой темы; по крайней мере, это четко ощутимый лейтмотив, который звучит на протяжении всего текста.
Отсюда отличие практической любви, лежащей в воле, от патологической любви, лежащей в склонности чувства (с. 17.52 и далее), т.е. долга от склонности, формального принципа от материального начала (с. 18.93 и др.), разумного существа от человека (с. 28.49 и далее).), отсюда неоднократное подчеркивание необходимости «совершенно изолированной метафизики нравов наряду или, лучше, перед прикладной антропологией (с. 30 и далее), практической философии, занимающейся объективно-практическими законами долженствования, наряду и перед эмпирическим учением о душе, которое, в частности, исследует, на чем основано чувство удовольствия и неудовольствия (с. 51), противопоставление автономии и гетерономии (с. 58 и далее, 67 и далее, 74), противопоставление автономии и гетерономии (с. 58 и далее, 67 и далее, 74), противопоставление автономии и гетерономии (с. 58 и далее, 67 и далее, 74), 67 и далее, 74), свобода и зависимость, чистая воля, практикующая для себя, и чувственно пораженная воля (с.83 f.), отсюда, наконец, противопоставление человека как вещи в себе или чистого интеллекта человеку как внешности (p. 87 f.), которое, наконец, расширяется до идеи «интеллигибельного» или «чистого мира понимания», как «совокупности всех интеллектов» по отношению к миру чувств, в котором эмпирический интерес утихает 120– Методическая связь с точными науками выходит на первый план в сравнении чистой и прикладной этики с чистым и прикладным естествознанием (стр. 4 f.), математикой (с. 31), логикой (там же; ср. также Кр. д. р. В. 2-е изд. с. 79). В одном месте есть также явная отсылка к теоретической критике разума: «чистая воля» ведет себя по отношению к «чувственно пораженной воле» как ее высшее состояние «без опасности точно так же, как понятия понимания, которые сами по себе не означают ничего, кроме правовой формы вообще, добавляются к восприятиям чувственного мира и тем самым делают возможными синтетические предложения a priori, на которых основано все знание природы» (с. 84).
Если уже из «Grundlegung», как должны были показать эти ориентировочные размышления, то из основного систематизирующего сочинения, «Критики практического разума», естественно, еще больше проступает прежде всего методологический смысл этического ригоризма Канта. Действительно, здесь он проявляется настолько открыто, что мы можем быть достаточно краткими и остановиться лишь на некоторых моментах. Знаменательно, что именно те отрывки, которые звучат наиболее жестко и наиболее резко выражают противопоставление долга и склонности, находятся в «Примечаниях» к «Доктринам», где устанавливается формальный моральный закон или чистая воля против чувства, автономия против гетерономии, что они, таким образом, представляются прямым следствием формального метода: следствием, которое Кант объявляет «величайшей обязанностью философа» перед лицом «коалиционных систем» его «синкретического века», которые просто во всех седлах (с. 28). Формальный или трансцендентальный метод, однако, снова сравнивается здесь (ср. с. 113) с пунктуальностью математической демонстрации, как позже с «кропотливой» процедурой «геометра» (см. выше с. 376) или, тем более, «химика», который хочет сохранить чистоту обеих частей посредством своего принципа разделения – мы бы сказали сегодня: анализа (ср. внешнюю часть с. 112, особенно также заключение работы). Насколько открыто и категорично чувство, даже в его самых тонких и благородных формах, отвергается как основание для решимости, да еще с мотивом, что оно препятствует возможности морального закона, а значит, и этики как науки, слишком хорошо известно, чтобы мы нуждались в доказательствах. С другой стороны, против обвинения в излишнем ригоризме нам кажется уместным заявить следующее:
Там, где чувство не хочет быть причиной определения, не хочет вмешиваться в дело определения долга, где поэтому опускается методическая точка зрения чистоты, оно вовсе не исключается.
Чистота, она ни в коем случае не исключается, но – в своей конечной обусловленности – прямо признается.
«Быть счастливым – это обязательно желание каждого рационального, но конечного существа, а значит, неизбежная детерминанта его способности к желанию», удовлетворение … «проблема, навязанная ему самой его конечной природой, поскольку оно нуждается» (с. 29). И «наше благо и горе в оценке нашего практического разума зависит очень от многого, и, насколько это касается нашей природы как чувственных существ, все зависит от нашего счастья», хотя «все вообще от него не зависит». «Человек – существо нуждающееся, поскольку он принадлежит к миру чувств, и в той мере, в какой его разум имеет, конечно, беспрепятственное поручение со стороны чувственности заботиться об интересах последней и устанавливать для себя практические максимы, также в целях счастья этой и, по возможности, будущей жизни (!) – о чем несколько слов позже, по случаю постулатов! – «Но это все-таки не совсем Тьер (с. 74). Да, это даже «принадлежит» «долгу», чтобы найти и культивировать чувство самоудовлетворения после выполненного долга, «которое действительно одно заслуживает того, чтобы называться нравственным чувством»; но «понятие долга не должно быть выведено из него» (с. 47). Следовательно, и «это различие принципа счастья и принципа морали не есть сразу противопоставление обоих, и чистый практический разум не хочет, чтобы человек отказывался от притязаний на счастье, а только, как только заходит речь о долге, вообще не принимал его в расчет». Да, «в некоторых отношениях это может даже стать «долгом» – «обеспечивать свое счастье»» (с. 113). – Свободная воля должна позволять себе определяться законом «с разрывом всех склонностей», но только «в той мере, в какой они могут противоречить этому закону» (с. 88).
Только самодовольство должно быть подавлено, но не самолюбие, которое скорее «как естественное и все еще действующее в нас до морального закона» должно быть ограничено «условием согласия с этим законом», чтобы таким образом стать «разумным самолюбием» (с. 89). Так возникает одновременно унижающее и возвышающее, вызывающее удовольствие и неудовольствие двойное чувство уважения, выдающееся систематическое значение которого не может быть объяснено здесь, но будет затронуто позже, когда будет обсуждаться связь этики с эстетикой. Понятие «свободного самопринуждения», вытекающее из принципа автономии, также может быть затронуто лишь в этой связи. Здесь мы были озабочены лишь тем, чтобы установить существующее у Канта противопоставление морали чувству, с одной стороны, и оправдание последнего в его области, с другой. Мы завершаем эти свидетельства из «Критики практического разума», которые, как мы надеемся, уже сами по себе, даже без комментария, дали ясную картину вопроса, любопытным отрывком (с. 107), взятым из заключения раздела «О движущих силах чистого практического разума», который еще раз ярко освещает противоположности и вместе с тем снова открывает перспективу возможности сотрудничества в самом широком смысле: Долг и наслаждение жизнью объявляются несоизмеримыми. «Благородство долга не имеет ничего общего с наслаждением жизнью; у него свой особый закон, свое особое суждение, и если бы даже захотелось как можно сильнее взболтать эти два понятия вместе, чтобы дать их смешанными, как лекарство, больной душе, то они скоро отделятся друг от друга.
И все же «так много прелестей и удовольствий жизни можно связать с этой главной пружиной (веревка, долг), что ради нее одной даже самый мудрый выбор здравомыслящего эпикурата, думающего о величайшем благе жизни, объявит себя в пользу нравственно хорошего поведения», и «также может быть целесообразно связать эту перспективу счастливого наслаждения жизнью с этой высшей и уже самой по себе достаточно определяющей причиной движения»; признается, что «только для того, чтобы уравновесить влечения, которые порок не преминул представить на противоположной стороне, а не для того, чтобы найти в этом действительную движущую силу…», что скорее означает «загрязнение нравственного отношения в его источнике».
Итак, во всех этих отрывках, которые не просто встречаются позже и могли бы означать последующее примирение с эвдемонизмом, но которые появляются с самого начала и, как мы видели, частично в самой тесной связи с «ригористическими» предложениями, Кант тщательно приспосабливает обоснованное чувство, т.е. чувство, в той мере, в какой оно не хочет быть детерминированным, не хочет составлять чистую этику.
Через пять лет после публикации «Практической критики разума» Кант снова воспользовался возможностью высказаться по тому же основному этическому вопросу, который был близок его сердцу, в трактате, который уже своим названием выдает его методический характер: «UeberdenGemeinspruch: DasmaginderTheorierichtigsein, taugtaberfürdiePraxisnicht». Первый раздел этого трактата, направленный против различия, пронизывающего философию со времен Аристотеля, бессистемен и ложно обозначен как антитезис:







