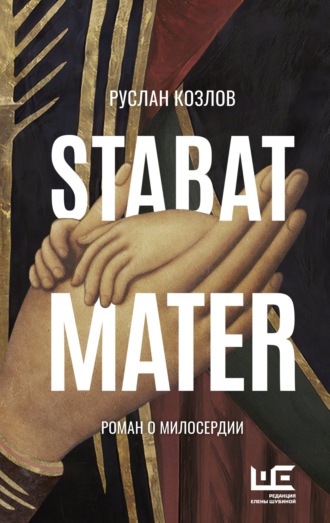
Руслан Козлов
Stabat Mater
Я надеваю очки и долго смотрю на Веронику. Она не отводит глаз, но в них появляется недоумение. Она как будто удивлена, что я смог решиться на такой взгляд. Да я и сам удивлен не меньше.
– Как странно, – говорю я. – Мы уже откладываем что-то на потом. Значит, у нас может быть какое-нибудь «потом»?
– Не знаю, – медленно говорит Вероника. – Как пойдет…
На меня вдруг накатывает такая усталость, что впору лечь прямо на пол и спать. Смотрю на часы. Без четверти два.
– Можешь тут остаться, – говорит Вероника. – Если не боишься… Ах да, ты не боишься… Спи на моем матрасе. Я пойду покемарю в дежурку. А утром тебя выведу.
– Спасибо, – я пытаюсь улыбнуться, но сил хватает только на кислую гримасу.
Вероника поднимается с матраса, а я сразу сажусь на него, будто только этого и ждал. Ноги не держат совсем. Слишком много для одного дня, слишком много для одного разговора…
Вероника поворачивается, чтобы уйти. А мне вдруг становится обидно за себя, за то, что я такой… такой никакой. И хочется поблагодарить ее, сказать ей что-то на прощание.
– Вероника, – окликаю я ее.
– Что? – Она останавливается, но не оборачивается и как будто напряженно ждет чего-то.
– Побудь еще минуту.
– Зачем?
– Я тебе стихи почитаю.
– Стихи? – В ее голосе появляется растерянность.
– Ну да, стихи, – говорю я. – Чего ты так напряглась? Теперь уже я не предлагаю ничего страшного. Просто стихи.
– Ну почитай…
Она так и не оборачивается, и мне ничего не остается, как читать ей в спину:
Умирал весенний день, и просил он Бога:
Жизнь короткую мою Ты продли немного!
Я работал, не ленясь, для весны-хозяйки —
Первоцветы рассыпал по полям-лужайкам,
Плавил снег, и гнал ручьи, и будил деревья,
Направлял к родным местам журавлей кочевья…
Боже, смилуйся! Теперь ждет меня свиданье
С Ночью – суженой моей – встреча и прощанье.
В долгих сумерках позволь нам продлить объятья,
Наготу ее не прячь Ты под звездным платьем…
Знаю, так уж суждено, Боже милосердный, —
Ложе брачное мое станет ложем смертным.
Но угаснуть без тоски не смогу я, Боже, —
Сердце любящее мне ревность жжет и гложет.
Ведь едва начнет заря в небе заниматься,
Ночь моя другому дню будет отдаваться…
Вероника долго молчит и все не оборачивается. В слабом свете телефона я вижу только ее размытый силуэт. Наконец она тихо говорит:
– И что это было?
Не могу понять – она сердится?
– Господи, да говорю же, ничего. Просто стихи.
– А чьи?
– Мои. Сегодня утром сочинил… Прости – конечно, сырые еще…
Она опять долго молчит, потом произносит:
– Поздно уже, – и идет к двери, так и не оглянувшись, унося голубой ореол телефонного света.
Я нахожу на полу пальто, чтобы укрыться им, и как сноп валюсь на матрас. Сил нет даже разуться.
Скрипит и бухает дверь, и я остаюсь один.
На грани гаснущего сознания мерцает мысль, что надо было помочь Веронике справиться с тяжелой дверью… Потом вплывают уже совсем сонные мысли про какие-то ключи от какой-то важной двери и накатывает удивление, что они сейчас почему-то оказались у Вероники и что я вроде как избранный, допущенный в это чудесное место, в котором так темно и тихо и так похоже на блаженное предвечное небытие, где не было ни страха, ни боли…
Потом в темноте загораются свечи. Их ряды как огни взлетной полосы. Я стою в начале длинной прямой галереи. В слабом мерцании свечей можно разглядеть справа и слева ряды колонн, уходящих вдаль и вверх, в темноту – не то к невидимому потолку, не то к непроглядно-черному небу. Мимо меня идут люди – все в одном направлении, вперед по галерее. Одеты они странно: кто в тулупах, кто в футболках, а кто и вовсе в пижамах. Я вижу, что на мне – мое потрепанное пальто, наброшенное на плечи, а под ним – голубая медицинская роба. Меня это ничуть не смущает. Наоборот, я уверен, что одет как надо.
Люди, обгоняющие меня, спешат, почти бегут, и удивленно оглядываются – почему я стою?
«Метро, – думаю я. – Это толпа в метро».
Я не хочу бежать со всеми, но, едва делаю шаг, людской поток подхватывает меня, заражает торопливым движением, и вот я уже стараюсь не отстать от других. Теперь я понимаю: нас гонит вперед не обычная будничная спешка, а волнение и страх. Все хотят, чтобы что-то поскорее прояснилось, определилось, решилось…
Свечи мелькают справа и слева в просветах толпы. Маячат впереди чьи-то спины. От быстрой ходьбы и волнения сбивается дыхание, колотится сердце, но я успокаиваю себя, говорю себе: там, куда мы идем, я смогу вести себя правильно, не растеряюсь и не оплошаю.
Колонны галереи разбегаются в стороны, превращаются в колоннаду большого зала, заполненного людьми. Мы спускаемся в него по широкой лестнице. Здесь намного светлее, видно, как людское море колышется от края до края зала. Пришедшие вместе со мной беспокойно оглядываются, пытаются понять – где встать, что делать, чего ждать.
Я смотрю вверх и вижу белый купол, накрывающий зал. В его высшей точке – круглое отверстие, и оттуда, прорезая сумрак, падает столп света и упирается в белые плиты пола. Это световое пятно горит нестерпимо ярко. Люди сторонятся его, стараются уйти в тень, слиться с толпой. Мне жалок и неприятен их страх, и я понимаю, что тоже готов поддаться ему.
И вдруг я слышу голос – веселый, смелый, каким я старался говорить с Вероникой, – и понимаю, что это мой голос, мой новый голос, и я говорю себе:
– Ну вот что! В конце концов, это мой сон, и я могу делать что хочу!
И как только я произношу это, сразу становлюсь всемогущим, неуязвимым, бесстрашным. Какое это счастье! Какое освобождение! И как просто – всего лишь догадаться, что это мой сон!
Немедля я шагаю вперед и встаю прямо в луч кипящего света. Я больше не вижу и не слышу никого вокруг, но понимаю, что толпа затаилась и ждет. Потом угадываю в толпе новое движение. Ко мне идет человек в длинной рясе. Сначала мне кажется, что это отец Глеб, и меня на миг охватывает паника: что, если он потребует от меня исповеди, и все эти люди будут слушать!.. Но подошедший оказывается незнакомым мужчиной – молодым, розовощеким и белобрысым настолько, что его можно назвать альбиносом. Его короткие белые волосы, белые брови и белая поросль на щеках ярко вспыхивают, как только он оказывается вместе со мной в луче света. В звенящей тишине альбинос смотрит на меня прозрачно-голубыми глазами.
Я спокойно жду. Я знаю, что он скажет.
– Надо просить прощения, – тихо говорит альбинос.
Это звучит не как приказ, скорее – как вежливая подсказка. И теперь мне нужно выбрать правильный тон, чтобы ответить. Мой голос не должен звучать ни надменно, ни дерзко, ни гордо. Но и робких, просительных нот в нем быть не должно. Пожалуй, лучше всего говорить так, будто я доверяю близкому человеку что-то важное, ценное.
Я знаю, что нас напряженно слушают сотни ушей, но мне нужно об этом забыть. Это мое дело и мой разговор.
– Я пришел сюда не для того, чтобы просить прощения. Я пришел, чтобы простить.
Ну вот, я сказал что хотел, и мой голос, кажется, прозвучал как надо. Но альбинос продолжает смотреть, будто ждет продолжения. И по мере того, как я молчу, его глаза становятся печальными.
– Ну что ж, – говорит он наконец. – Простить – это доброе намерение, это и вправду важно… Но есть одно затруднение. Ты сейчас сам все придумываешь и говоришь сам с собой. Ты боишься довериться. Так ничего не получится.
Он поднимает свою белую альбиносью руку и заслоняется от света. На его покатом лбу я вижу капельки пота. Солнечный луч и правда обжигающе жарок…
Мне становится не по себе. Облегчение сменяется тревогой. Как я ни старался, я все-таки, видимо, был дерзок… И все эти люди – что они обо мне подумают? Простят ли мое высокомерие?.. Но главное – альбинос прав. Я не смогу сам все придумать и сам все решить. Надо перестать тут командовать! Но мне так страшно выпустить этот сон – такой важный сон – из-под контроля!.. Да и что теперь делать? Сказать: «Ну, ладно, простите меня, раз так. Научите, как быть»? Глупо, стыдно!.. Нет, я все испортил!
Но альбинос еще стоит передо мной, и его глаза полны сочувствия.
– Знаешь что, – говорит он, – попробуй не быть таким угрюмым.
Что? Угрюмым? Не быть угрюмым?.. Я едва сдерживаю стон разочарования. Вот так откровение! Да этот белобрысый просто ничего не знает обо мне, о моей жизни! Вообще не знает, что у нас творится!..
– А насчет прощения, – продолжает он так же негромко. – Ты пока не берись за такие трудные вещи. Начни с малого, а там уж… Как пойдет…
Глаза альбиноса под белыми ресницами улыбаются. Кажется, он вот-вот подмигнет мне. Но он отступает из солнечного круга, поворачивается и идет прочь.
Толпа приходит в движение. По ней проносится вздох облегчения – уф, все не так уж страшно!
Альбинос удаляется по людскому коридору, и, мне кажется, он уходит торопливо, словно боится, что я еще что-нибудь скажу или что-то еще произойдет и испортит сделанное.
4 апреля. Суббота акафиста
Иеромонах Глеб
Легкой жизни я просил у Бога,
Легкой смерти надо бы просить…
Ну как же я забываю узнать, чьи это строки! Они часто приходят мне в голову. Вот и отец одной из наших девочек вчера вспомнил их, а потом сказал: «Как это жестоко!» А я по инерции подумал: «Почему жестоко? Как можно не понимать такие простые и мудрые вещи!..» Но сразу обожгло: для кого просить?! Если для себя, то конечно – это и мудро, и смиренно… Но они давно уже ничего для себя не просят. Все молитвы – о детях. И вот молить о смерти, когда она и так рядом – за дверью или уже у изголовья, только позови – хоть шепотом, хоть мысленно!.. Молиться о смерти своего ребенка как о великой милости!.. Что же это, Господи, пришло в наш мир! Что это, если не скорбь последних дней, которую Ты предрекал. И вот оно, средоточие этой скорби – мой хоспис на ощетинившемся черными елками холме, посреди нервного, издерганного города, который боязливо отодвинулся от него, отгородился суетой, гвалтом, пустыми дрязгами, мелкими проблемами, отгородился от чужого горя, не желая признавать его своим, нашим горем… Кажется, город готов окружить хоспис колючей проволокой, объявить запретной зоной…
В одном черном-черном лесу стоит черный-черный замок, по его черным-черным коридорам ходит черная-черная беда… Но, Господи, почему я лечу туда как на крыльях? Ведь мне и больно, и страшно, и это не притупляется и всегда ранит по-новому. Потому что не бывает двух одинаковых страданий, двух одинаковых ожиданий смерти. И нет одинаковых, готовых, безотказных утешающих слов. И, входя в палату, никогда не знаешь, с чем столкнешься и что от тебя потребуется сегодня…
Но тогда – почему? Почему каждый раз, когда я вынужден отлучиться отсюда, во мне включается хронометр: вот час прошел, полтора… Уж я стараюсь спланировать все дела, продумать все маршруты по городу, чтобы не терять ни минуты, избегаю всего, что может меня задержать, отмахиваюсь почти грубо от случайно встреченных знакомых, говорю телеграфным стилем… Вот пару дней назад сокурсник по академии стал рассказывать о поездке в Святую землю, о том, как его в числе немногих допустили в крипты храма Гроба Господня, и там – уму непостижимо! – он держал в руках и прикладывался… Ох как он посмотрел, когда я не стал слушать, к чему он прикладывался! С каким выражением пробормотал: «Ну, Господь с тобой!..» Так, наверное, инквизитор мог отшатнуться от безнадежного еретика. Кажется, и руку поднял, чтобы откреститься от меня, как от одержимого, да я уже повернулся и побежал…
А может, и правда?.. Ну не одержимый, конечно… Блаженный?.. Нет, нельзя так о себе!.. Но как объяснить и кто поверит, что я не упиваюсь своей праведностью, не лезу в подвижники, не истязаюсь аскезой, не хочу казаться героем. Просто здесь и больше нигде – моя жизнь, мой дом, моя Святая земля… И все-таки – почему? Почему каждый день ни свет ни заря меня будто тормошит кто-то: скорей, скорей – в черные коридоры, в сырой сквознячный храм, скорей – к этим заплаканным глазам, и дрожащим губам, и горьким словам, потоки которых я силюсь остановить, как кровь из вскрытых вен!..
Вчера поймал себя на том, что к диссертации по апологетике не возвращался уже год. А в последнее время даже утреннее правило сократил до неприличия. А уж вечернее… Какое там правило! Валюсь на кровать, едва успев сказать «Господи, помилуй…». Это удача, что я снял квартиру в пяти минутах ходьбы от хосписа, а то уж думал спать в ризнице… И самое главное, самое невероятное – мне не нужно мучительно подбирать слова утешения. Это тепло – утешающее тепло – оно наполняет меня извне, и остается лишь направить его на других. Во мне самом его не может быть столько!.. А уходя из хосписа, я как будто теряю этот теплый источник и просто не могу жить в том холоде и равнодушии, которыми город заслоняется от нашего Елового холма.
Любой сочтет меня безумным, если попробую объяснить, что сюда, в этот черный замок, счастье заглядывает чаще, чем в богатые и благополучные дома…
«Отец Глеб! Какое счастье! Сегодня Сонечка съела всю кашу! И с таким аппетитом!..» И – слезы на глазах, настоящие слезы радости!.. Она сумасшедшая, эта мамаша? Она забыла, что никто не выживает?.. Ну а мы все? Разве мы неумолимо и безжалостно не движемся к смерти? Кому сколько осталось – сорок лет или сорок секунд? Никто не знает и, к счастью, не может знать… Пусть через полчаса Соне станет плохо, но есть еще целых полчаса радости и надежды! И, выходит, это мы – сумасшедшие, мы – ненормальные, потому что не используем каждую минуту для радости, не умеем, как Сонина мама, высекать искру счастья из всего, раздувать и беречь ее от наползающей тьмы!
…Соня умерла вчера ночью. Господь не дал ей легкой смерти.
Утром Сонина мама шла по коридору, скользя плечом по стене и держа в ладонях плошку, до краев полную молочной рисовой каши. Зачем-то она несла эту кашу в столовую. Может быть, с каким-то женским, хозяйским автоматизмом хотела вернуть ее на кухню, чтобы каша не пропала… Меня она не видела. Никого не видела. И все было так, будто никогда уже к ней не вернется способность радоваться… Но… Таков уж мой дом, и другого мне не дано, и не стану я искать другой.
Дождь… Второй день то моросит, то льет без просвета. С елок сползает последний снег. На дорожке, ведущей к хоспису, – тонкий слой текущей воды. В нем дробятся и морщатся желтые блики фонарей… Почему я опять не взял зонт? Какая глупость – я стесняюсь с ним ходить. Почему-то кажется, что батюшка под зонтиком – это комично. А промокший батюшка – не комично?.. Полшестого утра! Кто меня вообще видел, пока я шел от дома до хосписа? Все ранние пешеходы потянулись налево, к метро, я один потопал сюда, направо… Точнее – пошлепал… Эх, носили ведь раньше галоши – как удобно! Где их теперь найти? Почему не делают? Поп в галошах – то что надо!.. И ботинки по-настоящему непромокаемые не купишь. Хлюпает в ботинках немилосердно!.. Ох, хляби горние, пути дольние…
Над головой – будто свод угольной штольни, и тучи угловато торчат из него, как пласты черной породы… Отец, горный инженер, брал меня на шахту… Хотя надо, конечно, говорить «в шахту», но у нас было только так – «на шахту». Отец хотел увлечь меня героикой шахтерского труда, оттащить от «глупых книжек про святых». Помню, отцу даже крепко влетело, когда кто-то из начальства увидел меня в забое… Мне нравилось на шахте. Нравился адский грохот и жуткая силища проходческого комбайна, дробящего пласты. Нравилось ощущение надежной каски на голове и послушный луч фонаря, рассекающий пыль и пар перед лицом. Нравились одобрительные тычки, которыми награждали меня забойщики. Нравилось, что на шахте все звали отца Михалычем, – даже те, кто был намного старше его. А больше всего нравилась гордость отца за свою работу: смотри, сын, как могуч человек, научившийся брать из-под земли тепло и свет для своих городов!.. А для меня не было лучшего доказательства бытия Божия – вот как Он изобретателен, вот сколько всего придумал для выживания человека – даже этот удивительный горючий черный камень!.. Видел бы отец меня, спешащего сейчас «на приход», как он спешил каждое утро «на шахту»… Господи, спасибо за то, что даровал мне хороших родителей!.. Или – меня им?.. Спасибо за то, что помог отцу в конце концов понять, поверить, что этот выбор был сделан не мной, но совершен обо мне и что, если бы я противился ему, стал бы самым несчастным человеком и, наверное, вовсе погиб…
И вот… Теперь я должен все перечеркнуть и спуститься в такую шахту, в такую бездну, из которой, наверное, и выхода мне не будет…
Данте, которым я зачитывался когда-то, описал самый глубокий круг ада, уготованный для предателей. И в самой последней яме этого круга – место для грешников, предавших своих учителей. Иуда Искариот, например, – там… Вот и я туда, похоже, мечу, потому что собираюсь предать того, кто был мне ближе и дороже всех – своего учителя. Конечно, он теперь – совсем другой. Путь от провинциального игумена до Святейшего Владыки измотал и опустошил его настолько, что даже внешне он стал едва узнаваем. И радость, которой он весь лучился когда-то, ссохлась до вымученной официальной улыбки. Да и я, само собой, не тот восторженный мальчишка-келейник, которого он ввел в Храм, которого спасал и ограждал с великой деликатностью от неофитских заблуждений и которого, чего греха таить, протащил вверх по служебной лестнице, перескакивая через целые пролеты… Он был для меня настоящим духовником. В монастыре на берегу Тобола, где он приютил меня и стал готовить к постригу, мы говорили часами. Каждый день я спешил к нему в радости или в терзаниях, и всегда у него находилось для меня слово – единственно верное, единственно нужное… Почему же мы, когда-то дышавшие одним воздухом, шедшие одной дорогой, служившие одной истине, стали чужими?.. Теперь мы видимся редко. Трижды за последнее время он отказывал мне в аудиенции. Мне лишь передают его слова, сказанные в мой адрес, всегда полные раздражения… И все равно ничто не страшит меня так, как это неизбежное предательство, – ни грозящие мне кары, ни конец моей священнической жизни, ни даже то, что я потеряю этот приход, без которого уже не мыслю себя…
На минуту останавливаюсь, поднимаю голову, пытаюсь разглядеть что-нибудь в просветах туч. Но нет просветов. Тучи ползут сплошной черной лавой… Господи, укрепи!.. В чем укрепи? В том, чтобы нанести удар в спину? И пусть мое дело – тысячу раз правое, и оно не может быть неправым, все равно, как бы я ни поступил, стану предателем. Выскажусь – предам учителя. Промолчу – предам все, во что верю… Кто из Святых Отцов сказал «молчанием предается Бог»? Кажется, Григорий Богослов?.. Так что выбора на самом деле нет. «Что делаешь, делай скорее». Что ж, и правда, хватит медлить, пусть все начнется сегодня! Все готово, только нажать клавишу ноутбука – как просто!..
Конечно, можно избежать предательства и, по крайней мере, не втыкать нож в спину – выступить от своего имени где-то на стороне, на другом сайте, в другом издании. Но сила воздействия будет несопоставима. Одно дело – протест одинокого иеромонаха, глас вопиющего в пустыне, и совсем другое – позиция Церкви, которая прозвучит с сайта Патриархии. И пусть они потом ищут оправдания, чтобы откреститься от этой позиции! И, возможно, мой отчаянный шаг всколыхнет здоровые силы в Церкви и кто-то решится поддержать меня… Вот она, самая заветная моя надежда – надежда на то, что мы еще не превратились окончательно в легион соглашателей и сможем быть теми, кем призваны быть – совестью бессовестного мира, моральным противовесом аморальной власти…
Но какой же все-таки молодец этот Иван Николаевич, этот пугливый, тщедушный человечек! Как цельно и крепко выточен его текст о закрытии хосписов – как скальпель, как острая фреза. Горькие, резкие, язвящие слова, и на каждом – отсвет его собственной живой совести… Нет, это поразительно – как иногда не сочетаются в людях их слабые, несовершенные сущности и сила данных им талантов! Неужели и впрямь эти дары даются слепо, случайно… Эх, Иван Николаевич, цены ты себе не знаешь!
…С козырька над входом льет водопад. Проскочить можно лишь с разбега. Только повыше подобрать подрясник и пальто… Бабах!.. Вот это да! Как раз когда я прыгнул на крыльцо, в небе сверкнуло, шарахнуло и раскатилось над городом канонадой. Вот такая ранняя гроза – к чему это? Пора строить ковчег?.. Эх, все равно не успеть!.. Как там у Пушкина?..
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы…
И сразу:
Гром гремит, земля трясется,
Поп без зонтика несется!..
В коридоре на полу, привалившись к стене, сидит Лёня. Голова у него забинтована. На ногах без тапок – носки разного цвета.
– Лёня, что случилось?
– Рита… – Он показывает глазами на дверь процедурной, напротив которой сидит.
– Что – Рита?..
– Кровь у нее пошла. Ночью, когда спала. Дина на контроль заходила, увидела…
– А у тебя почему голова опять в бинтах?
– Да фигня. Швы разошлись.
Дверь процедурной открывается, выходит старшая сестра Дина Маратовна. Лёня, цепляясь за стену, встает, делает шаг ей навстречу.
Дина Маратовна бросает на него быстрый взгляд, непонятный для меня, – полный гнева и даже презрения. Потом поворачивается ко мне и говорит:
– Ничего. Купировали. Сейчас в палату отвезем… А ты… – Она упирает палец Лене в грудь. – С тобой мы потом разберемся, сволочь такая…
Я удивленно смотрю на Дину Маратовну. В первый раз слышу, чтобы здесь так разговаривали с детьми. Дина Маратовна перехватывает мой взгляд и говорит с досадой:
– Глеб Денисович, вы не представляете, что творит этот гад… Цыц! Я все знаю! – поворачивается она опять к Лёне. – Вчера вас с Риткой охрана целый час по крышам и чердакам вылавливала. Приключений захотели? Вот вам приключение! – Она показывает пальцем на дверь процедурной. – Доволен теперь?.. А башку свою дурную ты где опять раскроил?.. Все! Чердак забили, так и знай!.. А увидят тебя на пожарной лестнице еще хоть раз…
– Домой отправят… – тихо, мечтательно говорит Лёня.
– Нет, вы поглядите, он еще ухмыляется! – Дина Маратовна в отчаянии смотрит на меня: – Глеб Денисович, вы хоть с ним поговорите! Это невозможно уже! Это террор какой-то!..
В коридор на каталке вывозят Риту. Лицо у нее серо-белое, как плохая мука. Она слабо улыбается, облизывает бледные губы и говорит, глядя на Лёню:
– Ны… ны… ны… нормально уже…
Каталку толкает Вероника. Она смотрит на Лёню сердито, хочет ему что-то сказать, но лишь укоризненно качает головой. На меня не глядит совсем, будто не замечает. Разворачивает каталку и везет по коридору. Долговязый Лёня плетется рядом…
Я оборачиваюсь к Дине Маратовне:
– Какая у Риты группа? Я могу сдать кровь.
Она машет руками:
– Да что вы, что вы! У нас сейчас все есть: и кровь, и плазма, и препараты, вообще все… Спасибо Алеше!..
– Спасибо Алеше, – повторяю я.
Уже не раз я слышал здесь эти слова – «спасибо Алеше». Не Алешиной маме – вице-премьерше, завалившей хоспис лекарствами и оборудованием, а самому Алеше – тихому восьмилетнему мальчику из отдельной палаты на первом этаже.
– Глеб Денисович, зайдите к нему, – просительно говорит Дина Маратовна. – Всю ночь вас звал… Сможете?
– Да-да, конечно. Только переоденусь.
Дина Маратовна собирается уйти, но я останавливаю ее:
– Как там Зорин?
– Дома еще, на карантине, – вздыхает она. – Грипп у него был какой-то страшный… Тяжко без него, скорей бы вышел!
…Уже дойдя до галереи, ведущей к храму, я слышу скрежет и лязг в дальнем конце коридора. До меня доносятся негромкие сердитые голоса. Иду туда и вижу, что Вероника и Лёня воюют с лифтом – его двери не желают закрываться. Каталка с Ритой стоит в лифте, Вероника тянется через нее, отчаянно тычет кнопку, а Лёня пытается толкнуть перекосившуюся дверь.
– Лёнька! – шипит Вероника. – Какого… Какого лешего ты эту дверь трогал!
– Каталка торчала, не закрылась бы! – оправдывается Лёня.
– Вечно с тобой все через одно место! Беда ходячая!.. Толкай давай!
– Да, блин, застряла же!..
Я подхожу к лифту, пытаюсь понять, что с дверью.
– Лёня, пусти-ка, я посмотрю.
Лёня отходит в сторону. Войдя в лифт, я вижу, что верхний ролик выскочил из паза. Приподнимаю дверь, ставлю на место и говорю Веронике:
– Ну-ка, попробуйте теперь.
Вероника тычет кнопку, двери смыкаются, и лифт ползет вверх.
– Сэ… сэ… спасибо! – шепчет Рита.
Я беру ее руку и тихонько пожимаю. Рука у Риты влажная, вялая, как тряпочка. Поднимаю глаза и вижу, что Вероника пристально смотрит на меня из угла лифта. Она не отводит глаз, пока лифт не останавливается на втором этаже.
Лёня уже здесь. Он пробежал два пролета лестницы, но выглядит так, словно одолел марафон – кашляет, хрипит, согнувшись пополам и уперев руки в колени.
– Ну ты че… чего, дурила! – говорит ему Рита.
– Отец Глеб, а как вас раньше звали? – Алеша смотрит на меня своими прозрачными, бесцветными глазами. – Я же знаю, что священникам дают другое имя.
– Не всем, – говорю я. – Только тем, которые становятся монахами.
– А вы, значит, монах… – говорит Алеша. – Какое же ваше старое имя?
– Константин.
– А Дина Маратовна называет вас Глеб Денисович. Так можно?
– Она спросила, как мое отчество, я сказал… Ничего, можно, конечно… Знаешь, как раньше говорили: хоть горшком назови, только в печку не ставь…
Алеша слабо улыбается, прикрыв веки. Он весь кажется прозрачным – почти как трубка капельницы, которая тянется ему под ключицу. В трубке капает лекарство. Алеша скоро уснет. У всех детей с СГД нарушается цикл сна и бодрствования – они спят часто и помалу, а на поздних стадиях болезни совсем перестают спать без снотворного.
– У нас будет фейерверк на Пасху? – спрашивает Алеша.
– Нет, – говорю я растерянно.
– А на Новый год был, – вздыхает он. – Такой красивый… Это мама для нас прислала. Хотите, я напишу ей, и она еще пришлет, на Пасху…
– Алеша, – говорю я, – на Пасху не делают фейерверк. Это для других праздников.
– Почему? – огорченно говорит Алеша. – Разве Пасха грустнее других праздников?
– Гм… Нет, Пасха – радостный праздник. Просто есть такие вещи – традиции. Это как бы правила – что делают и чего не делают.
– А-а-а, – разочарованно тянет Алеша. – Значит, на Пасху другая традиция…
Я стараюсь не показать, что спешу, хотя уже ерзаю на стуле. Мне пора идти в храм, начинать службу… Алеша не засыпает, только глаза покраснели и блестят. Он долго молчит, смотрит в окно, за которым небо едва начинает сереть.
– Ангел сказал, что я скоро умру.
Он переводит взгляд на меня, с волнением ждет.
– А что именно сказал ангел? – осторожно спрашиваю я.
– Сказал, что я должен приготовиться. Еще сказал: отец Глеб знает, что нужно делать… Я не боюсь, там – ангел… Он ведь там, правда?
Я киваю, а сам лихорадочно пытаюсь придумать, как повернуть этот разговор.
– Вчера у меня был приступ, – продолжает Алеша. – Я догадался, что он начинается, и нажал на звонок, потому что не хотел сразу беспокоить ангела. Пришла Вероника и сидела со мной, и мне было не больно. Вероника знает слова. Она хорошо умеет разговаривать с болью, боль ее слушается. Может быть, эти слова – как молитвы. Но Вероника не хочет говорить… Потом я закрыл глаза и сразу увидел, что ангел здесь. Он подошел совсем близко и посмотрел на монитор – как доктор на обходе. Раньше он так не делал. Потом покачал головой, вот так, – Алеша слабо качает головой, не отрывая ее от подушки. – И приложил руку мне к губам и так подержал, я не знаю зачем. Пальцы у него мягкие и горячие, я хорошо запомнил… Теперь, если он дотронется до меня, я сразу пойму, что это он. – Алеша тяжело вздыхает. – Я про другое боюсь. Неужели мама не придет? Я ее не увижу?.. Нужно, чтобы кто-то ее позвал. Меня она не слушает, я много раз просил… А вас послушает. Расскажите ей про ангела и что он сказал про меня!
Алеша говорит негромко, но требовательно, почти приказывает. И вдруг замолкает, его глаза наполняются слезами, он закрывает их прозрачными пальцами, выдавливает на щеки два прозрачных ручейка…
– Алеша, – говорю я и трогаю его за плечо. – Алеша, послушай… Я постараюсь поговорить с твоей мамой. Но, наверное, она и правда очень, очень занята… А насчет того, что сказал ангел… Тут все может быть совсем не так. Конечно, ангелы никогда не лгут, но, понимаешь, они ведь не такие, как мы. Они бессмертные, живут миллион лет или даже больше. И время для них – другое. Если ангел говорит «скоро», это, может быть, лет через сто по нашему времени, а для него это все равно скоро…
Алеша перестает плакать, открывает глаза. Я вижу, что он старается ухватиться за эту спасительную мысль.
– А какие тогда у ангелов часы? – спрашивает он. – У них, что ли, вместо минут года?
– Нет, – говорю я. – У ангелов нет часов. Но если бы и были, то вместо минут там, наверное, должны быть целые века.
– А-а, об этом я не подумал. – Лицо Алеши светлеет. – Когда в следующий раз увижу ангела, спрошу, сколько ему лет…
У Алеши уже целая история отношений с его ангелом. Не так давно Алеша плакал два дня подряд, потому что забыл волшебное слово, избавляющее от боли, – слово, которое открыл ему ангел. Он бы, наверное, и сейчас сокрушался об этом, если бы ангел в одном из следующих снов не шепнул ему, что откроет это слово всем. И теперь Алеша ждет, когда это случится.
В вольере просыпается и начинает возиться щенок. Слышно, как он поскуливает, топочет, лакает воду из миски.
– Отец Глеб, дайте мне Бублика, – просит Алеша.
Я достаю щенка из вольера и кладу на кровать к Алеше. Щенок сразу пристраивается у него под боком, блаженно жмурится.
Имя для него мы придумывали вместе. Алеше почему-то казалось, что в яслях, где родился Спаситель, был какой-то щенок, и Алеша хотел назвать своего щенка так же. Но, к его огорчению, я сказал, что даже если там и был щенок, то, как его звали – неизвестно, так же как коров и овечек в рождественском хлеву. Известны только имена волхвов, которые принесли дары для маленького Иисуса, – их звали Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Алеше понравилось имя Бальтазар. Так щенка и назвали. Но очень скоро трудное имя сократилось до Бальки, а потом и вовсе превратилось в Бульку. Но и эта кличка не прижилась, и дети стали звать щенка просто Бубликом. «Вот до чего докатилось славное древнее имя», – думал я, внутренне улыбаясь.
Когда Бублик не сидит в своем вольере и не спит на кровати с Алешей, он шастает по коридору, путаясь под ногами у ходячих детей, врачей и санитарок. Его любимые занятия – драть полиэтиленовые бахилы и азартно вынюхивать из-под закрытых дверей палат что-то ему одному ведомое. Даже удары по носу открывающимися дверями не могут отбить у него охоту к этому важному делу… Торопливая и порывистая Дина Маратовна уже не раз влипала в продукты Бубликовой жизнедеятельности. Но щенок живет в хосписе на особом положении. Во-первых, потому, что это подарок начальственной Алешиной мамы, а во-вторых, потому, что он – любимец детей. А все, что может дать им радость, по негласному закону хосписа – священно и неприкосновенно… Хотя вот любимый Лёнькин чердак все-таки забили.


