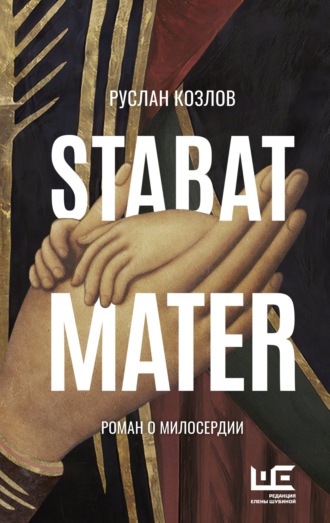
Руслан Козлов
Stabat Mater
Полчаса спустя Кирион один, без конвоя, пересекает агору, освещенную уже не луной, а рассветным небом. Он чувствует, что его разум и душа как будто окаменели. Кирион спешит в преторию, обеими руками держась за хитон на животе. Под хитоном – фрукты и лепешки, куски сыра и мяса – все, что он сумел нагрести со стола, за которым его кормили. Никто не запрещал ему брать еду. И опасения, что еду отберут тюремные охранники, тоже были напрасны – его без обыска пропускают в подвал. И, спустившись к собратьям, он видит, что там уже горят масляные светильники и все люди едят, собравшись вокруг четырех котлов. И самое удивительное – едят не руками, а глиняными ложками, появившимися невесть откуда.
– Отец, иди скорее! – зовет его Дидона, старшая дочь, которая первой увидела, что он вернулся. – Нам принесли еду, отец! Вареный горох. И даже мясо!..
– Возьми, вот еще еда… – Он глазами показывает на свой хитон, который топорщится от снеди.
Дидона подбегает и начинает вытаскивать еду у него из-за пазухи.
– Смотрите! Здесь лепешки, и сыр, и сливы, и даже смоквы… Хлоя, дети, скорей, скорей сюда!
– Где ты был, брат? И откуда это все? – В голосе подошедшего к ним Власия слышится подозрительность.
– Я говорил с императрицей… Да-да, не думай, что я обезумел. – Кирион снизу вверх глядит на огромного Власия. – Императрица здесь, в Олимпии. А скоро сюда прибудет и сам цезарь… Брат, я все расскажу. Но сейчас мне надо спешить к Филомене. Августа позволила мне покидать тюрьму. Прости, брат. Я скоро вернусь, и мы поговорим…
Комната пуста. На лежанке – скомканные тряпки, расколотый кувшин.
«Наверно, Симон и Лия забрали Филомену к себе», – думает Кирион.
С замирающим сердцем он переходит узкую улицу и, прежде чем постучать в дверь напротив, прижимает руки к груди.
– Господи, – бормочет он. – Боже милостивый, сохрани мою Филомену. Твоя воля во всем. Не дай мне, несчастному, погрязнуть в бедах и напастях подобно Иову. Господи, не оставь, помоги, укрой, защити…
Дверь перед ним распахивается. На пороге – Лия. Через мгновение Кирион все понимает по ее глазам. Лия молча сторонится, предлагая ему войти. Но Кирион стоит, ухватившись за косяк, чтобы не упасть.
– Когда? – спрашивает он.
– Двенадцать дней назад, как раз на Пурим. – Лия низко опускает голову. – Кровь пошла из горла. Я была с ней… Войди в дом, Кирион, тебя могут увидеть.
– Могут увидеть? – тупо повторяет Кирион. – О чем ты?
Может быть, Лия считает его беглецом? Или просто не хочет, чтобы люди видели у ее дома христианина?
– Ее положили, как она хотела, вместе с матерью? – спрашивает Кирион.
– Да, – нетерпеливо отвечает Лия. – Да. Вместе с матерью, в их родовую лодку…[9] Послушай, Кирион, или зайди в дом, или уходи.
– Я уйду, Лия…
Кирион отступает назад и останавливается посреди улицы. Он не слышит, как Лия резко захлопывает дверь, не слышит, как она говорит за дверью подошедшему к ней мужу:
– Этот Краснорукий не в себе. Совсем как безумный. Может, в тюрьме с ним что-то сделали?..
– А деньги? – раздается за дверью мужской голос. – Деньги за погребение Филомены? Открой же, я с ним потолкую…
– Говорю тебе, он не в своем уме, – зло отвечает Лия. – Потом потолкуешь.
– Когда? – не унимается мужчина. – Когда он сдохнет под римскими бичами? Может, мы и его будем хоронить за наши деньги?..
Кирион не слышит. Он медленно бредет к своей двери. Три ступеньки, ведущие к ней, он преодолевает с таким усилием, будто это горный перевал. И, шагнув через порог, в изнеможении садится на него. Его спина, обращенная к улице, вздрагивает – то ли от рыданий, то ли от тяжелой одышки. Так он сидит долго, ни о чем не думая, будто провалившись в пустоту. И в этой пустоте к нему запоздалым эхом возвращается голос августы: «Разве твой бог – кровожадный Молох, который хочет жертв?» И он вдруг резко и болезненно понимает, что должен ответить на этот вопрос, что такова жестокая необходимость и что без этого ответа вся его жизнь будет никчемной, как и его обгорелая рука. Он вспоминает, что через девять дней умрет. Но о собственной смерти он теперь думает без содрогания и даже – как о чем-то желанном, как о предвестии скорой встречи с Филоменой. Его страшит другое – что у него осталось слишком мало времени для ответа на вопрос, сорвавшийся с уст язычницы-императрицы и ставший главным теперь, в нескольких шагах от страшной арены, под взглядами желтых голодных львиных глаз.
С трудом распрямляя затекшие ноги, Кирион встает и пересекает комнату, заглядывает в кухонный угол, машинально отмечает, что полки, где стояла утварь, пусты – то ли Симон и Лия забрали все, то ли в доме побывали воры. Встав на колени, Кирион отодвигает камень у основания печи, достает из открывшегося тайника небольшой ящик, обитый медью, и ставит его на стол. В ящике – одиннадцать пергаментов, исписанных по-гречески пересказами того, что он слышал о Христе и Его учениках. Там же – один чистый пергамент, и тростниковый стилус, и чернильный порошок в деревянной коробочке, и красное вино в глиняном флаконе. Найдя на полке уцелевшую плошку, Кирион приготовляет в ней немного чернил, размешивая порошок в вине тупым концом стилуса, потом садится к столу, расправляет перед собой чистый пергамент и прижимает свинцовым бруском его верхний край. Правую искалеченную руку он может использовать только как крюк, но левой действует с привычной ловкостью и пишет ею не хуже, чем когда-то писал правой.
Кирион пока плохо представляет – что и зачем он собирается писать. Он всегда боялся собственных мыслей о самых важных вещах и никогда не додумывал их до конца. А уж пачкать ими дорогой пергамент и вовсе считал непростительной дерзостью. Ведь он не философ, не поэт, не ученый. Но теперь ему некогда бояться и нечего стесняться…
Сам того не замечая, он начинает писать на родном языке – ведь думает он всегда только на нем. И к тому же это их общий с Филоменой язык. Язык их детской дружбы и юношеской любви, язык их трудной и долгой жизни, их уступок и ссор, обид и прощений, скорбей и радостей, язык, которым они говорили об истине, обретенной ими во Христе…
В тот день Кирион написал:
«Зачем Богу нужны наши страдания? Вчера я знал ответ: Он хочет испытать нашу верность, увидеть – достойны ли мы войти в Его Царство. Наш мир, ставший новым Содомом, обречен на скорую гибель, чтобы затем, подобно новому Иерусалиму, возродиться очищенным. И в том будущем мире Господь уже не потерпит никакой нечистоты.
Я, пишущий эти строки Кирион, сын лодочника Пелея, полвека назад принял на острове Патмос святое крещение от Иисусова ученика – геронды Иоанна, желая, чтобы вся моя жизнь стала одним непреклонным следованием за Христом. Я знал, что придется пройти через страдания, но готов был приветствовать их как вехи на пути к спасению, проложенном для меня Господом. И потому никакие испытания не могли устрашить меня.
Так было до нынешнего дня, когда я понял, что по своей духовной слепоте готовился принять лишь собственные муки, хотя рядом со мной тем же путем шли мои близкие. Но узнав об участи, ожидающей нас, – о том, что мы должны быть растерзаны львами для увеселения тирана, – я осознал, что увидеть мучения близких будет выше моих сил. Это вырвалось из глубины моего сердца подобно пламени и вмиг сожгло любую возможность смириться с таким жребием – даже если он брошен рукою Самого Господа.
И вот, видимо, таков предел моей веры, которую я дерзко полагал беспредельной. И таков крах моей жизни, пришедшей ныне к малодушию и неверию…»
1 марта. Прощеное воскресенье
Иван
В больничной церкви – вечерняя служба. Отец Глеб кадит в алтаре и с амвона. Прихожан – человек десять, в основном женщины с заплаканными глазами – мамы больных детей. Самих детей нет. Если их и приводят в храм, то лишь на причастие. Мужчин сегодня двое. Один всю службу стоит на коленях, не плачет, не крестится, только сгибается все ниже в бесконечно медленном поклоне. Другого я знаю, это доктор Зорин, старший анестезиолог. Раза два я видел его в коридоре хосписа осажденным родителями. Видел, как одна женщина вцепилась в лацканы его халата, а Зорин отворачивался, будто от нее скверно пахло, и монотонно твердил: «Нельзя. Нельзя больше дозу». Наверное, из врачей ему здесь тяжелее всех. Другие врачи зовут его Завболь.
Женщин в черных платках сегодня в церкви нет. Значит, молимся о живых.
Я остался на вечерню и чин прощения по просьбе отца Глеба. Он страшно увлечен Кирионом и его рукописями. Сказал, что продолжим разговор после службы. Да и я был рад отсрочить обратный путь по коридорам хосписа…
Внутреннее пространство маленькой больничной церкви выглядит странно: храм несоразмерно высок и похож на уходящий вверх тоннель. Три яруса колонн напоминают натянутые жилы. Будто какая-то сила тащит церковь вверх, хочет вырвать из земли, а каменная плоть противится. Эту церковь делает похожей на православный храм лишь невысокий иконостас, отгораживающий алтарь. Все остальное здесь – чужое, готическое. Узкие окна на уровне третьего яруса освещают верхний свод – пустой, без росписи. До нижней части храма дневной свет доходит лишь по прихоти погоды. Если на улице солнце, сюда может пробиться случайный луч. А в пасмурный день свет едва сочится. Сейчас он пульсирует под сводом нервными сполохами – должно быть, снаружи продолжается солнечно-метельная круговерть. В меняющемся освещении кажется, что огоньки свечей то бледнеют и чахнут, то вновь разгораются ярче.
Ни в одной церкви я не видел такой службы, как здесь. Отец Глеб служит один – без дьякона, без алтарника, без хора. По этому поводу он как-то сказал с печальной улыбкой: «Сам читаю, сам пою, сам кадило подаю. Зато уверен, что никто не собьется». Только на литургии в храм приходит пожилая медсестра, чтобы пропеть «Херувимскую». Во время службы отец Глеб уходит в себя, говорит и поет, закрыв глаза или глядя вверх, но каждое слово доносит ясно, звучно, словно перебирает голосом звонкие четки. В его одиноком и как будто отрешенном служении по-особому видна красота церковнославянского языка; и я благодарен ему за то, что он никогда не путается в словах, не ошибается с ударениями и падежами, не глотает странные для современного уха окончания слов. А вот его проповеди кажутся мне суховатыми, даже формальными – немногословные и безупречно благочестивые комментарии к евангельским текстам. При этом я заметил, что в проповедях он старательно избегает любых наставлений. Зато во время исповедей и бесед отец Глеб преображается. Несколько раз я ждал его, сидя на лавке у стены или стоя в притворе. Я не мог расслышать слов, но тихий гул его голоса, его взгляд, его руки, которыми он не стеснялся обнимать собеседников, останавливали рыдания, оживляли окаменевшие лица…
А сегодня я впервые вижу его другим. Он волнуется, запинается, на середине короткой молитвы перед чином прощения с минуту стоит молча, растерянно смотрит на прихожан, будто ждет подсказки. Потом встает на колени, склоняется в земном поклоне и, поднявшись, тихо, медленно говорит:
– Простите меня… Я так мало могу сделать для вас. Мое сочувствие, даже самое искреннее, так мало дает… Как смею утверждать, что я – бездетный монах – понимаю и разделяю вашу боль! Никакого сострадания не хватит, чтобы судить о ней со стороны… Дорогие мои, сегодня мы должны простить обидевших нас, простить причинивших нам зло. Нелегко бывает справиться с обидой на ближнего. Но во сто крат труднее унять обиду на Бога. Почему Он не может защитить ваших детей? Почему заставляет вас выносить невыносимое? Я не знаю. И в этом незнании – моя вина. Ведь чтобы простить, нужно понять. А как понять Бога, попускающего такие страдания? У меня нет ответа – простите… Я только одно могу сделать – поделиться с вами своей верой в то, что боль ваших детей и ваша боль – не бессмысленны, не напрасны… Эта вера – самое большое, самое главное, что у меня есть… Я знаю, у вас бывают минуты, когда кажется, что Господь оставил вас. Но это не так. Я чувствую всем сердцем: Господь – рядом с каждым из вас, рядом с каждым из ваших детей. В этом горе и страдании Он ближе к вам, чем к другим – здоровым и счастливым. Каждый день я молю Его, чтобы дал вам сил, чтобы помог ощутить Его близость, Его сострадание… И даже – Его мольбу о прощении…
Я ждал, что после службы родители, как всегда, выстроятся в очередь на беседу к отцу Глебу. Но сегодня все тихо, молча расходятся. Остается только доктор Зорин. Кажется, просит об исповеди.
Я ухожу в притвор, чтобы никого не смущать, пристраиваюсь в узкой нише, где можно сидеть. Я чувствую себя усталым, тяжелым, сонным. Но для меня это хорошее состояние, оно притупляет мою вечную тревогу, перемешивает мысли, превращает их в серый бессмысленный хаос. Если повезет, то из этого хаоса не будут выскакивать острые, болезненные вопросы, заставляющие вздрагивать и просыпаться: «Что дальше?», «Кто ты в свои тридцать семь?», «Кому ты нужен?..», Хаос – прекрасное протосостояние мира. В нем не было ни форм, ни вещей, ни имен, ни личностей, ни долга, ни тревоги, ни боли, ни зла… Радости и добра тоже не было. Ну и что? Зачем они, если за них всегда приходится жестоко расплачиваться?.. Все хотят обратно – в теплую, темную утробу хаоса. Все помнят о ней на самом глубоком, неистребимом, нестираемом уровне генетической памяти. И до сих пор переживают родовую травму человечества, до сих пор ужасаются и негодуют: зачем нас исторгли из этой утробы! Зачем ослепили светом, пронзили мучительно громкими звуками, искололи тревожными мыслями, бросили голыми и беззащитными перед всесильным злом! Зачем сделали заложниками страха перед неизвестным, непредсказуемым будущим! Зачем терзают вечной необходимостью делать выбор и принимать решения, а потом давят виной за все, что мы сделали не так!.. Верните нас обратно – в блаженное бессмыслие и бессилие. Верните в безмятежность и безгрешность! Там, в предвечном хаосе, мы были растворены вместе с Богом и, значит, были едины с Ним… И зачем только нас разлучили!..
Я устраиваюсь удобнее, сую руки в рукава пальто, как в муфту, и, не стесняясь, засыпаю в полутемном притворе, в укромной нише. Странно: каменная кладка здесь кажется теплой, будто где-то рядом, за стеной, топится печь…
По притвору пролетает сквозняк. Открыв глаза, успеваю заметить быструю тень, скользнувшую в церковные двери, миновавшую притвор и вбежавшую в храм. В неровном свете, льющемся из верхних окон, тень становится щуплой женской фигуркой в сером свитере и джинсах. На секунду женщина замирает, осматриваясь. Потом стремительно идет туда, где склонились друг к другу отец Глеб и доктор Зорин… Выбравшись из своей ниши, я заглядываю в храм. Вижу, как Зорин оборачивается и в ту же секунду получает звонкую пощечину. Женщина снова размахивается и бьет. Зорин пытается закрыться рукой, отшатывается, валит аналой с крестом и Евангелием. И пока отец Глеб в растерянности подбирает их, женщина успевает ударить Зорина ногой. Наконец отец Глеб встает между Зориным и женщиной, сгребает ее в охапку, тащит из храма.
И тут женщина начинает кричать.
– Тварь! – орет она Зорину через плечо отца Глеба. – Скот! Подонок!..
Прежде чем отец Глеб выталкивает ее вон, она успевает выкрикнуть еще несколько оскорблений – обычных и матерных… Пожалуй, мата в церкви я раньше не слышал… Отец Глеб затворяет дверь, с лязгом опускает железную щеколду. Взглянув на меня, он изумленно пожимает плечами, показывая, что ошарашен не меньше моего. Потом возвращается в храм, где на ступеньке солеи сидит Зорин и трет ушибленное колено – кажется, удар оказался болезненным.
А я, сам не знаю почему, открываю дверь в коридор и смотрю вслед удаляющейся женщине. Она идет прочь, ссутулившись, подняв острые плечи и обхватив себя руками, в каком-то болезненном оцепенении. Услышав скрип дверных петель, она оборачивается и видит меня. Я не сразу могу понять выражение ее лица. На нем еще осталась гримаса гнева, но уже проступает и другое – сожаление, стыд и еще – такая печаль, такое отчаяние, какие редко увидишь даже здесь, в этих коридорах. Женщина сокрушенно качает головой, будто хочет что-то сказать, объяснить. Но молча отворачивается и уходит. Хвостик светлых волос торчит над ее сгорбленной спиной. Смотрю, как она исчезает за углом, и думаю, что, наверное, это одна из тех несчастных матерей, которые требуют от Зорина невозможного… Но, когда мы возвращаемся в ризницу, отец Глеб говорит, что она – здешняя медсестра по имени Вероника. Причину ее гнева отец Глеб не знает. А вот Зорин, похоже, в курсе, за что ему надавали тумаков. Из церкви он ушел подавленный, не проронив ни слова.
Об этой Веронике в хосписе говорят разное. Главным образом – про ее скверный характер и высокомерие. Но отец Глеб не раз слышал, что она умеет по-особому ладить с детьми, может успокоить и ободрить, как никто другой, что она придумала какую-то игру, отвлекающую детей от страха перед болью и даже от самой боли…
В ризнице отец Глеб вешает облачение на место, пристраивает на полке клобук и опять, как утром, садится напротив меня. Какое-то время сидим молча.
В узком окне ризницы – оранжевые отсветы заката. К вечеру небо очистилось, и стало понятно, что день заметно прибавился. Значит, я пережил еще одну зиму. Помогла работа и, наверное, встречи с отцом Глебом – даже такие, отравленные моим страхом.
Отец Глеб тоже смотрит в окно, думает о чем-то. Я жду, что мы вернемся к рукописи Кириона, но отец Глеб начинает говорить о другом:
– Иван Николаевич (наверное, он первый в моей жизни, кто зовет меня по имени-отчеству), я хочу и у вас просить прощения… Я вижу, как тяжело вам дается каждый приход сюда. Наверное, я кажусь вам жестоким, раз заставляю вас переживать это раз за разом. Но вот в чем дело… Если бы мы встречались где-то в другом месте, то наше общение свелось бы только к древним текстам. Конечно, это важно и интересно, и я, поверьте, ценю ваш талант переводчика… Но я бы хотел, чтоб вы стали ближе к жизни этого хосписа. Зачем? Потому что вы можете помочь.
Несколько секунд отец Глеб пристально смотрит на меня… Помочь? Да какой от меня прок! Я и с собой-то едва справляюсь.
Отец Глеб видит мое смятение и мягко, доверительно говорит:
– Давайте я вам все расскажу, а вы уж сами решите… Наверное, вы следите за новостями и знаете, что СГД наконец признали пандемией. Реальные цифры заболевших скрывают, но в любом случае речь идет о миллионах страдающих, умирающих, безнадежных детей. Хосписы и больницы переполнены, бюджеты, выделенные на это, должны быть в десятки раз больше. А тут еще нарастает всемирная истерия, ходят слухи про убийц-генетиков, выпустивших из пробирки какой-то мифический триггер СГД. Повсюду угроза бунтов и войн, паника на биржах… И вот на фоне всего этого у наших властей зреет решение – закрыть хосписы, вернуть умирающих детей в семьи. В ближайшее время будет принят закон об СГД, суть которого: помощь страждущим – дело самих страждущих. Откуда мне это известно? Люди из правительства всегда ставят Патриархию в известность о важных решениях. Хотят, чтобы Церковь поддакивала или хотя бы молчала, даже если эти решения бесчеловечны. Думаю, молчание будет обеспечено и на этот раз… Поверьте, у нас, у духовенства, повиновение строже, чем в любой организации. Оно, можно сказать, в крови…
Отец Глеб замолкает, прижимает к губам сжатый кулак, будто хочет остановить готовые вырваться резкие слова.
– Но, может быть, в своих семьях, в своих домах детям будет лучше? – осторожно говорю я.
Он качает головой:
– Вы не понимаете. Обезболивание при СГД – невероятно сложное дело. Здесь идет борьба не с болезнью, а с самой болью. Обычные лекарства не могут облегчить ее. Препараты на основе морфина хоть как-то помогают, но это наркотики. Если обеспечить ими всех детей, больных СГД, наркотики окажутся в свободном доступе. Да и не смогут родители сами применять такие мощные средства без риска смертельной передозировки. И что будет в реальности? Родителям предложат облегчать боль детей анальгином.
Отец Глеб сцепляет пальцы и сжимает так, что белеют костяшки.
– Политика, экономика, бюджеты… Кому-то это кажется важным – по инерции. Но сейчас это должно отойти на десятый план. Что политика! Что бюджеты! Никогда еще человечество не стояло перед моральным выбором такой остроты. Забыть алчность, вражду, амбиции и бросить все силы на облегчение страданий детей. Или махнуть рукой на это бессмысленное дело – все равно ведь они умрут!.. Возможно, когда-нибудь люди найдут лекарство от СГД, но мир, предавший своих детей, будет отравлен собственной низостью, станет непригодным для жизни, как после атомной войны. Представляете – сколько в нем будет озлобленных, выжженных горем людей – родителей, которых мы предали и бросили в такой беде!.. Предали! – с горечью повторяет отец Глеб. – Говорят, Господь посылает человеку лишь те испытания, которые ему по силам. Но сейчас Он как будто решил, что мир населяют великие праведники, титаны духа. А это обычные люди. В большинстве – даже неверующие, не воцерковленные. Мы не успели, не сумели насытить их верой такой утешительной силы, которая помогает все принимать пусть не с благодарностью, но хотя бы со смирением. И, выходит, предали их, оставили беззащитными… Кто может заглянуть в душу человеку, когда страдает его ребенок – день за днем, ночь за ночью, все страшнее, все безысходнее? И вот человек поднимает глаза от постели, где лежит этот… уже не его ребенок, а полуживой сгусток боли. Поднимает глаза и говорит, может быть впервые обращаясь к Богу: «Господи, зачем Ты его мучаешь? За что? Какой в этом смысл?» И не слышит ответа… Но когда людям посылается такая боль, разве это не дает им право задавать самые больные вопросы, кричать их туда – вверх? Пусть мы не слышим или не понимаем ответов, пусть по нашему скудоумию нам не дано постичь высший замысел. Но если и вопросы нельзя задавать, если остается только молчать и терпеть – тут уж какая-то степень жестокости, несовместимая…
Отец Глеб снова замолкает, словно не решается продолжать.
– Несовместимая с верой? – я невольно перехожу на шепот, будто кто-то может нас подслушать.
– Не просто с верой, – говорит отец Глеб. – С жизнью это несовместимо. С желанием жить.
– Но сколько можно продержаться вот так, без ответов? – говорю я. – И как вы сам держитесь?.. Сегодня вы говорили о вере и о Христе, который страдает рядом с каждым… Неужели вы просто… Как положено священнику… Просто сказали то, что должны были сказать?
– Нет! – резко отвечает отец Глеб. – Нет! Как вы могли подумать!.. Уж на этом «как положено» точно не продержишься!
Меня окатывает горячей волной стыда. Что я ляпнул, дурак! Он мне открылся, а я обвиняю его в лукавстве! Не мог он лукавить, не мог притворяться перед этими людьми!..
– Простите, – бормочу я. – Теперь вы меня простите!.. Все это так страшно. Что же будет? Что теперь будет со всеми?..
Отец Глеб долго молчит. В ризнице уже почти темно. Только лампада мерцает перед Отроком Иисусом.
– Не знаю, – наконец говорит отец Глеб. – Сомнение в милосердии Господа – разрушительно. А сейчас этим сомнением охвачен весь мир. Знаете, временами кажется, что мир стоит на грани всеобщего отречения, вселенского крушения веры. Мир разъедаем страшным соблазном – видеть в Боге кровожадное чудовище, смешать Бога с дьяволом, Христа – с антихристом. Это и есть самое разрушительное оружие темных сил. Именно поэтому меня так ужаснуло сегодня это место из рукописи Кириона – о Боге, питающемся нашими страданиями. Это как будто… Как будто древний сосуд со страшным ядом, извлеченный на свет как раз тогда, когда у человечества почти не осталось иммунитета против лживой языческой идеи о «богодьяволе», почти не осталось веры в то, что Бог есть любовь… Кажется, еще немного – и шанса возродить эту веру уже не будет…
Отец Глеб встает, щелкает выключателем. Я зажмуриваюсь, заслоняюсь рукой от лампы под потолком. Когда глаза привыкают к свету, я вижу перед собой прежнего отца Глеба – спокойного и собранного.
– Иван Николаевич, все, о чем мы говорили шепотом и в темноте, нужно сказать во весь голос. Я хочу попросить вас составить обращение. С такими, знаете, словами, чтобы без пафоса, без моралистики, но чтобы стало горько и страшно. И чтобы было понятно: если сейчас не будем бороться всем миром – пусть бессмысленно, пусть безнадежно, то потеряем право называться людьми, повесим на себя такой грех, который вовек не искупить… Я не умею писать, как вы. Могу сказать более-менее складно. Но вот это самое «как положено» въелось еще в семинарии, не дает добиться нужной простоты, сковывает каким-то… не знаю… клерикальным стилем, что ли. А тут надо обратиться ко всем – не только к православным, не только к верующим.
Через минуту я понимаю, что молчу слишком долго. Но, взглянув на отца Глеба, вижу, что он готов ждать еще.
– Не знаю… Можно попробовать… А куда пойдет это обращение?
Отец Глеб отвечает не сразу. Выпрямившись на стуле, поправляет пояс на подряснике, уклончиво говорит:
– Я найду возможность опубликовать его… Впрочем… – он на секунду останавливается. – Впрочем, вы должны знать, ведь я прошу вас о помощи. В общем, так. У меня есть редакторский доступ к сайту Патриархии. Долго там это обращение не продержится, но разлететься по интернету успеет. И тогда наши иерархи уже не смогут отмолчаться… Кроме того, я знаю неравнодушных людей в зарубежных епархиях, у них тоже есть сайты. И там не все скованы покорностью…
Теперь уже я выпрямляюсь на стуле, изумленно смотрю на отца Глеба.
– Но это же… Вы понимаете…
– Да уж как не понять, – вздыхает отец Глеб. – Это бунт. А бунтовщиков и еретиков принято сжигать на площадях… Но вы не думайте, – вдруг спохватывается он, – ваше участие никак не…
– Зачем вы так! – вырывается у меня почти грубо. – Не в этом же дело!.. В конце концов, мне-то чего бояться! По сравнению с тем, чем рискуете вы…
– Ну, хорошо-хорошо, – мягко говорит он. – Простите, не хотел вас задеть… Если вы согласны, может быть, начнете прямо сейчас? Большой текст ни к чему, нужно всего три-четыре абзаца. Но таких… Таких, чтобы на них все обернулись, как на крик…
– На крик боли…
– Да, именно! – энергично кивает отец Глеб. – Вот вы уже и нашли ключевое слово… Сейчас я включу ноутбук…
– Не надо, – говорю я. – Лучше дайте бумагу и ручку. Мне удобнее от руки.
Отец Глеб достает с полки большой блокнот.
– Извините, Иван Николаевич, стола у меня нет…
– Ничего, нормально. – Я беру блокнот из его руки. – Я и дома часто работаю на коленке…
– В это время я обычно делаю обход по хоспису, – говорит отец Глеб, – навещаю детей и родителей. А то скоро закончатся часы посещения и родителей начнут выгонять. – Отец Глеб надевает поверх подрясника черную шерстяную безрукавку и идет к двери. – Так что оставляю вас на час-полтора. Дождетесь меня?..
– Что?.. – Я уже раскрыл блокнот и думаю над первой фразой. – А, да-да, конечно…
Через полчаса, когда текст почти готов, понимаю, что уже сварился в своем пальто, и наконец догадываюсь его снять. Нахожу на стене гвоздь и водружаю пальто на него… Вдруг слышу – за дверью кто-то плачет или вроде как скулит… Только сейчас понимаю, что эти звуки просачиваются в ризницу давно, но я не замечал их, уйдя в работу. Во мне снова шевелится страх. А если там кто-то из детей и ему плохо? С минуту сижу не шевелясь. Плач то затихает, то слышится опять. Да и плач ли? Как будто не похоже на человеческий голос… Решаюсь все-таки выглянуть из ризницы. В притворе темно, и в первый момент я никого не замечаю. Открываю дверь шире и в полосе света вижу скрюченную фигурку в голубой медицинской робе – какая-то женщина сидит у стены, подтянув ноги к груди. Ее лоб прижат к коленям, так что лица не вижу. Осторожно подхожу, касаюсь ее плеча:
– Что с вами?
Она не реагирует, только покачивается, ударяясь спиной о стену, и стонет… И зачем я вышел? Что мне за дело до этой женщины? Может, что-то личное у нее… Поплачет и уйдет. Или отец Глеб вернется и поговорит с ней… В этот момент она поднимает голову. Я невольно отшатываюсь. Ее лицо перекошено, глаза смотрят со дна двух черных ям, зубы вцепились в воротник… И тут я понимаю, что это та самая женщина, которая напала сегодня на доктора Зорина.
Вспоминаю ее имя и говорю:
– Вероника, что с вами? Вам плохо? Я позову кого-нибудь…
Она разжимает зубы. Воротник робы вываливается изо рта, за ним тянется нитка слюны.
– Нет, – говорит она сдавленно. – Не надо. Пройдет… – И тут же стонет громче, почти кричит, хватается за живот, валится на пол и остается лежать скорчившись.
Сижу рядом на корточках, пытаюсь сообразить – как быть, кого звать на помощь? Отца Глеба? Значит, идти и искать его по палатам? Нет, невозможно! Просто выйти в коридор и закричать: «Эй, кто-нибудь, помогите, человеку плохо!»
Встаю, делаю шаг к выходу, но Вероника обеими руками хватает меня за ноги, да так цепко, что не могу двинуться с места. Больная? Припадочная?
– Нет, стой! – мычит она. – Никого не нужно! Сейчас пройдет!
Мне ужасно неловко – она обнимает мои ноги, тычется лицом в ботинки… Сажусь на пол рядом с ней, касаюсь ее, хочу как-то успокоить. Короткий рукав робы задрался, у меня под ладонью ее плечо – холодное, покрытое острыми бугорками гусиной кожи.
– Не уходи… Сейчас… Просто никак… Никак не могу отключиться…
Бредит?..
Вдруг она разом обмякает, вытягивается на полу ничком, уткнув лицо в ладони, и так лежит минуту, другую. Потом встает на колени, но руки от лица не отнимает.
– Всё, – глухо говорит она из-под ладоней. – Всё. Умер…
– Кто умер? О чем вы?..
Она опускает руки, смотрит на меня.
– Странно получилось, – медленно говорит она, – устроила тут представление. Даже два: и сейчас, и тогда – с Зориным. Ведь это ты был здесь и все видел. Наверное, думаешь, я ненормальная? Нет. Просто у меня сегодня все плохо… А сейчас я боялась, что ты побежишь кого-нибудь звать.
– Но у вас был какой-то приступ, вам нужна помощь.
Вероника долго, внимательно смотрит на меня. Лицо у нее уже спокойное, но очень усталое – худое, с острым подбородком. Верхняя губа по-детски вздернутая, капризная, будто не ее.
– Ничего страшного, – говорит она, – у меня бывает. Просто сегодня сильнее, чем обычно. Но все уже прошло.
Она поднимает руки, будто хочет поправить растрепавшиеся волосы. Пальцы у нее тонкие, бледные, руки дрожат. Так и не притронувшись к волосам, она опускает руки.
– Совсем не помню, как бежала сюда, – говорит она. – И почему опять – в церковь?.. Должно быть, думала, что тут никого нет… А ты что, ходишь сюда к священнику? Служишь с ним в церкви?


