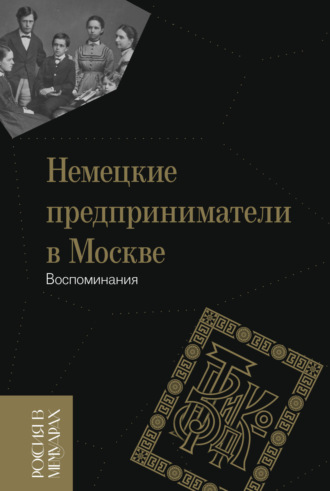
Немецкие предприниматели в Москве. Воспоминания
Уже в 1863 году, как явствует из письма отца Юлиусу Мёллеру, торговый дом «Штукен и Шпис» занимал ключевую позицию в московской сахарной торговле.
Импорт шелка-сырца, которым, как уже говорилось выше, занимался мой дед, в 60‐е годы подвергся смертельной опасности в результате болезни шелкопряда и последовавшей за этим эпизоотии, охватившей Италию и Францию. Существовало вполне обоснованное предположение, что инфицированы были не только гусеницы тутового шелкопряда и бабочки, но и яйца шелкопряда, так называемая грена, потому что гусеницы погибали, едва успев появиться на свет.
Европейское шелководство могло выйти из этого катастрофического положения только за счет новых, еще не инфицированных семян, например, из азиатских стран.
Предприимчивость моего отца навела его на мысль обеспечить Италию центральноазиатской греной. Однако это был трудноосуществимый замысел, поскольку интересующие его регионы – уже присоединенный к России Туркестан129, а также независимые ханства Хива, Бухара и Фергана – еще не были умиротворены130 и с ними не было железнодорожного сообщения; одним словом, затея эта была чревата опасностями и коммерческими рисками.
Но прежде всего для этого нужно было получить разрешение российских властей. Тогдашний министр финансов, фон Рейтерн131, которому он изложил свой план, горячо одобрил идею и обещал оказать всяческое содействие. Кроме того, он выразил удовлетворение отрадным фактом, что первопроходцем в таком важном для страны деле в очередной раз выступает немец.
И вот в Центральную Азию были одна за другой отправлены три экспедиции, с каждым разом все более многочисленные и основательные. Из Саратова на Волге через Оренбург, через Киргизскую степь в Ташкент и дальше в Хиву, Бухару и Самарканд. Ташкент, столицу российского Туркестана и резиденцию генерал-губернатора, было решено использовать как пункт складирования.
Во главе экспедиций стоял итальянский специалист, синьор Адамоли (впоследствии депутат парламента)132. Грену расфасовывали в маленькие шелковые мешочки по 100 грамм, которые помещали в картонные коробки, а те в свою очередь в деревянные ящики. Один верблюд нес два ящика.
После успешного завершения двух первых экспедиций, то есть благополучной доставки грены в Италию и получения удовлетворительных результатов, третья экспедиция должна была доставить в Европу большую партию этого драгоценного товара. Однако судьба распорядилась иначе. Ящики с греной уже были погружены на верблюдов, как вдруг генерал-губернатор Туркестана, генерал фон Кауфман133, своей властью запретил вывоз товара. То ли синьор Адамоли вовремя не уладил все формальности, то ли мой отец не смог быстро связаться с министерством в Петербурге из‐за того, что в Ташкенте в то время еще не было телеграфа, – во всяком случае, личинки гусениц в свое время вылупились из яиц, и в ящиках все ожило и зашевелилось. Когда наконец из Петербурга пришел приказ отменить запрет на вывоз, ящики, распространявшие чудовищное зловоние, уже были сожжены по распоряжению генерал-губернатора.
Так бесславно, из‐за идиотских русских бюрократических процедур, закончилось смелое и полезное начинание, обернувшись тяжелейшими финансовыми потерями для отцовской фирмы. Ведь российское правительство даже не подумало о том, чтобы возместить ей убытки, причиной которых стала вопиющая некомпетентность его ташкентского представителя.
Ко всем прочим злоключениям на обратном пути, в киргизской степи, караван подвергся нападению бандитствующих кочевников, и в бою погиб один из членов экспедиции. И какими бы тяжелыми ни были материальные потери – отец принял их со спокойной душой, но трагическую смерть одного из своих служащих он до конца жизни не мог себе простить134.
Единственным положительным результатом этой экспедиции были подарки азиатских владык, которые синьор Адамоли в силу sacro egoismo italiano135 счел своей личной неделимой собственностью и увез с собой на родину136. Для нас, детей, стало незабываемым событием – разглядывать эти сокровища Востока: шелковые наряды, драгоценное оружие, богатые седла, украшенные бирюзой башмаки с высокими каблуками и многое другое.
Подъем экономической жизни в 60‐е годы обусловил необходимость создания частных акционерных банков. Отцовская фирма дважды принимала в этом участие: при создании Московского учетного банка137 и Русского для внешней торговли банка в Петербурге138.
Тем временем отец все лучше понимал, что будущее в России принадлежит промышленности. Поскольку он уже приобрел большой опыт в этой области в связи с сахарным бизнесом, для его торгового дома сам по себе (в продолжение табачной торговли в Петербурге) напрашивался вопрос о приобретении табачных фабрик «Лаферм» в Петербурге и Варшаве, а затем и в Дрездене, а в рамках расширения торговли красителями его московского отделения – о покупке красильни Франца Рабенека в Болшеве под Москвой139.
В работе этих двух предприятий я удостоился чести принимать участие еще при жизни отца. Поэтому ниже я еще раз вернусь к данной теме.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ШКОЛЬНАЯ УЧЕБА В ДРЕЗДЕНЕ. 1874–1879
17. Переезд в Дрезден
Хотя отца тянуло в родные места, на Рейн, он все же избрал местом нашего немецкого пристанища Дрезден, потому что его фирма приобрела дрезденскую сигаретную фабрику «Лаферм».
В Москве дела должны были вести мой зять Георг Фосс и кузен Эрнст Шпис140, а отец, следя из Дрездена за ходом событий, намерен был параллельно заняться сигаретной фабрикой.
В Дрездене мы сначала полгода жили в отеле «Бельвю», где появился на свет мой младший брат Рудольф141, затем один год на улице Бюргервизе, № 18. И лишь потом папа купил дом на Гёте-штрассе, № 4 (ныне № 7), ставший нам второй родиной, и, кажется, в 1881 году прекрасную усадьбу в Вахвице на Эльбе.
Дом на Гёте-штрассе располагался в так называемом «английском квартале», который возник в 60‐е и 70‐е годы и тогда был границей города. Сегодня он находится почти в самом центре.
Проектировала его одна русская дама, и он представлял собой дикую смесь всех возможных стилей: впереди, на втором этаже, была лоджия с мощными колоннами коринфского ордера, а со стороны сада неуместная башенка в готическом стиле. Недоумение вызывало и расположение комнат: по замыслу русской все жилые помещения, за исключением столовой, находились на втором этаже, в том числе танцевальный зал. Родители не знали, что с ним делать, и в конце концов устроили в нем свою спальню.
Усадьба в Вахвице была одной из самых красивых в окрестностях Дрездена. Как и большинство подобных владений, по своему характеру выходящих за рамки буржуазной архитектуры, она сменила много хозяев. Построенная в конце XVIII века саксонским принцем Ксавером142, она в середине следующего столетия оказалась во владении замечательного дрезденца, известного филантропа Гюнца143, у наследников которого мой отец ее и выкупил144.
Поместье площадью с десяток гектаров представляет собой плато на горном склоне с прекрасным парком, садом и виноградником. Помимо обыкновенных теплиц, Гюнц устроил специальную оранжерею для ананасов, от которой очень скоро, еще в 80‐е годы, вынужден был отказаться по причине ее нерентабельности. Та же участь постигла и виноградник. Виноделие в окрестностях Дрездена, судя по всему, было выгодно лишь до принятия в Германии закона об охране товарных знаков. В те времена находившийся в Дрездене завод шампанских вин еще мог предложить саксонским виноградарям вполне приличные цены, поскольку из кислого вина делал прекрасное «настоящее французское шампанское».
Когда отец покупал Вахвиц, там уже производилось вахвицкое натуральное вино. Но поскольку спрос на него по понятным причинам оставлял желать лучшего, злополучный виноградник выкорчевали и на его месте насадили фруктовые деревья.
Сама вилла, выстроенная в стиле ампир и внешне напоминавшая замок, отличалась приятными, спокойными формами. Из окон и с балкона, а также с длинной террасы на склоне холма открывался на редкость красивый вид на город, Эльбу, Эрцгебирге и острые песчаные скалы Саксонской Швейцарии.
18. В гимназии Витцтума
На предварительном экзамене в гимназии Витцтума145 в июне 1874 года я показал такие слабые знания в немецком и латыни, что надежды мои быть принятым в пятый класс рухнули. Не помогли мне и мои более основательные знания по другим предметам, в том числе по русскому языку и основам славянского (церковнославянского, из которого сформировались связанные с византийской культурой славянские языки, то есть русский, украинский, болгарский и сербский). Мне пришлось все лето 1874 года брать частные уроки, чтобы к Михайлову дню быть принятым в третий класс (учебный год начинался после Пасхи), в то время как моего одаренного – и к тому же не пострадавшего от русских школьных экспериментов – брата Вильгельма приняли в шестой класс, хотя он был на три года младше меня.
Впрочем, пятый класс почти в тринадцатилетнем возрасте явно пошел мне на пользу. В отличие от России, в дрезденской гимназии никто не переоценивал моей способности восприятия и не требовал от меня каких-то феноменальных успехов; к тому же методы обучения были там более эффективными. Одним словом, у меня было такое ощущение, будто у меня сняли с глаз повязку, я легко, играючи усваивал любой материал. Я с благодарностью и любовью вспоминаю гимназию Витцтума, нашу «коробку», как мы называли здание гимназии, в котором замечательные педагоги научили нас ясно мыслить и заложили идеальные взгляды на жизнь.
Частью вступительного экзамена в гимназии было задание написать краткое сочинение о Москве. Изюминкой своего опуса я считал слово «приблизительно», которое присовокупил к цифре 600 000, сообщая о численности населения Москвы. Не знаю, разделял ли экзаменатор мой восторг по поводу этого «перла»; во всяком случае, он заметил, что слово Offizier146 я написал с одним f.
Похоже, я тогда был довольно высокого мнения о своем статусе и явно переоценивал ту меру уважения, которая, по моему мнению, мне полагалась147. Это проявилось в первый же день занятий, когда я явился на ежедневную утреннюю молитву, проходившую в актовом зале в присутствии коллегии учителей, без сборника псалмов, забыв его дома; в отличие от Вилли, который всегда был образцовым учеником. Увидев у него в руках сборник псалмов, я легко, прибегнув к хитрой аргументации, выдурил его у доверчивого брата. Я сказал ему, что для шестиклассника это не так уж важно, есть ли у него сборник псалмов или нет, а вот с пятиклассников совсем другой спрос, и он охотно уступил мне свою книжку.
После молитвы Целер, который готовил нас обоих к вступительному экзамену и хорошо знал как добросовестность Вилли, так и мое разгильдяйство, основательно просветил меня относительно моей завышенной самооценки.
В начале нового семестра после молитвы обычно проходила торжественная перекличка новичков. Им надлежало выйти вперед и, поприветствовав ректора, профессора Циля, рукопожатием, дать обещание быть хорошим учеником.
Когда назвали нашу фамилию, в классе раздался взрыв хохота, который стих лишь после нескольких грозных взглядов-молний ректора. Это веселье наших будущих товарищей по учебе объяснялось тем, что по старой традиции гимназисты называли учителей «шписами»148.
Вскоре мы подружились со своими одноклассниками. В нашем коллективе царил прекрасный моральный климат. Всякая ложь – я, разумеется, имею в виду не мелкое, шутливое плутовство или безобидные проделки, направленные друг против друга, которые вполне простительны для резвых, веселых мальчишек, – презиралась. На лгунов не доносили – их беспощадно лупили. Этот моральный климат отчасти объясняется тем, что в гимназии учились дети представителей богатой буржуазии, дворянства и даже высшей знати.
Преподавали в гимназии талантливые и опытные учителя. О некоторых я хочу сказать особо.
Только учитель французского языка, месье Лекутр, не смог найти правильную линию поведения в отношении нашего патриотического подъема, вызванного Франко-прусской войной 1870–1871 годов. Хотя он и был франкоязычным швейцарцем, мы относились к нему с презрением, как к представителю враждебной нации. Да и внешность его – длинная нескладная чахоточная фигура – не вызывала у нас симпатии. В конце концов он стал жертвой одной манифестации, произошедшей в моем четвертом, если не ошибаюсь, классе.
Дело было зимой. Урок французского стоял в расписании после получасовой перемены, которую мы провели в гимназическом саду, где запаслись снежками. Один из «злоумышленников» во время перемены довел старинную чугунную печку в классе до белого каления. Когда бедный Лекутр вошел в класс и занял свое место на кафедре, начался первый акт трагикомедии. Наш главный проказник, барон фон Мюнхгаузен, который, как отъявленный лодырь, должен был сидеть на первой парте, в непосредственной близости от кафедры, и, судя по всему, намеревался пойти по стопам своего знаменитого предка или однофамильца, принялся барабанить пальцами по крышке парты, изображая бурное соло на фортепиано, а весь класс вполголоса запел «Стражу на Рейне»149.
Бедный Лекутр, потрясенный этим актом враждебности, которой он, швейцарец, в сущности, не заслужил, сначала взирал на происходящее молча. Но когда начался второй «акт» представления – бомбардировка раскаленной докрасна печки снежками, которые с шипением таяли, отчего на полу мгновенно образовалась огромная лужа, – он попытался остановить безобразие, грозя серьезными наказаниями. Убедившись в тщетности этих попыток, он ретировался. Вскоре в класс вошел ректор и учинил нам страшный разнос. Бедный Лекутр, которого мы так больше и не увидели, навсегда исчез из гимназии.
Дисциплину и уважительное отношение к французскому восстановил знаток этого языка и очень толковый учитель доктор Кёниг. Он был офицером и сам прошел войну, поэтому ему не составило труда справиться с нами.
Моя учеба в четвертом и пятом классах проходила довольно успешно. После четвертого я стал первым учеником в классе, а через год меня перевели в пятый класс. Поскольку и мой брат Вилли был отличником, мы с ним приобрели своего рода ореол учености. Ректор даже заявил, что гимназия гордится тем, что приобрела сразу двух образцовых учеников из одной семьи.
Такая похвала из уст самого ректора оказалась для меня роковой. В отличие от моего брата, я постепенно настолько проникся уверенностью в собственном превосходстве над остальными, что становился все ленивей и наконец в течение трех последующих лет скатился, если мне не изменяет память, на одиннадцатое место в классе по успеваемости и жил, по сути, былой славой. Во всяком случае, переходя в шестой класс, я уже не мог рассчитывать на благосклонность учителей.
Если в пятом классе я быстро покинул горние выси, в которые воспарил благодаря своим сочинениям по немецкому в четвертом классе, то этим я был обязан учителю немецкого и Закона Божьего, доктору Вайзе, точнее чрезмерной предприимчивости, с которой я воспользовался одной из причуд этого доблестного теолога. Дело в том, что доктор Вайзе был настолько набожным, что всегда радовался, видя в наших сочинениях рассуждения религиозного характера, даже в тех случаях, когда подобные материи не имели к обсуждаемой теме ни малейшего отношения. Широко пользуясь этой его слабостью, я получал у него самые высокие оценки.
Когда я перешел в пятый класс, я в первом же сочинении прибегнул к упомянутой военной хитрости. Освещая тему, весьма далекую от вопросов теологии, я принялся скрупулезно доказывать существование Бога. Обычно учителя обсуждали наши сочинения, начиная с лучших. В тот раз доктор Буддензиг, к моему величайшему удивлению, начал не с моего опуса. Еще больше я смутился, не оказавшись ни на четвертом, ни на пятом и даже ни на пятнадцатом месте. Наконец меня осенило: «Доктор Буддензиг, видимо, решил поскорее разделаться с посредственными работами, то есть с остальными сорока сочинениями, чтобы затем торжественно объявить об их вопиющем убожестве в сравнении с сочинением Шписа», – подумал я и с гордым видом приготовился к триумфу.
Однако меня ждало жестокое разочарование. Доктор Буддензиг и в самом деле назвал мою фамилию последней. Но вместо похвалы я услышал суровые упреки в том, что я не справился с заданием, направив все усилия на поиски доказательств существования Бога, то есть писал о том, что не имеет никакого отношения к заданной теме.
В результате мне пришлось написать еще одно сочинение.
Этот доктор Буддензиг был замечательным педагогом. Поскольку он в свое время служил домашним учителем в семье прусского посла в Лондоне, графа Бернсторфа150, он обладал более широким кругозором, чем его коллеги.
Помню, однажды я поверг его в изумление. Как я уже говорил выше, мои приступы лени начались в пятом классе. Свою неподготовленность к уроку и невыполненные задания я отчаянно старался объяснить все новыми обстоятельствами, якобы помешавшими мне сделать это. И когда я в очередной раз принялся морочить ему голову, он удивленно посмотрел на меня и произнес следующий знаменательный монолог: «То, что все сказанное тобой – не что иное, как отговорка, мне понятно. Но меня поражает оригинальность этой версии. За свою многолетнюю практику я слышал столько отговорок, что удивить меня трудно, но такого изощренного вранья мне слышать еще не доводилось! За твою неистощимую фантазию я на этот раз прощаю тебе твою лень».
Кажется, мы с ним остались чрезвычайно довольны друг другом.
У нас были хорошие учителя истории: в младших классах доктор Мюллер, в старших профессор Дистель. Они прекрасно умели доступно объяснять сложные исторические процессы.
Географии нас учил доктор Эберт. У него была кличка Паппих151, не знаю почему. Главная особенность его методики заключалась в том, что он мертвые цифры «оживлял» понятными для нас примерами. Например, нам надо было запомнить, что численность населения Толедо составляет десять тысяч человек, а это число нам ни о чем не говорило, тем более что Толедо, столица древнего вестготского королевства, представлялось нам чем-то гораздо более внушительным. Но благодаря пояснению доктора Эберта, что это число равняется числу жителей хорошо известной нам Пирны152, мы быстро корректировали свое представление о сегодняшнем Толедо и его утраченном былом величии.
Большим оригиналом и превосходным учителем был классный наставник пятого класса профессор доктор Янковиус. Его нескладное тело – у него был небольшой горб и приподнятое правое плечо, отчего он обычно держал левую руку за спиной, – венчала классическая римская голова, украшенная к тому же ярким римским носом. Поскольку он любил на уроках грамматики произносить имя Гайус, мы за глаза называли его Гайус Янковиус Носус, но чаще просто – Янке.
Я никогда не забуду, как мы под руководством нашего славного Янке, с которым мы читали Цицерона и Ксенофонта, упражнялись в латинском синтаксисе, особенно когда он учил нас спряжению латинского глагола «быть убежденным».
Сопровождая слова уморительными движениями правой руки, выделяя голосом отдельные слоги и постепенно повышая тональность, он вдалбливал нам:
Mihi persuasum est
Tibi persuasum est
Gajo persuasum est
Nobis persuasum est
Vobis persuasum est
Romanis persuasum est153.
У Янковиуса не было жены, но было большое сердце.
Нам, гимназистам, разрешалось посещать кондитерские только в сопровождении родителей или родственников. В витрине одной маленькой кондитерской на Фердинанд-штрассе, которая давно превратилась в кофейню, я однажды увидел роскошные шоколадные пирожные «голова мавра». А я обожал эти пирожные.
Недолго думая, я вошел в кондитерскую, чтобы купить пирожное, и с ужасом увидел профессора. Тот с удивлением воззрился на меня. Я, быстро оправившись от растерянности, принялся беззастенчиво врать ему, что увидел его в окно и, уповая на его доброту, решился переступить порог кондитерской в надежде, что он позволит мне купить вожделенное пирожное.
Добрая душа! Он сам купил мне целых два пирожных и посмотрел на меня при этом приветливо-лукавым взглядом.
Еще большим оригиналом и добряком был профессор Полле, классный наставник второго класса. Мы называли его Поллуксом154, потому что он, как рысь, чуял безобразия, например шпаргалку или учебник на коленях под партой, и незаметно подкрадывался к «злоумышленнику». У него, всегда (из соображений экономии) одетого в серо-коричневую мантию, была голова пророка.
Это был self-made man155. Он не скрывал, что до двадцати пяти лет зарабатывал себе на жизнь, работая официантом. Обнаружив на одном из столиков кофейни, где он обслуживал студентов, перевод «Илиады» Гомера, он с жадностью прочел его и твердо решил стать филологом, чтобы читать древних авторов в оригинале! Еще будучи официантом, он сдал вступительный экзамен и благодаря своим скромным сбережениям начал учебу в университете.
Это тоже было характерной чертой нашей «аристократической» гимназии, что мы, несмотря на все «странности» профессора Полле, относились к нему с глубоким уважением, хотя и скрывали свои чувства за обычными мальчишескими проказами.
Одна из его странностей заключалась в том, что он любил называть себя философом и часто предавался пространным рассуждениям о понятиях, не имеющих отношения к учебному материалу (например, «Одиссее» Гомера). Так, он однажды сделал предметом дискуссии понятие «пиетет».
– По отношении к кому человек испытывает пиетет? – вопрошал он.
Встало чуть ли не полкласса, чтобы ответить на поставленный вопрос:
– По отношению к родителям.
– Хорошо. Очень хорошо, – откликнулся он. – А еще?
Все дружно молчали, прекрасно зная, какой ответ он хотел услышать. Он повторил вопрос.
Упорное молчание.
На лице нашего доброго Полле раздражение и разочарование. Случайно остановившись рядом со мной, он сердито восклицает:
– По отношению к кому еще должны испытывать пиетет хотя бы гимназисты?
Ледяное молчание.
– Тогда я сам вам скажу: по отношению к учителям! К учителям!
Гробовое молчание.
– Нет, это невозможно! – вдруг пробормотал я себе под нос, имея в виду сложившуюся ситуацию.
– Что? – воскликнул он. – Шпис, вы говорите, что это невозможно? Да, вы правы: пиетета, который вы должны испытывать, больше не существует. Но я рад, что вы в этом открыто признаетесь!
Он и в самом деле был этому рад. Таков уж был наш Полле.
Говоря о наших замечательных педагогах, не могу не упомянуть также профессора Майхофа, моего будущего зятя, и профессора Флекайзена.
Профессор Майхоф, известный как исследователь Плиния, позже стал ректором гимназии им. Св. Николая в Лейпциге156. Я узнал его, когда он замещал заболевшего профессора Полле. В гимназии все единогласно считали его самым выдающимся и уважаемым из наших учителей. Причина этого не в последнюю очередь заключалась в том, что благородство взглядов сочеталось у него с обходительностью. Майхоф был истинным джентльменом. Мне кажется, он был единственным среди наших учителей, носившим в то трезвое унылое время манжеты, причем даже пришитые к нарукавникам.
На такие мелочи молодежь обращает больше внимания, чем может показаться.
Большинство наших учителей отличались необыкновенным безвкусием туалетов. Безусловным рекордсменом в этом был старый добрый профессор Флекайзен, заместитель ректора и одновременно классный наставник первого класса, носивший мантию из того же коричневого легкого материала, из которого шили свои платья семь его дочерей. Кстати, в таких средневековых мантиях, единственным достоинством которых была их дешевизна, ходили только он и профессор Полле.
Профессор, судя по всему, был талантливым филологом, но как педагог не выдерживал никакой критики, если не считать того, что его неслыханная доброта сама по себе оказывала на учащихся облагораживающее действие.
Его лицо а-ля «Кладдерадач»157 (оно и в самом деле представляло собой почти точную копию лица с обложки этого журнала), особенно его приветливые, смеющиеся глаза, говорили, что нет такого прегрешения, которого бы он не простил.
В те дни, когда он замещал у нас заболевшего учителя, знаний у нас не прибавлялось ни на йоту, зато мы великолепно проводили время.
Среди моих сверстников было несколько подававших большие надежды мальчиков, которые позже стали знаменитостями или сделали блестящую государственную карьеру.
Самым одаренным из моих одноклассников я бы назвал Вильгельма фон Поленца158, ставшего романистом. К сожалению, он рано ушел из жизни, и это была ощутимая потеря для нашего народа.
Еще два моих товарища – барон Георг фон Омптеда159, тоже подвизавшийся на литературной ниве, и его брат Отто, ставший генералом160. Правда, оба однажды остались на второй год.
Особенно тесные узы дружбы связывали меня с графом Кристофом фон Витцтумом, будущим саксонским министром161. Он принадлежит к тем, по счастью немногим, людям, в которых моя в значительной мере мечтательная натура нашла предмет практического приложения. Но поскольку это «практическое приложение» выражалось исключительно в тайном поклонении, я не пытался сблизиться с ним. Позже я каждый раз испытывал радость от своих, к сожалению, нечастых встреч с этим тонким и умным человеком.
Очень милым мальчиком незаурядных способностей был граф Бото фон Ведель, принадлежавший к восточно-фризской ветви этого рода, которого я вновь увидел во время войны в Министерстве иностранных дел и в качестве посла в Вене162.
Еще одним моим товарищем по учебе, посвятившим себя дипломатической карьере, был тогдашний принц, потом князь Лихновский163. Он, как и граф фон Шеель-Плессен (который рано умер)164, считался главным представителем нашей высшей гимназической «элиты», будучи при этом очень общительным и, без сомнения, умным. В 1912–1914 годах я не раз видел его в Лондоне, где он пытался решить неразрешимую задачу – преодолеть существовавшие между Германией и Англией противоречия. В сущности, этот умный и не чуждый современным идеям человек был идеальной кандидатурой для решения подобных задач, но гонка военно-морских вооружений с Великобританией окончательно оттолкнула от нас англичан. Квадратура круга и ему оказалась не по плечу.
Для полноты картины я назову остальных «князей» одного только нашего выпуска, хотя они и не сыграли впоследствии никакой исторической роли.
Были у нас один или два отпрыска основанного Наполеоном I княжеского дома фон Лёвенштайн-Вертхайм-Фройденберг, тонкие, любезные юноши; один принц Сиццо фон Рудольштадт, который уже тогда обещал стать «вашей светлостью»165; и, наконец, принц (впоследствии герцог) Эрнст Гюнтер фон Шлезвиг-Гольштейн166, брат нашей будущей императрицы167. Принц Эрнст Гюнтер был одаренным человеком и в условиях конституционной монархии, как, например, Англии или Голландии, мог бы стать вполне приличным правителем. В начале его учебы в третьем классе в нем отчетливо видны были признаки безупречного домашнего воспитания, из‐за которого он инстинктивно, уже хотя бы в силу своей необыкновенной чистоплотности, держался от нас, «бюргерских детей», на некотором расстоянии. Но поскольку он, к своему несчастью, оказался за одной партой со мной и при этом значительно уступал мне в физической силе, я счел своим святым долгом радикально исправить этот недостаток его воспитания и кулаками внушить ему если не любовь, то хотя бы уважение к бюргерскому сословию. С тех пор он был милейшим товарищем.
Нужно признать, что некоторые, очень немногие из наших дворян отличались фанаберией, однако они были скорее исключением. Во мне еще в гимназические годы сложилось убеждение, что потомственное дворянство, включая высшую знать, представляет собой чрезвычайно важное достояние нашего народа – накопленные сокровища духа, деловых качеств и приверженности национальным традициям, – которое мы должны беречь как зеницу ока, если мы хотим остаться великой нацией. Возрождение нашего разрушенного Германского рейха – это прерогатива отнюдь не народных масс, а именно аристократии.
Два моих близких друга были из бюргерской среды. Оба стали офицерами. Один – Эрнст Зуфферт – получил тяжелую травму головы на скачках и с тех пор занимался живописью в Мюнхене, другой, Гарри Гётце, тоже прежде времени оставил военную карьеру из‐за слабого здоровья.
То обстоятельство, что я покинул гимназию с так называемым «однолетним» аттестатом, что я избрал в высшей степени необычное для гимназии Витцтума поприще – коммерцию – и вскоре после этого вернулся в Россию, стало причиной, по которой у меня ни с кем из моих дрезденских гимназических товарищей не было тесных и продолжительных контактов. Жизнь безжалостно разлучила нас.


