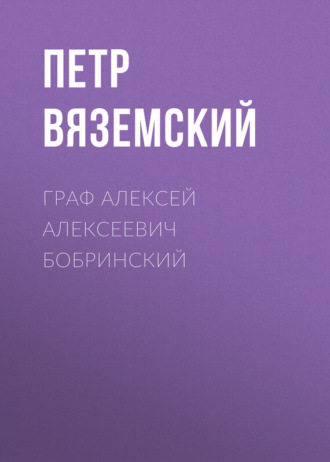
Петр Вяземский
Граф Алексей Алексеевич Бобринский
Около десяти лет не видались мы с Бобринским, даже не было между нами и письменного сообщения. Нечаянно судьба свела нас в Петербурге; он приезжал на время из деревни, я возвращался из-за границы. Мы встретились, как будто расстались вчера, как будто продолжая только что прерванный разговор. В этот приезд он возобновил свои прежния связи. Нечего и говорить, как приятели его ему обрадовались. Они убедились, что годы и болезнь не остудили прежнего пыла его, не истощили живых запасов внутренней его бодрости. В старом, то есть постаревшем, Бобринском нашли мы прежнего Бобринского, с некоторыми оттенками с летами нажитой опытности. Он был как будто еще более кроток, доброжелателен и дружелюбен. Конец пребывания его между нами омрачен был великою скорбью. Нечаянный и роковой удар поразил его в самую глубь сердца; болезненно отозвался он и в нас. Он получил известие о кончине нежно-любимой жены своей. Отправившаяся из России для восстановления расстроенного здоровья, она умерла в Париже. Их, несколько лет соединенных в деревне общею и постоянно-неразрывною жизнию, судьба разлучила, казалось, на время, как будто с тем, чтобы она пред кончиною своею не имела отрады пожать на прощании дружескую и милую ей руку, чтобы он не мог оказать ей последние нежные заботы и принять последний вздох жизни, ему цело, нежно и свято преданной.
Позднее съехались мы с ним летом 1867 года, в Ливадии, где прожил он недели две гостем Царского Семейства. Тут опять, разумеется, были мы с ним неразлучны: гуляли по живописным окрестностям, вспоминали свою старину и друг другу поверяли свои потаенные мысли и чувства.
Летом 1868 года, неожиданно встретил я его в Москве. Он приезжал туда печатать книгу свою: «О применении систем охранительной и свободной торговли в России». Не признавая себя законным судьей подобного труда, не буду оценивать его. Около двадцати лет прослужил я по ведомству министерства финансов; но, должен я сознаться, служил не по призванию, а по обстоятельствам. По мере сил и способностей своих старался я исполнят обязанность свою усердно и добросовестно, но исполнял ее без увлечения, без вдохновения; а некоторая доля вдохновения нужна и в применении к самым сухим занятиям. В этом-то и заключалось особенное свойство Бобринского. Он с вдохновением, со страстью принимался за всякое дело. Вычисления, цифры не пугали его. Но для меня истина цифр казалась всегда самою головоломною, наименее привлекательною, и даже наименее убедительною истиною. Он находил в них рычаг, которым поднимал и разрешал жизненные вопросы гражданского устройства: политическая экономия, статистика живут, действуют, господствуют цифрами. В молодости и зрелом возрасте, может быть, Бобринский и носил в себе некоторые зародыши благородного честолюбия; но с умиротворением годов и при опытности жизни они дальнейших ростков не пустили, а окончательно заглохли. Следовательно, в появлении книги его непозволительно искать тайных помышлений и личных видов. Справедливее будет признать в этом дело честного и добросовестного труженика. Ею достойно завершил он свою многостороннюю деятельность, свое желание и всегдашнее стремление быть полезным обществу.







