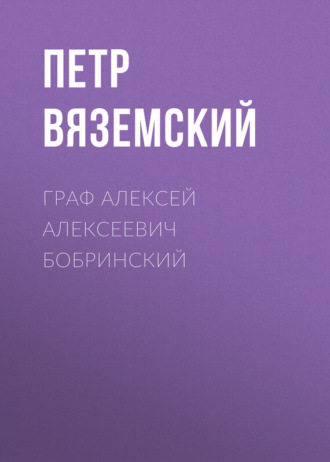
Петр Вяземский
Граф Алексей Алексеевич Бобринский
Мы уже заметили, что Графиня была домоседка. Муж её охотно принимал гостей у себя, но и сам охотно ездил в общество. В течение многих лет был он постоянным и блестящим посетителем столичных собраний Петербурга и Москвы. Утро его посвящено было пытливости, учению и хозяйственным делам, которые, по обширности и многосложной специальности, требовали неусыпных забот. Было время: утро его было исключительно посвящено службе. Помню, как мы с ним по соседству просиживали утро за департаментским столом – он в канцелярии по кредитной части, я по департаменту внешней торговли. В промежуточные минуты, рекреации, выбегали мы друг к другу, чуть-ли не с пером за ухом, чтобы обмениваться несколькими приятельскими словами и условливаться, как бы и где бы встретиться в течении дня. После урочных часов (должно признаться, что он всегда позднее меня засиживался) отряхивали мы с себя – он кредитные, я таможенные числа и, оправляя крылья свои, вылетали из своих клеток на чистый воздух. Часто встречались мы с ним в кабинете графа Канкрина, но уже не чиновниками, а внимательными слушателями его живой, остроумной и всегда своеобразной речи. Встречались мы часто и в доме графа и графини Фикельмон, которые оставили у нас но себе незабвенную память. Их салон был также Европейско-русский. В нем и дипломаты и Пушкин были дома. В то время было несколько подобных общественных средоточий, о которых ныне можно сказать: «преданья старины глубокой». Бобринский любил женскую аудиторию. Речь его была свободна, иногда цветиста, но чужда всякого педантства. Он довольно охотно и слегка преподавал слушательницам любимые предметы своего учения и новых открытий.
Так протекли многие годы. В 1856 году, Бобринский отправился в свое Киевское поместье, куда нередко вызывали его потребности личного хозяйственного надзора. Тут заболел он и заболел опасно. По первому известию о том, Графиня, почти никогда не выезжавшая из Петербурга, отправилась к мужу. С этой поры наступил решительный перелом в их образе жизни. Со дня отъезда её, всем нам знакомые и привлекательные дом в Галерной улице и дача на Каменном острову опустели. Хозяева их окончательно остались в деревне. Блестящая Петербургская жительница перенесла в свое уединение склонности, привычки, всю внутреннюю и внешнюю обстановку своей прежней жизни. Мне не удалось навестить их, но я уверен, что там устроилась эта vie de château (выражение, едва переводимое на Русский язык и пока на Русскую действительность), которою мы так любуемся в хороших Английских романах. Тут, во всей стройной полноте хорошо придуманной домовитости, складывается и перерождается светская жизнь: она очищена от всех столичных повинностей и тягостей, но сохраняет все вещественные и умственные удобства, не исключая и прихотей. А вместе с тем тут и независимость, и досуги, и спокойствие жизни деревенской.







