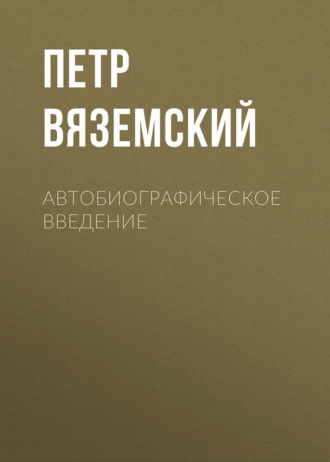
Петр Вяземский
Автобиографическое введение
Воля Пушкина, за благозвучность стихов своих не стою, но и ныне не слышу какофонии в помянутых стихах. А вот, вероятно, в чем дело: Пушкина рассердил и огорчил я другим стихом из этого послания, а именно тем, в котором говорю, что язык наш рифмами беден. – Как хватило в тебе духа, – сказал он мне, – сделать такое признание? Оскорбление русскому языку принимал он за оскорбление, лично ему нанесенное. В некотором отношении был он прав, как один из высших представителей, если не высший, этого языка: оно так. Но прав и я, упоминая о нашей рифмической бедноте. В доказательство укажу на самого Пушкина и на Жуковского, которые позднее все более и более стали писать белыми стихами. Русская рифма и у этих богачей обносилась и затерлась. Впрочем, не сержусь на Пушкина за посмертный приговор. Где гнев, тут и милость; Пушкин порочит звуки мои, но щедро восхваляет меня за другие свойства: не остаюсь внакладе.
Малозвучность и другие недостатки стиха моего могут объясниться следующим. Я никогда не пишу стихов моих, а сказываю их про себя в прогулках моих, в поездках, прежде в коляске, позже в вагоне. Это не вполне импровизация, а что-то подобное тому, импровизация с урывками, с остановками. В этой пассивной стихотворческой гимнастике бывают промахи и неправильные движения. После выпрямлю их, говорю себе, – и иду далее. А когда окончательно кладу надуманное на бумагу, бывает уже поздно; поправить, выпрямить не удается: поправить лень, да и жар просыл. Мало заботясь о них, отпускаю стихи мои на божий свет, как родились они, с своими хорошими приметами, если таковые есть, с своими недостатками и неправильностями, когда таковые окажутся.
Что говорю о стихах своих, могу вообще сказать и о прозе своей. Часто и ее задумываю, а после пишу. Таким образом, не слежу глазами за работою своею. Неточности ускользают от внимания моего: немалое ускользает и от памяти моей. Многие из стихотворений и прозаических страниц моих так и не увидели света божия и остались без чернильного крещения.
Здесь и там грешу недоконченностью отделки. Не продаю товара лицом. Не обделываю товара, а выдаю его сырьем, как бог послал.
Между тем если Карамзин и Пушкин бывали ко мне строги, то порою бывали и милостивы. Они нередко сочувствовал! плодам пера моего. Драли меня за уши, но гладили и по головке. То же скажу о Дмитриеве. Жуковском, Нелединском, Батюшкове, Баратынском, Дашкове, Блудове. С меня и этого довольно. Могу сказать, что я избалован был как строгими замечаниями их, так и похвальными отзывами. В самой строгой критике, когда она – основательна и сметлива, может быть слышно сочувствие.
X
Поверят ли мне или нет, но утверждаю, что собственно для публики я редко писал. Когда я мало-мальски в ударе, она мне и в голову не приходит. Впрочем, публика делится на два разряда; есть, что называется, читатели и есть просто читающие. Тут та же разница, что между пишущими и писателями. Нечего и говорить, что в том и другом случае большинство на стороне первых. Признаюсь, во многом я не прочь от меньшинства; разумеется, и числительная сила большинства имеет достоинство свое. Например, гораздо выгоднее иметь в кармане тысячу рублей, нежели десять рублей. Но едва ли не будет приятнее иметь за себя десять умных людей, нежели тысячу не совсем умных. Впрочем, о вкусах спорить нечего. Я и не спорю.
При таком настроении моем само собою разумеется, что я никогда не подыскивался, не старался угождать прихотям и увлечениям читающей публики. Не ставил себе в обязанность задобривать ее. В этом отношении за мною никакого художества, никакого сочинительства не бывало. Преимущественно писал я для себя, а потом уже для тесного кружка избранных обоего пола. В этом ареопаге не последнее место занимали мои слушательницы и читательницы. Критикой и похвалами этого кружка бывал я равно доволен. Первою я часто пользовался с повиновением; другими радовался, а иногда гордился. На долгом веку своем я так много трубадурствовал в честь красоты и милых женских качеств и прелестей, что не могу отклонить от себя и суд женщин, впрочем, почти всегда догадливый и сметливый. В эстетической и свежей древности недаром признавали владычество вдохновительных муз. Я человек старого слоя и покроя; от муз не отрекаюсь и верую в них. На критику печатную обращал я вообще мало внимания, с нею не советовался, ей не верил. Это неверие крепко держится во мне и ныне. Впрочем, настоящей критики, за редкими исключениями, у нас не было; нет ее, кажется, и теперь. Теперь еще менее, нежели прежде. Каченовские, Сенковские, Булгарины далеко не были светилами критики; но все же была в них некоторая литературная основа. Они кое-чему обучились, кое-что прочитали.
В старину, то есть в нашу молодость, выражение: залихватской, залихватское было в общем употреблении, преимущественно в простонародии и на офицерском языке. Ныне оно сделалось заштатным, как иные города, некогда цветущие в довольно многолюдные. Слово свое время выжило, но сущность его осталась. Она легко может быть применяема к литературе, и особенно к критике. – «Да ты сам тому виноват, – сказал бы мне Александр Тургенев, – ты сам дал тому пример в Телеграфе». – Может быть, скажу я. Но известно, что последователи худого примера всегда еще ухудшают его. Шалопайство пера гуляет по страницам журналов. Правда, есть и глубокомысленная, или головоломная критика, но попробуй ее – и провалишься.
Иной, например, ничему не учился, сделался самоучкою невежества своего. Но в уме, в замашках мысли его была какая-то бойкость и Русская сметливость; он кое-что угадывал. Но оставленное им по себе потомство наследовало от него одно обширное неведение; блестящие же качества его ускользнули от наследников. Влияние ложной школы, ложного авторитета утверждается в обществе с неимоверною скоростью и крепостью, как влияние прилипчивой болезни. У нас, например, встречаешь людей не без ума, не без дарования и общей европейской образованности, которые, не запинаясь, не заикаясь, ставят им подобного литературного выскочку рядом с именем Пушкина, а может быть еще готовы признать превосходство первого над последним, по благотворному влиянию, которое тот и другой оказали на ход литературы нашей. Что прикажете делать в виду подобной ереси? Впрочем, плоды ее очевидны и поразительны.
Сказанное мною – не сетования оскорбленного самолюбия, не придирки злопамятства. На моем долгом веку всего было довольно. И я жил в счастливой Аркадии, и меня хвалили, и мне кланялись журналы, и меня называли печатно остроумнейшим писателем. Все это дело житейское и бывалое. Скажу и я с Пушкиным: «Е sempre bene[16], господа!»
От журнальных похвал не раздувался я; от браней не худел. Позднее настала пора заговора молчания. Критически печать меня заживо похоронила; не потрудилась даже выставить надгробную надпись. Что же, почему и этому не быть? Мертвые срама не имут.
Les absents n'ont pas toujours tort, – сказал я когда-то, – mais ce sont les présents qui ont souvent tort.[17] Особенно в такую глухую пору, когда между отсутствующими числятся: Дмитриев, Батюшков, Жуковский, Баратынский и некоторые другие; когда Карамзин и Пушкин едва ли уже не откланиваются пред читающею публикою. Да господи боже мой, как был бы я глуп, если не умел бы ценить свое достохвальное исключение; могу только сказать с смирением и благодарностью, что не по заслугам моим такая честь мне оказывается.
В настоящих отношениях моих к критике и для полноты автобиографических заметок считаю не лишним сказать и следующее. Стороною доходили до меня слухи, что в некоторой печати хожу я под разными прозвищами, забавными и насмешливыми. Честью удостоверяю, что эти выстрелы в меня остались для меня промахами. Не имел я и не имею понятия о них. Мне даже прислали за границу для показа одну подобную статью. Так и лежит она у меня по сию пору недочитанная. Любопытство и щекотливость мои притупились. В старину любил я гарцевать в чистом поле, пред неприятелями своими. Ныне и эта охота отпала; да и прежде не самолюбие действовало во мне, а какая-то задорливость. Баратынский говорил про меня, что в моих полемических стычках напоминаю я ему старых наших бар, например, гр. Алексея Григ. Орлова, который любил выходить с чернью на кулачный бой. В этом случае сочувствиями и привычками моими колебался я между двумя сторонами. Карамзин и Жуковский подавали мне пример совершенного равнодушия и мирного бездействия в виду нападавших на них противников. Дмитриев, державшийся более ветхозаветных нравов и преданий, побуждал меня к отражению ударов и к битве. Пушкин, долготерпеливый до известной степени и до известного дня, также вступал иногда в бой за себя, за свое и за своих.
Если еще и ныне случается мне тряхнуть стариною, то, право, не из самолюбия, а просто оттого, что приходится мне невтерпеж, когда встречаю в печати мнения и ереси, возмущающие мою литературную совесть и нравственные убеждения мои. Ратую не за себя, а за то, что правду почитаю правдою. Пожалуй, найдутся добрые люди, которые скажут, что в словах моих сквозят сетования литературного крепостника, жалеющего о блаженных временах цензуры. Нисколько. Хотя довольно долго промышлял я делами цензуры, хотя в проезд мой чрез Берлин одна из наших заграничных непризнаваемых (meconnue) посредственностей, проходя мимо меня, и пробормотала про себя: «Вот идет наша русская цензура», но я до цензуры не безусловный охотник. Не безусловный поклонник и безусловных льгот свободной печати. Впрочем, желаю ей здравствовать и процветать, но с тем, чтоб цвет ее приносил зрелые и здоровые плоды. Не следует забывать, что льготы, дарованные печати, не всегда еще открывают путь истинным успехам литературы. Бывает и так, что они только развязывают руки самонадеянным посредственностям.
За границею получаю несколько русских газет и журналов, но, признаюсь, мало читаю их, а выписываю для очистки совести. Жизнь так коротка, а мой остаток ее так еще окорочен, что берегу время свое на чтение более полезное и приятное. Может быть, вследствие того я и виноват пред журналами и газетами нашими и пропускаю бессознательно многие сокровища, которые в них таятся. Но на ловца зверь бежит: как-то попадаю я чаще на след красного зверя политической или литературной бестактности, незнания первых элементарных правил литературного благоприличия; скажем откровенно одним словом, на глупость или на бессовестную неправду.
Нет сомнения, что и ныне есть в литературе нашей почетные личности, которые уважаю и мнением которых дорожу. Вполне признаю и ценю их суд, всегда готов советоваться с ними и покоряться советам их. Но не менее того, я как-то одинок в современной литературе нашей. Нет уже прежних спутников моих, ровесников, так сказать, единоверцев. Нет того полного сочувствия, которое развилось и окрепло на родной почве товарищества, общих привычек, понятий, склонностей, направлений. Теперь, когда напишу что-нибудь, чем я сам доволен и что кажется мне удачно, не чувствую потребности, влечения прочесть сгоряча написанное мною друзьям моим. Этих друзей уже нет. Мне, и радуясь собою, грустно радоваться одиноко. Не могу бежать к Батюшкову, Жуковскому, Пушкину, чтобы поделиться с ними свежим, только что созревшим, только что сорванным с ветки плодом моей мысли, моего вдохновения. Оценка их была бы и моею окончательною оценкою; одобрение их было бы освящением моей радости. Это одиночество, может быть, и есть повод к некоторому охлаждению к самому себе и, может быть, к малому сочувствию, а часто и равнодушию к тому, что у нас пишется.







