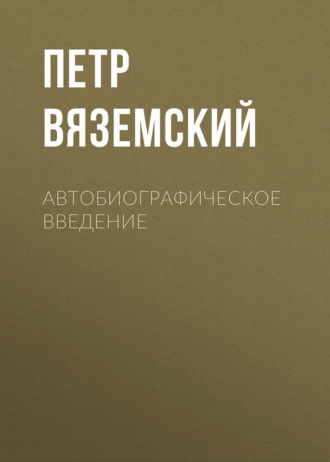
Петр Вяземский
Автобиографическое введение
Рожденный лавры жать и спящий на соломе,
В отечестве поэт, кондитер в барском доме,
Другой вельможам льстит, а я пишу тебе:
Как смел, Сибиряков, ты вопреки судьбе,
Опутавшей тебя веригами насилья,
Отважно распустить воображенью крылья,
И, званьем раб, душой в свободе вознестись?
Ты вздумал мыслить, ты, дружок, перекрестись!
Муз и читателей незваный собеседник,
Оставь перо свое, поди надень передник
И к барскому столу конфекты испеки, и пр.
Помнится мне, в этом послании было несколько удачных и сильных стихов. Списка с них у меня не осталось, как и многих стихотворений моих. Отыщутся они разве в богатом архиве покойного А. И. Тургенева. Этот освобожденный Сибиряков сделался после актером. О литературной деятельности его ничего не знаю. Вообще, сердце у меня не очень лежит к поэтам-самоучкам. Ломоносовых из них не выходит, а отчуждаются они от среды, им свойственной и в которой могли бы они быть полезными себе и своим, и насильственно ввергаются в коловорот, который, рано или поздно, разбивает их. По мне, и бедный Кольцов в этом отношении не исключение. Он без сомнения имел зародыш таланта; но этот зародыш принес более вреда ему, нежели пользы Русской словесности, Русская литературная публика моя в Варшаве заключалась в двух лицах: в молодом гвардейском офицере Литовского полка Гаабе, который тоже пописывал, и в Фовицком, состоявшем наставником при Павле Константиновиче Александрове. Он был очень образованный, хорошо знал Русский язык и Русскую литературу; принадлежал он литературному кружку братьев Княжевичей, Александра Измайлова и других. С ним мы очень сблизились; ему поверял я тотчас сметанные на живую нитку произведение свои, и часто пользовался умными и дельными замечаниями его. Он отбирал у меня мою стихотворную мелюзгу и отсылал ее к приятелю своему Измайлову в журнал Благонамеренный, где она и печаталась, помнится мне, безыменно. А что именно печаталось, – право, не помню. Другие мои произведения, несколько покрупнее, печатались в Сыне Отечества. Кстати о нем: я узнал в Варшаве, что и журнал, и издатель его Греч были, что называется, на дурном замечании у Государя, и вот по какому поводу я это узнал: известно, что виды и предположения Государя в отношении в Польше были многим не сочувственны в России. Приезд его в Варшаву и пребывание в ней порождали обыкновенно толки и слухи, более или менее неблагоприятные и более или менее неверные. Это волновало умы. Для предотвращения этих последствий, составил я докладную записку, в которой излагал я вред этих неверных слухов и пользу, которую могли бы принести печатаемые сведение о царском пребывании в Варшаве и вообще о том, что делается в царстве, и предлагал печатать эти более официозные, нежели официальные заметки в Сыне Отечества, журнале, имевшем наибольшее число читателей, Новосильцов совершенно одобрил записку мою и представил ее Государю. Император, прочитав записку, изволил отозваться, что Греч и журнал его очень неблагонадежны, и неблагонамеренны. Так попытка моя и кончилась.
Из Русского Варшавского общества был со мною особенно дружен и сочувствовал мне, как Русскому литератору, человек, вовсе не принадлежащий письменному цеху и даже не Русский, именно граф Нессельроде, близкий родственник покойного канцлера нашего. Он вступил в Русскую военную службу, кажется в 1813 году, в эпоху отрезвления и освобождения Германии нашими войсками. В Варшаве застал я его адъютантом Великого Князя. С первого взгляда нельзя было не обратить на него особенного внимания. Во всей внешности и осанке его было что-то средневековое рыцарское: высокого роста, держался он прямо, мало подвижно и несколько сурово. Он напоминал эти каменные рыцарские изваяния, которые красуются на старых гробницах в готических соборах. Внутренно были в нем также рыцарские свойства: благородство, правдивость (хотя Великий Князь шуткою и прозвал его иезунтом, потому что принадлежал он Римскому исповеданию), впрочем также если не совсем суровость, то строгость и серьезность, но смягчаемые изящною вежливостью, сердечностью и высоким сочувствием во всему прекрасному, образованному и художественному. В несколько лет совершенно научился он Русскому языку; в произношении его было что-то чужеязычное; но свыкся он с Русскою речью, говорил правильно и читал все Русское с понятливостью и толком. Именно все Русское, от Карамзина, Жуковского и Пушкина до Булгарина; получал все Русские периодические издания, сборники, альманахи, словари, грамматики. Не могло быть Немца и иностранца более и полнее обрусевшего, чем он, и заметить должно, обрусел он не в чистой и казенной России, а в Варшаве. Впрочем, также скоро обучился он и Польскому языку и ознакомился с Польскою литературою. Любил и уважал он Русских, но любил и Поляков. Полюбил Варшавскую жизнь и так сросся с нею, что и после отставки своей провел еще многие года в Варшаве и умер в ней в преклонных летах. Обрусел и Немецкий желудок его. У нас в доме упивался он кислыми щами и находил в них один недостаток, что они вовсе не хмельны: будь в них маленькая спиртная примесь и они были бы первый напиток в мире. Он был большой любитель музыки, которую знал хорошо. Аккомпанируя себе на клавикордах, он необыкновенно звучно и стройно насвистывал целые оперные арии. По странной случайности, имел я большое и решительное влияние на жизнь его. Несколько месяцев, по отъезде жены моей в Москву, оставался я, так сказать, холостым в Варшаве. Время было довольно глухое и больших собраний в городе не было. Хорошо мне знакомый Польский артиллерийский полковник, потерявший ногу на войне, Ледуховский был помолвлен на девице N. Он был очень добр и простосердечен. Однажды предлагает он мне познакомиться с невестою и старшею сестрою ее, также девицею и довольно взрослою. «Чувствую, прибавил он, что им должно быть скучно в постоянной беседе со мною: вы присутствием своим оживите наши однообразные вечера». Согласился я на предложение его, и с первого посещение водворился у них. Разумеется, на долю разговора со мною особенно выпала старшая сестра: чета влюбленных перешептывалась между собою. Не скажу, что сказал Пушкин обо мне и Татьяне в Онегине:
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
Нет, ни я не занял души ее, ни она моей не заняла. Но мы с нею совершенно не то что платонически, а очень просто прозаически и целомудренно сблизились. Это была приязнь двух лиц, которые друг другу пришлись по нраву и угодили друг другу. Подобная приязнь отличается от других приязней тем, что одно из двух лиц должно быть непременно женского рода. Подобные перекрестные приязни имеют особенную уживчивость и прелесть. Накануне отъезда моего в Россию, шутя, спросил я ее: кого после меня выберет она себе в cavaliéro servente, и указал ей на молодого Англичанина, который только что приехал в Варшаву. – Ошибаетесь, отвечала она: а если кто-нибудь из здешних мог бы решительно мне понравиться, то это Нессельроде. На другой день на прощание завтракали мы с ним. Я передал ему сделанное мне признание и, также шутя, пожелал ему счастия в раскрывающемся пред ним романе. Мой Нессельроде, который был уже далеко не первой молодости, покраснел до ушей, как пятнадцатилетний отрок, и с волнением сказал мне: «Как это странно! и мне она очень нравятся». – Тем лучше, отвечал я: по одной и той же дороге не мудрено вам будет сойтись. На этом мы расстались. Спустя некоторое довольно продолжительное время, получаю в Москве письмо от Нессельроде. Он напоминает мне наш прощальный завтрак, слова, мною ему сказанные, и уведомляет меня, что они решили участь его и что он помолвлен на девице N. Я предвидел, что из этого ничего хорошего не будет; что Нессельроде вообще с привычками и нравом своим вовсе не годится быть нужен, а девица N в особенности не годится в жены Нессельроде. Но делу, завязавшемуся по моему невольному почину, разумеется, перечить не следовало. Поздравил я счастливцев – и только. Год, или около года спустя, получаю опять от Нессельроде письмо, что par incompatibilité d'humeur, по несовместности нравов, он и жена его дружелюбно разъехались. Но по крайней мере временное их бракосожительство не осталось праздным. У них родилась дочь. В поэтические годы нашего человечества это рождение, вероятно, не обошлось бы без особенного небесного или другого знамения. Но в наш прозаический век дела совершаются проще. Явление поэтические, исторические события носят на себе отпечаток домашний. Гомеру между нами не пришлось бы создать Илиаду, а Овидию – поэму Искусство любить. Тот и другой, может быть, писали бы фельетоны, или передовые статьи в повременных листках. Как бы то ни было, дочь Нессельроде, которую в последствии времени знала вся образованная Европа, была существо одаренное богатыми, разнообразными и необычными способностями и силами. Во-первых природа создала ее красивою женщиною: уже это одно есть избрание и освящение. Польская и Немецкая стихии сливались в ней, но друг друга не изглаживали и не поглощали. Каждая из них выдавалась в стройной яркости своей. В ней была и вкрадчивая прелесть Сарматской женственности и тихое поэтическое сияние Германской Туснельды. Придайте к этому блеск Французской образованности, живую игривость ума и разговорчивости, и можно легко понять, что она должна была занять исключительное и почетное место везде, где бы она ни показывалась: в Петербурге, в Вене, в Берлине, в Париже, в Италии. Так оно и было. Искали знакомства ее и отличали ее и владетельные особы, замечательнейшие общественные люди, глубоко-умозрительные ученые, художники, и бедные, которым она помогала, и блестящая молодежь, которая покланялась ей и вздыхала по ней. Музыкальная стихия в ней также преобладала. Она была пианистка первого разряда: в игре ее была сила, бойкость, блеск и много чувства. При всем обольщении и, можно сказать, упоении исключительного положения своего и разнородных успехов, которые везде она пожинала, умела она сохранить свежесть и простосердечность чувства, оставшегося не растравленным и не задетым чарами, которые окружали ее. Из блестящей среды, в которой царствовала, переносилась она в тихий и скромный круг, где ожидали ее радушие и дружеский привет. И тут была она также разговорчива и увлекательна. Как сказочная царица заменяет свой золотой и яхонтовый венец венком из свежих полевых цветов, так великая актриса, господствующая над покорною толпою зрителей и поклонников, запросто, дома и посреди близких ей отдыхает от упоения побед своих и обольстительных головокружений сцены. Она обожала отца своего и отец ее нежно любил. Может быть, не совсем соразмерно с рамками статьи моей уделил я место очерку, мною здесь нарисованному; но изображение отца было бы как-то отрывочно, если не пополнить его присутствием дочери: так нераздельна была эта двойственность, а воспоминания о пребывании моем в Варшаве никак не могли миновать Нессельроде: они невольно и поминутно на него и наталкиваются.







