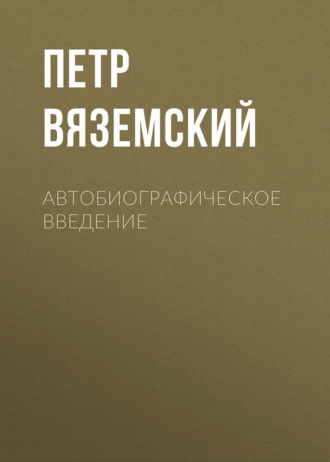
Петр Вяземский
Автобиографическое введение
Говоря выше о своих занятиях филологических, забыл я сказать, что в разные времена первой молодости моей изучал я и латинский язык и римскую литературу, особенно Овидия и Горация. В старых бумагах моих отыскиваю целые страницы, исписанные мною на латинском языке. Но латынь не далась мне, не укрепилась за мною, как вообще мало укрепляется она за нами, русскими. У нас нет ни исторической, ни народной почвы для латынства. Разумеется, не восстаю против изучения классических языков. Сохрани боже. Хочу только примером своим, и думаю, не исключительным, отметить, что учение это, как оно ни желательно, легко испаряется из нас, потому что оно мало применимо к действительности. Впрочем, был такой случай, что меня всенародно провозгласили и классиком. Расскажу его, в надежде, что он позабавит некоторых читателей, утомившихся моими частыми отступлениями. Однажды приехал я в свою костромскую вотчину, в известное в краю торговое и промышленное село Красное. В воскресенье, по совершении обедни, священник сказал мне и церкви приветственную речь. Говорил он с жаром, народ слушал с благоговением. Выхваляя мои гражданские и помещичьи доблести, продолжал он, указывая на мепя: «Вы не знаете еще, какого барина бог вам дал; так знайте же, православные братья! он русский Гораций, русский Катулл, русский Марциал!» При каждом из этих имен народ отвешивал мне низкие поклоны и чуть не совершал знамения креста. Можно себе представить, каково было слушать мне и какую рожу делал я при этой выставке и классической пытке.
Под конец – маленькая исповедь: перечитав написанное мною выше, вижу, что в некоторых местах отзываюсь и сужу я иногда довольно и, может быть, излишне резко. Сознаюсь и каюсь. Каюсь-то каюсь, но не исправляюсь. Так бывает и со многими покаяниями. Настоящая статья, как уже сказано, есть что-то вроде отчета за минувшее мое: род предсмертного духовного завещания. Пред смертью лукавить грешно и смешно; ни в мешке, ни в могиле шила не утаишь. Умолчания и упущения здесь неуместны; не хочу казаться хуже, чем я есть, но не хочу казаться и лучше; также не желаю никого оскорбить, но не желаю и задобривать. Человек, хотя несколько принадлежащий общественной деятельности на том или другом поприще, подлежит с своими хорошими и худыми качествами общественному суду: он его достояние и собственность. До поры и до времени не каждый вправе, не каждый имеет уполномочие касаться до этой собственности. Но самому можно распоряжаться собственностью своею, распоряжаться самим собою.
Был у меня приятель, даже друг: остались мы друзьями до конца; ныне уже нет его на свете. Он жил за границею. Император Николай бывал иногда недоволен грехами языка моего и давал мне это чувствовать. Приятель мой знал это; между тем портрет мой висел в кабинете его, который государь должен был занять в одну из своих заграничных поездок. Как тут быть? Оставить ли обличительный портрет как он есть или, для большей осторожности, снять его на время со стены? Наконец храбро и великодушно решился он на первое. Позднее говорил он жене моей, что хотел оказать себя пред государем в полной обстановке своей, и выгодной и неблагоприятной. Подобно и я: оставляю на стене портрет мой, во весь рост; ничего не утаиваю из него, ничего в нем не поправляю. Как я есмь и как он есть, так и останемся мы друзьями и благоволителям на память, другим на суд и порицание.
1878
Автобиографическое введение
(Конец главы VIII)[21].
Пока будут Польские женщины на свете, они могут петь:
«Ezce Poleka nie zginela».
В Польской женственности необычайная прелесть и прирожденная ловкость; в них много и простосердечности. Не говоря о молодом поколении, которое нашел я в Варшаве, но и женщины уже не первой молодости, умом своим и унынием им владеть и пользоваться, образованностию, особенною женскою сноровкою – были привлекательны. Помянем мимоходом некоторые имена: графиня Розалия Ржевусска, графиня Александра Потоцка, впоследствии г-жа Вонсович, жена того, который провожал Наполеона в санной Березинской прогулке его, княгиня Сульковска, графиня Жан-Потоцка, графиня Замойска и еще многие другие. Нельзя не упомянуть имена и исторических представительниц в новом обществе минувшего века, украшавших двор короля Станислава: княгиня Чарторыйска, княгиня Радзивилл, которая до конца жизни вплетала всегда розу в своя седые волосы и говорила: «c'est une rose qui fleurit dans la neige», графиня Станислав-Потоцка и Гутаковска, и в заключение этого списка наместница царства, княгиня Зайончек, которой загадочные лета терялись в сумраке доисторических годов, но ум был свеж, игрив, и все женские свойства, наклонности и уклончивости нисколько не поддавались давлению времени и ограничениям, которые влечет оно за собою. Не могу однако, без нарушения совести и сердечной памяти, пропустить в поминках моих некоторые молодые имена, которые так и просятся под перо: княгиня Терезия Яблоновска, девица графиня Мостовска (в последствии бывшая замужем за бароном Моренгеймом, а потом за Павлом Мухановым), и девицу Жанету Грудзинску, известную после под именем княгини Лович. Ею достойно увенчается мой поименный женский Варшавский список. Она не была красавица, но была красивее всякой красавицы. Белокурые, струистые и густые кудри ее, голубые, выразительные глаза, улыбка умная и приветливая, голос мягкий и звучный, стан, гибкость и какая-то облекающая ее нравственная свежесть и чистота. Она была Ундина; все соединялось в ней и придавало ей совершенно отдельную и привлекающую внимание физиономию в кругу подруг и сверстниц ее. Глядя тогда на нее, кто мог предвидеть блестящую участь ее и скорый, роковой и драматический конец этой молодой, но многоиспытанной счастием и скорбью жизни ее. Хорошие отношения мои к Варшавскому обществу остались неизменными до конца. Политика, то есть международная, или, если хотите, междоусобная оставалась совершенно в стороне. Могут быть при разномыслии такие жгучие вопросы, до которых дотрагиваться не должно, даже между приятелями и братьями, равно благовоспитанными и вежливыми. В общей и хорошо сознаваемой образованности есть так много точек сближения и сочувствий, что не зачем отыскивать и выводить наружу точек пререканий и преткновений. А между тем есть люди, вооруженные донельзя преувеличенными микроскопами, которые только и делают, что выискивают мельчайшие несходства и противоречия личные, общественные и международные, чтобы ставить между ими грани, столбы и предел, его же не прейдеши. Это обозначает необычайную узость и неподвижность ума.
В Варшаве был я в приязненных отношениях и с либералами и с консерваторами, с старыми Поляками, не покидавшими кунтуша, и молодежью, подчинявшеюся моде и лозунгу из Парижа; был я близок и с сановниками и с средними общественными слоями ученых, художников и актеров. Бог свидетель, что я популярности не заискивал и никакими уступками ей не мирволил. Но популярность сама вышла ко мне на встречу и осталась мне верна, даже по выезде моем из Варшавы. Нечего говорить, что сношения мои с Польскими литераторами скоро завязались. Патриархом их был тогда Немцевич; ничего озлобленного, непримиримого революционного в нем не было. Напротив, много было добродушия, кротости и признательности за приветливое и ласковое с ним обращение. Императрицы Екатерины он не любил, но очень любил Императора Павла. Это довольно натурально, даже и помимо всяких политических соображений. Екатерина посадила его в крепость, а Павел из нее выпустил. Впрочем, как с другими, так и с ним, беседы наши вращались на почве нейтральной, и преимущественно литературной. Позднее вмел я случай примирить два века, две школы, две противоположные знаменитости в лице старого Немцевича и молодого Мицкевича, с которым познакомился я в Москве. Мне удалось ввести их в переписку друг с другом. В доказательство, что в самых рьяных и ярых политических раскольниках могут сохраниться прежние отголоски мирного и человеческого настроения, приведем следующий пример: много лет спустя после пребывания моего в Варшаве и даже Польского восстания 1830 года, в котором играл он значительную роль, встретился я в Париже на улице с Немцевичем. Подошел я к нему; с начала не узнал он меня, но в след за обменом первых приветливых слов, спросил он меня с видимым участием: а что делает Машенька? это имя дочери моей, которую знавал он ребенком в Варшаве и всегда особенно ласкал. Воспоминание о ней и о доме вашем не затерялось в нем и пережило все волнения, все крутые перевороты, которые разгромились над родиною его и над нам самим уже в преклонной старости. Был я в приятельских сношениях и с другим поэтом с Моравским, которого талант имел, по мне, что-то общее с талантом Жуковского. Он очень удачно перевел известную подпись мою к портрету Императора Александра, которую гораздо позднее отыскал я вырезанную под бюстом Александра, в художественной дворцовой Флорентинской галерее. Перевод моих исторически-монархических стихов не помешал, однако, Моравскому стать под знаменем возмущения и вооруженною рукою действовать против законной и монархической власти. В пятидесятых годах встретился я с ним в Карлсбаде. Он откровенно и со скорбью сознавал, что в 30-м году Поляки сделали большую глупость и не умели оценить все благодеяния, оказанные им Русским правительством, и что в особенности оказались они неблагодарными к Великому Князю Константину Павловичу, который, не смотря на вспышки и взрывы, много сделал им добра и был к ним особенно благожелателен. Директором Варшавского театра был тогда Оссинский, поэт и преимущественно известный классическим и, по отзыву Поляков, великолепным переводом трагедии Корнеля: Le Cid. Варшавская сцена была богата отличными художниками. Театр был тогда для Поляков не только развлечением и забавою, но и священным историческим преданием и народным служением. Для меня был он особенно школою для изучения Польского языка. Театр и чтение Польских газет были мне в этом отношении большими пособиями. Литературные мои наклонности встречали в Русском обществе менее деятельных сочувствий и соприкосновений, нежели в Польском. Наши землями, за весьма редкими исключениями, были вовсе не литературного и грамотного настроения. Между тем, в то время, писал я довольно много стихами и прозою, особенно первыми. Помню некоторые произведения той эпоха: Уныние, Первый снег, два стихотворения, любимые Пушкиным, особенно первое, Послание к И. И. Дмитриеву, Послание к Жуковскому, заимствованное из сатиры Буало, Послание к Тургеневу, с пирогом, несколько неприличное и заносчивое Послание к Каченовскому, стихотворение Петербург (одно начало его было напечатано), Послание к Сибирякову, Негодование; три последние были написаны не в мятежном и не в ниспровергающем, а в либеральном и конституционном духе, или законно свободном, по выражению Императора Александра. Кто-то в Петербурге отыскал поэта-самоучку, кажется Ф. Н. Глинка, крепостного слугу провинциального помещика. Пошли переговоры об отпущении на волю слуги Аполлона. Но помещик не признавал баснословного начала, говорил, что этот слуга ему нужен, тем более, что он издержал на него довольно денег для обучения его кондитерскому мастерству, что стихотворству обучать его он и не помышлял, и наконец требовал за него довольно круглую сумму, если непременно хотят даровать свободу ему. Сумма была скоро собрана; я был в нее вкладчиком, да еще захотелось почтить неизвестного мне поэта посланием. Помню только первые стихи из него:







