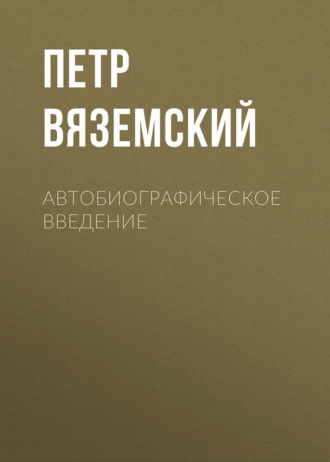
Петр Вяземский
Автобиографическое введение
О твердо-каменная грудь!
(Державин)
Мы любим идти напролом и наудалую. Запой русскому человеку есть не только физическая болезнь, она и нравственная. Мы почти все делаем запоем, и дурное и хорошее. Промывшись и отрезвившись, мы не отвечаем за сказанное и сделанное нами в припадке своем.
Вот слова Гоголя: «Из поэтов времени Пушкина отделялся князь Вяземский. Хотя он начал писать гораздо прежде Пушкина, но так как его полное развитие было при нем, то упомянем о нем здесь. В князе Вяземском – противоположность Языкову. Сколько в том поражает нищета мыслей, столько в этом обилие их. Стих употреблен у него, как первое попавшееся орудие: никакой наружной отделки его, никакого также сосредоточения и округления мысли, затем чтобы выставить ее читателю, как драгоценность. Он не художник и не заботится обо всем этом. Его стихотворения – импровизации, хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову. В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств: наглядна, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, ум, остроумие, веселость и даже грусть; каждое стихотворение его – пестрый фараон всего вместе. Он не поэт по образованию: судьба, наделивши его всеми дарами, дала ему как бы в придачу талант поэта, затем чтобы составить из него что-то полное. В его книге „Биография Фонвизина“, обнаружилось еще виднее обилие всех даров, в нем заключенных. Там слышен в одно и то же время политик, философ, тонкий оценщик и критик, положительный государственный человек и даже опытный ведатель практической стороны жизни, словом – все те качества, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем, и если бы таким же пером, каким начертана биография Фонвизина, написано было все царствование Екатерины, то можно сказать почти наверно, что подобного по достоинству исторического сочинения не представила бы нам Европа. Но отсутствие большого и полного труда есть болезнь князя Вяземского, и это слышится в самых его стихотворениях. В них заметно отсутствие внутреннего гармонического согласования в частях, слышен разлад: слово не сочеталось со словом, стих со стихом, возле крепкого и твердого стиха, какого нет ни у одного поэта, помещается другой, ничем на него не похожий; то вдруг защемит он чем-то вырванным живьем из самого сердца, то вдруг оттолкнет от себя звуком, почти чуждым сердцу; слышна несобранность в себя, неполная жизнь своими силами; слышится на дне всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человека, одаренного способностями разнообразными и очутившегося без такого дела, которое бы заняло все до единой его способности, тяжелее участи последнего бедняка. Только тот труд, который заставляет целиком всего человека обратиться к себе и уйти в себя, есть наш избавитель. На нем только, как говорит поэт:
Душа прямится, крепнет воля,
И наша собственная доля
Определяется видней».
(Полн. собр. сочин. Н. В. Гоголя. Москва, 1862. III, стр. 459-460).
Уф! Задыхаюсь и изнемогаю и от похвал, которые навалил на меня Гоголь, и от протяжности периода, в котором он, одним духом, сколотил все эти похвалы. Вот куда следовали бы точки и двоеточия, которых требовал от меня Дмитриев. Выпискою нашею хотели мы указать на преувеличение, которым увлекался автор. Мы сердечно благодарны ему за лестный отзыв обо мне и о труде моем. Если сбавить и наполовину все то, что им сказано, то и тогда еще будет с меня избыточно довольно. Но разберем критически эти похвалы.
Во-первых, какую можно определить равномерность между биографиею частного человека и историею долгого и славного царствования великой государыни?
Во-вторых, положим, что история, написанная мною, была бы удовлетворительна, почему ничего подобного, по достоинству, исторического сочинения не представила бы нам Европа! Вот здесь наталкиваемся мы на великороссийское самохвальство.
Писать историю, даже роман, мне никогда в голову не приходило. Однажды, по кончине Пушкина, император Николай, в благоволительном разговоре со мною, спросил меня: не возьмусь ли я продолжать труд Пушкина относительно истории Петра Великого? С благодарностью, но и с сознанием способностей и недостатков своих, отклонил я милостивое и лестное предложение.
В том же месте Гоголь после больших похвал не скупится и на укоризны. Между прочим говорит он: «Отсутствие большого и полного труда есть болезнь князя Вяземского». С этим приговором я совершенно согласен, но с оговоркою. Полно, болезнь ли это? – скорее разве недостаток, да и то, когда сей недостаток сознаваем самим человеком, когда, глядя на других, не затевает он труда выше сил своих, то эта мнимая болезнь есть, напротив, признак здоровья, а недостаток есть сила здравомыслия. Лучше казаться тщедушным, но быть здоровым, нежели казаться здоровым, а на деле оказаться больным.
XII
Теперь несколько слов о самом издании всего написанного мною в прозе. О стихотворениях речь впереди. Первый встречаемый вопрос есть тот: всего ли меня печатать или только выборку из меня? С своей стороны я более держался последнего соображения. Но благоприятели мои, которые приняли на себя труд собрать воедино разбросанное стадо мое, порешили иначе. Покоряюсь воле их. Издание некоторых стихотворений моих под названием «В дороге и дома» совершилось также без прямого или исключительного участия моего. Оно составлено по почину и главному распоряжению покойного Лонгинова. Я был тогда за границею, по болезни моей, и, признаюсь, оставался довольно равнодушен к исходу этого предприятия. Вполне благодарен я издателю за труд, добросовестно и с умением им исполненный; но скажу откровенно, что я не совершенно согласен с ним относительно выбора его из моих стихотворений. Иного не внес бы я в избранное собрание, другое, как, например (исчисляю их по памяти): «Уныние», «Первый снег», «Послание к Денису Давыдову», «Прощание с халатом» и некоторые другие стихотворения, по сочувствию моему, имели бы более права на перепечатание, нежели другие, попавшиеся в книгу.
О нынешних добродеющих издателях моих скажу, что они, может быть, и правы, издавая и предавая меня на суд читателей целиком. Литературная жизнь писателя есть также своего рода жизнь человека. «Еже писах, писах»: что прожил, то прожил. Выходи на этот суд, каков ты ни есть. Судья, то есть читатель и критик, присудят сами, что должно тут пойти на правую сторону, что на ошую; я же тут при решении суда и приговоре остаюсь в стороне. Впрочем, меня будут судить задним числом, по большой части не меня настоящего, а меня некогда бывшего. Со всем тем скажу откровенно и без лицеприятия, а в общем значении, что собрание сочинений моих может иметь некоторое законное основание, sa raison d'etre. Я все-таки, хорошо или худо, был человеком литературным, ничего из человечески-литературного не было мне чуждо. Из классического образования своего помню изречение: Homo sum…
Нас на Руси вообще немного. Пробелов оставлять не подобает. Как уже сказал я: в природе пустых мест нет, и все во всем, следовательно, есть место и мне.
Кажется, довольно откровенно говорил я о своих писательских недостатках: был я судебным обвинителем своим; да позволено мне будет быть присяжным стряпчим за себя и выставить то, что признаю добрыми качествами своими.
Начну с того, что, отыскивая в себе собственное, коренное, родовое, я нахожу, что ничего не перенимал я, никому раболепно не следовал. Скажу с французским поэтом: рюмка моя маленькая, но пью из своей рюмки. А что рюмка моя не порожняя, тому свидетель Пушкин. Он где-то сказал, что я один из тех, которые охотнее вызывают его на спор. Следовательно, есть во мне чем отспориваться, Пушкин не наткнулся бы на пустое. Споры наши бывали большою частью литературные. В политических вопросах мы вообще сходились: разве бывало иногда разномыслие в так называемых чисто русских вопросах. Он, хотя вовсе не славянофил, примыкал нередко к понятиям, сочувствиям, умозрениям, особенно отчуждениям, так сказать, в самой себе замкнутой России, то есть России, не признающей Европы и забывающей, что она член Европы: то есть допетровской России; я, напротив, вообще держался понятий международных, узаконившихся у нас вследствие преобразования древней России в новую. И мне иногда хотелось сказать Пушкину с Александром Тургеневым: «Да съезди, голубчик, хоть в Любек».
Есть у меня свойство, которое можно назвать погрешностью, но можно назвать его и избытком. Я держусь последнего определения. В статьях моих, вообще во всем, что пишу, встречается много вводных подробностей, отступлений от прямого содержания, замечается какая-то штучная, наборная, подборная, нередко мозаическая работа. Я как будто боюсь не успеть другой раз высказать все, что у меня на уме: не верую в завтрашний день и спешу сегодня же высыпать весь мой мешок. Оно так. Это, разумеется, вредит общему построению и единству изложения моего; но зато оно придает сытность содержанию. Кормлю гостя моего разнородностью пищи и следую поговорке: что ни есть в печи, все на стол мечи.
Позволяю себе неологизмы, то есть прибавления к «Словарю Российской академии»; но по крайней мере, мне так кажется, вольности мои не произвольны, а вытекают обыкновенно из самого состава и наказа языка. Например, – и за примером идти недалеко – за несколько строк пред сим употребил я слово сытность, которого нет в наших словарях, даже и у Даля. А этому слову следует быть, потому что есть слово сытный. Сытность имеет другое значение: сытность может произвести сытость – то есть что-то вроде пресыщения. Я полагаю, что почти все прилагательные наши могут быть преобразуемы в существительные нарицательные. Почему из слова прекрасное не сделать нам слово прекрасность, как мы из будущее вывели будущность; прекрасность выражает свойство красоты. И так далее. Есть неологизмы и чужесловия, которые просятся в наш язык или скорее на которые напрашивается наш язык. Смешно, из какого-то педантизма или патриотизма, не оказывать им гостеприимства; мы все полагаем, что наш язык очень богат. Согласен, но во многом он и беден. Разумеется, хозяину должно уметь выбирать гостей своих, а не растворять двери настежь пред всяким сбродом. Ненужные иностранные слова в русской речи одна пестрота; но есть и нужные заимствования, иногда и нужные нововведения.
Ум мой воспитан и образован во французской школе. Я учился и другим иностранным языкам, занимался по временам немецкою, английскою, италиянскою литературою; но все это были более или менее случайные знакомства. Связь моя укрепилась с одною французскою литературою, особенно минувшего столетия. Это, кажется, сильно отозвалось во мне. Вообще я не полиглот, не Мезофанти, с которым был я знаком в Риме и который писал мне русские стихи. Но при всем моем французском отпечатке, сохранил или приобрел я много и русского закала. Простонародные слова и выражения попадались мне под перо, и нередко, кажется, довольно удачно. Впрочем, за простонародней никогда и не гонялся. Русский ключ, который пробивался во мне из-под французской насыпи, может быть, придавал речи моей какую-то своеобразность и свежесть. Тут было и что-то родовое и наследственное. Мой отец был русским представителем французской образованности. У него была обширная библиотека, состоящая наиболее из французских книг. С ними познакомился я очень рано. Впрочем, я много прочел и русских книг. Когда Жуковский готовил издание «Образцовых сочинений», я много помогал ему и перерыл целую кипу русских книг, особенно старого времени. Впрочем, кажется, и в самом уме моем есть какой-то русский сгиб и склад, которые не затерлись от обращения с чужеземными влияниями. Эта смесь французского с нижегородским, над которою смеялся Чацкий, имеет, может быть, свою и хорошую сторону.







