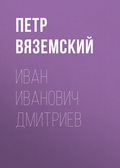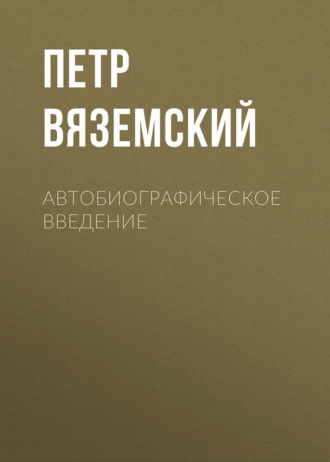
Петр Вяземский
Автобиографическое введение
Забыл я сказать, что Новосильцов имел намерение отправить меня прямо к Государю с изготовленною работою нашею, для объяснений по редакции, если Государь потребовал бы их. Но канцелярские интриги этому помешали. Уже позднее, и то совершенно случайно, довелось мне иметь вышеупомянутую беседу, для меня достопамятную. Но нет медали, у которой не было бы своей обратной стороны. Где-нибудь и когда-нибудь, если Бог даст, расскажу, как благоволительное обращение Государя со мною, ни по летам моим, ни по официальному служебному положению моему, не имевшим на то права, обратилось позднее в неудовольствие на меня.
Впрочем, скажу заранее, что тут было много моей вины, то есть недосмотрительности, неосторожности, а еще более виноваты были в том посторонние влияния и неблагоприятные обстоятельства. Государь не мог поступить иначе: он должен был вызвать меня из Варшавы; но в то же время велел он сказать мне чрез Карамзина, что всякая другая служба остается для меня вполне открытою.
VIII
Вышесказанное мною вообще относится до пребывания моего в Варшаве и до некоторых обстоятельств, вытекающих из этого пребывания. Хочется мне несколько остановиться на этом и определить Варшавский период жизни моей, тем более, что он имел довольно важное влияние и на многие последовавшие за ним годы. К тому же, не был он чужд и литературной деятельности моей. По распущении Московского ополчения, оставался я в Москве в службе, не в службе, в отставке, не в отставке, а причисленный по прежнему к межевой канцелярии, или, вернее сказать, не отчисленным от нея. Начальник сей канцелярии, сенатор Обресков, при котором я служил, умер в 1814 году. Время было не до канцелярских строгих порядков и взысканий; но я не думал выяснить свое служебное положение: ни служба, ни начальство не заботились обо мне. Наступил 1817 год. Приехал в Москву генерал, Мих. Мих. Бороздин, в свое время блестящий воин на полях сражений и равно блестящее лице в салонах обеих столиц. В детстве моем заглядывался я на него, и любовался красивою и мужественною наружностью и отличающейся от других изящною и щегольскою осанкою. Он был один из ближайших приятелей отца моего, который шутя прозвал его Неаполитанским королем, по поводу предводительства его Русскими войсками в Неаполе в царствование Императора Павла. Заметим уже кстати и мимоходом, что отец прозвал вместе с ним Польским королем и известного в царствование Екатерины II Корсакова, который очень дорожил орденом Польского Белого Орла и никогда не снимал его с себя. Отец мой говаривал, что ему очень приятно и лестно играть у себя дома в бостон с двумя величествами. По приезде в Москву Бороздин отыскал меня и очень обласкал, как сына приятеля своего. Он дружески укорял меня в тунеядстве моем и говорил, что в молодых летах сыну Андрея Ивановича стыдно бить баклуши и быть каким-то Митрофанушкою, недорослем в обществе. К тому же времени приехал из Варшавы и Новосильцов, вызванный Государем, который тогда со всем Двором имел пребывание в Москве. Бороздин был приятелем и Новосильцова. Вероятно, говорил он ему обо мне; однажды пригласил он меня обедать с Новосильцовым, представил и, так сказать, без особенных предварительных объяснений со мною, передал меня ему на руки. Новосильцов благосклонно принял меня: участь моя была решена, если не против воли моей, то так сказать почти мимо воли моей, но однако же не без признательности к участию, принятому во мне старым приятелем отца. При расставании моем с Москвою и беззаботною жизнию моею написал я стихотворение: «Прощание с халатом», которое было тогда же напечатано в журнале Сын Отечества и имело некоторый успех. До Варшавы знал я почти одну Москву: в Петербург наезжал я только на короткое время, за границею же не бывал. Варшава, когда блестящая, не только мирная, но и празднующая перерождение свое, повеяла на меня незнакомым, новым воздухом. Я скоро и легко акклиматизировался, да иначе и быть не могло. Почин мой в Варшаве был самый благоприятный. В Новосильцове нашел я начальника, которого лучше и придумать нельзя, начальника, чуждого всякого начальствования. С первых дней приезда моего, я сделался у него домашним; в течение нескольких лет, до дня отъезда моего, эти отношения ни на один день, ни на одну минуту не изменялись, Даже и после, когда уведомлял он меня, по Высочайшему повелению, что не должен и не ногу я возвращаться в Варшаву, официальное письмо его запечатлено было чувством благорасположения его во мне. Государь, в тоже самое время приехавший из Москвы для открытия первого Польского сейма, был во мне отменно внимателен и милостив. Он даже изволил удостоить жену и меня своим августейшим посещением. Правда, сказали мне тогда, что царское посещение относится вообще к хозяйке дома, а не к хозяину, который, как отцы при крестинах детей своих, должен блистать отсутствием своим; но бессознательное нарушение мое придворного этикета и приличия сошло благополучно. Государь был очень весел и разговорчив. Между прочим изволил он спросить меня: прочел ли я историю Карамзина, которая только что вышла в печати. На мой ответ, что еще не успел я прочесть, Государь, с видом какого-то самодовольства, сказал мне: «А я прочел ее с начала до конца». Еще до Варшавы Государь явил нам знак благоволения своего. Дорогою, где-то в Царстве Польском, обогнал он нас, узнал, велел коляске своей остановиться и вышел из нее, на встречу к нам, также вышедшим из кареты. Государь был бодр, свеж и тщательно и красиво убран и одет, как будто бы выходил из уборной комнаты своей в Зимнем дворце. Я ехал больной, чуть ли не в халате, не мытый, не бритый, неряшливый. Дорогою, перед тем, пролежал я, больной простудою и колотьем в боку и в груди, в каком-то местечке; нем не было никаких пособий и помощи: ни доктора, ни хорошей воды, ни белого хлеба, ни уксуса. Как-то уже дня три, или четыре спустя, гродненский губернатор, узнав о болезни моей, прислал нам белый хлеб, лимоны и другие припасы и снадобья. На другой день приезда нашего в Варшаву Государь изволил прислать нам фельдъегеря осведомиться о здоровьи моем. Он же уведомил и Новосильцова, что новый чиновник его едет к нему больной. Для людей, опасающихся начинать и предпринимать что-нибудь в понедельник, замечу, что мой пример может подкрепить их суеверье. В Москве все было уже готово к нашему отъезду в Варшаву. Но теща моя, П. Ю. Кологривова, давала бал в воскресенье, в честь Государя и царской фамилии. Неловко было уехать до бала. А между тем скорый отъезд Государя и предварительный отъезд свиты его угрожали вам препятствиями и частыми и долгими остановками по почтовому тракту. Я сам питаю некоторое почтительное отвращение в отношении к понедельнику. Таким образом детей наших отправил я вперед в воскресенье, чтобы застраховать их от худого наития понедельничного глаза, а сам предал себя на волю Божию и решил, что мы выедем тотчас после бала, то есть на рассвете понедельника. Так и было. Этот крутой переворот из бальных платьев в дорожные, из блеска многолюдного праздника в дорожную повозку внушил мне тут же стихотворение, Ухаб, которое, помнится, напечатано в Сыне Отечества. Начинается оно так:
Над кем судьбина не шутила,
И кто проказ ее не раб?
Слепая приговор скрепила,
И с бала я попал в ухаб.
В ухабе, сидя как в берлоге,
Я на досуге рассуждал.
И в жизни, как и на дороге,
Ухабов много насчитал.
Далее не помню.
Но возвратимся к зловещему понедельнику. Не только крепко захворал я дорогою, но в Несвиже, где ночевали мы, нас совершенно обокрали: платья, несколько тысяч рублей, лежавших в мешке, и разные другие предметы дорожные, или хозяйственные, которые везли мы в Варшаву, все было дочиста прибрано и похищено. Чтобы иметь возможность ехать далее, жена должна была заложить, для выручения некоторой суммы, разные свои кольца, серьги и ценные вещи. По счастию, догнал нас И. С. Тимирязев, – тогда адъютант великого князя Константина Павловича, и сжалясь над бедствием нашим, ссудил нас двумя тысячами рублей. Avis au lecteur. Вот что значит пускаться в путь в понедельник.
Приезд Государя в Варшаву еще более оживил ее. Поляки впечатлительны: на них сильно и горячо отражаются и радость, и горе; свита Императора была многолюдна и блистательна: князь Волконский, граф Уваров, Милорадович, Остерман, князь Меншиков, генерал Потемкин, любимец Семеновского полка и гвардии, граф Чернышов и многие другие, более или менее известные, военные лица; по части гражданской граф Каподистриа с двумя своими правыми руками: графом Матушевичем и Севериным; государственный секретарь Марченко с Арзамасцем Жихаревым. Все съехались, более или менее, доброжелательными и вежливыми гостями; даже и не совершенно сочувствующие возрождению Польши увлекались новостью и блестящею обстановкою зрелища. Пред ними, как и предо всеми, ставилась и разыгрывалась новая драма. На военных же особенно отсвечивались славные дни недавних побед и вступления в Париж Победителя.
IX
Но пора спуститься с временного подножия человека полуполитического, куда попал я, на смиренный участок, которым наделен я в области литературной.
Странное дело: очень люблю и высоко ценю певучесть чужих стихов, а сам в стихах своих нисколько не гонюсь за этою певучестью. Никогда не пожертвую звуку мыслью моею. В стихе моем хочу сказать то, что сказать хочу: о ушах ближнего не забочусь. Впрочем, кажется, мы придаем музыкальности стиха уже излишнюю ценность. Другие языки в этом отношении свободнее или равнодушнее нашего стихотворческого языка. У них буквы, слоги однозвучные сталкиваются друг с другом, и горя нет. А мы тщательно и боязливо оберегаем от всякой встречи, боясь столкновения. Еще один мой недостаток: не обращено внимание на то, что не все может и должно выражаться поэтическим языком. Стих капризен и щекотлив: он не все выдерживает, не все выносит. И в природе и в картинах Поля Поттера коровы очень красивы, по седло им нейдет; мысль, может быть и правильная и даже блестящая, но рифмою оседланная, она теряет цену свою, а поэзии цены не придает. Где-то сказал я:
Язык богов, язык святого вдохновенья,
В стихах моих язык сухого поученья.
Впрочем, если и увлекаюсь певучестью поэзии других, не отрекаюсь совершенно и ныне от так называемой дидактической поэзии. По мне, Буало в «L'art poetique»[14] и в сатирах своих тоже поэт. Сознаю, что упрямство, мое насильствование придают иногда стихам моим прозаическую вялость, иногда вычурность. Когда Вьельгорский просил у меня стихов, чтобы положить их на музыку, он всегда прибавлял: только, ради бога, не умничай. Вьельгорский именно в цель попал. В стихах моих я нередко умствую и умничаю. Между тем полагаю, что если есть и должна быть поэзия звуков и красок, то может быть и поэзия мысли. Все эти свойства, или недостатки, побудили Пушкина, в заметках своих, обвинить меня в какофонии: уж не слишком ли? Вот отметка его: «Читал сегодня послание кн. Вяземского (видно, он сердит, что величает меня княжеством) к Жуковскому (напечатанное в „Сыне Отечества“ 1821 года). Смелость, сила, ум и резкость; но что за звуки! Кому был Феб из русских ласков, – неожиданная рифма Херасков не примиряет меня с такой какофонией»[15].