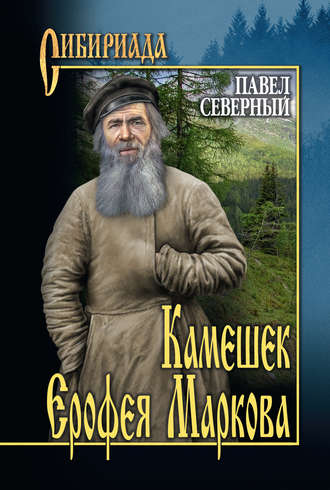
Павел Северный
Камешек Ерофея Маркова
– Дожидаюсь, когда начнешь рассказывать.
– А к чему у тебя больше интерес?
– Начни хотя бы с того, как у Зарубиных пироги ела.
Харитонова широко открыла удивленные глаза, сокрушенно покачала головой:
– Слыхала?
– Смотря о чем.
– Про себя слышала?
– Слышала, что Плеткин меня на людях назвал своей любовницей. Рассказывай.
– Уволь. Не люблю сплетни густить.
Ксения засмеялась:
– Как очевидица рассказывай. Выпей для храбрости и начинай, не крестясь…
Ксения пошевелилась в кресле, а от ее движения Харитонова даже поежилась.
– Нервная ты стала, Марья Львовна. Рассказывай мне гольную правду, ни о чем не утаивай.
– Сама велишь. Ежели чего не поглянется, не серчай. Пьяным-пьяно было вчерась у Зарубиных. Пироги пекли. За столом уместилось двадцать четыре души. Плеткин к концу ужина явился. Прикатил без благоверной и шибко на взводе.
– Пьяный?
– Ну да. Покачивался. Садясь за стол, старухе Сидельчихе платье вином окатил. Та на него крик подняла. Угомонилась только, когда Плеткин пообещал ей новое платье из столицы привезти. За столом стал он хвастаться, как свою жену в крепком решпекте держит. Молодой инженер Хохликов вступил с ним в спор. Доказывать стал, что домострой – подлость. Слово за слово – и спор разгорелся не на шутку. Гости стали их подзадоривать. Одним словом, стали в огонь масла подливать.
– Зарубин что говорил?
– Прокоп Зарубин молчал. Только хмуро на всех поглядывал. Плеткин, выпучив глаза, стал поносить Хохликова, а под конец и высказал: «Ты, говорит, еще щенок меня уму обучать. Тощаешь от светлых идеалов. Сохнешь по столичной вдовушке Ксюше Карнауховой. Как на икону на нее молишься. А я тебе вот что скажу. Самая она обыкновенная смазливая бабенка. Нет в ней ничего особенного, хотя и была замужем за столичным сановником…» Хохликов ГІетюша от его слов как бумага белым стал. Не стерпел парень и заорал на Плеткина, что не смеет он так об тебе говорить. А Плеткин как расхохочется да и сказал, от чего все за столом обмерли: «Говорить про нее я все смею, потому Ксюшка была моей полюбовницей. Ежели кто не верит, сами у нее спросите». Родимая! Что туг за столом сделалось. Содом и Гоморра. Хохликов Петюша, утеряв разум, кинулся на Плеткина, стал его хлестать по морде. Так молотил, что из плеткинского носа сурик потек.
Ксения поднялась с кресла, прошлась по комнате. Харитонова молча налила рюмку коньяка и выпила.
– Дальше! – потребовала Ксения.
– Ничего больше не слыхала, не видала. Но знаю, что Плеткина в кошеву на руках из дома вынесли. Я до полуночи с хозяйкой дома отваживалась. С перепугу она в обморок грохнулась. А ведь она на сносях. Что скажешь, Ксюша?
– Ничего не скажу.
– Ты только подумай, что посмел на тебя наплести.
– Плеткин правду сказал.
От удивления Харитонова замерла.
– Что рот открыла, как рыба без воды?
– Ксюшенька. Подумай, что на себя сказала.
– Правду Плеткин молвил. Но – подлец. Поганый подлец, если посмел выдать тайну моей ласки. Женщина я. Самая обыкновенная женщина, со всеми желаниями и помыслами, как у всех. Молодая я, Марья Львовна. Подлец! Для кумушкиных языков теперь надолго забава.
– Ночами не сплю, Ксюшенька, как подумаю, что будет тебе, когда Василиса домой воротится. Упаси бог, ежели про сплетки узнает.
– Ничего не будет. Спи спокойно. Сама скажу матери, как тебе сейчас сказала.
– Да как же, Ксюшенька, с ним спуталась?
От ее вопроса Ксения вздохнула:
– Будто сама не знаешь, как это случается?
Неожиданно Ксения закричала на Харитонову:
– Будто сама за спиной мужа не спутывалась?
Харитонова в испуге замахала на нее руками:
– Господь с тобой!
– К чертям бы вы все провалились! – Ксения в раздражении ходила по комнате, остановилась у камина, положила в него полено, приблизилась к Харитоновой и сказала шепотом: – Мне жаль Петю Хохликова. Хорошие слова от него слышала. Запомнила те слова, а понять их не захотела. Нет любви! Мужики выдумали это чувство, чтобы легче нашу ласку выпрашивать. Вот скажи, ты испытала любовь?
– А как же…
Ксения медленно подошла к клавесину и резко обернулась:
– Врешь! Я не верю в любовь. Все вы любите, а своих любимых обманываете на стороне. Любовь – это преданность любимому. Если любовь существует, если она когда-нибудь заведется во мне, то я никогда не осмелюсь обмануть любимого лаской с другим.
– Мудрено говоришь.
– Про неиспытанное чувство по-другому говорить не могу. Разум мной правит. Сердце во мне только работает. Понимаешь? Терпеть не могу про любовь говорить. Все мужья на словах жен на руках носят, а на самом деле плетью, кулаками, бранью в гроб загоняют. – Ксения задумалась. Дотронулась до клавишей, струны ответили нестройным аккордом. – Жаль мне Петю Хохликова. Тебе, Марья Львовна, обидно, что не по тебе парень сохнет.
– Будет тебе. Постыдись ко мне с эдакими словами вязаться. Истая ты карнауховская порода. Вся в мать. Что на уме, то и на языке.
– Нет, не все на языке. Про многое умею молчать. Про Плеткина бы тебе сама никогда не сказала, если бы мужик не оказался подлецом.
Ксения потушила в канделябрах свечи и, подойдя к креслу Харитоновой, налила в ее рюмку коньяка и выпила.
– Зря пьешь, Ксюшенька, в таком состоянии.
– Злая сейчас. Понимаешь, злая. На себя злюсь, что подлеца в Плеткине не разглядела. Пойдем спать.
Глава седьмая
1
Мели по всему Уралу январские метели. Они лихо отплясывали по казенному Кушкинскому заводу, замели избы по самые крыши. Глубокими были переметенные снега на улицах и площадях завода, а укатанные дороги по ним шли с бугра на бугор.
Разрослась, отстроилась Кушва с тех пор, как у нее под самым боком в заболоченных лесах отыскали платину.
Находка нового для этих мест драгоценного металла свела с ума уральских богатеев, а кушвинских купцов вытряхнула из тулупов лабазного сидения. Даже приисковый народ около платины стал жить сытнее, заменял лапти на сапоги со скрипучей музыкой в подошвах.
Кушвинское купечество превращалось в промышленников, устраивало свою жизнь в каменных домах – совсем как в Екатеринбурге.
2
В воскресный день после обедни смотритель платиновых промыслов дворянина Шумилова всеведущий Никодим Стратоныч Зуйков позвал гостей на пироги.
Изба Стратоныча стояла в сосновом бору на склоне Малой Благодати. Жил шумиловский смотритель по-богатому. Был бездетным вдовцом. Его хозяйством управляли часто сменявшиеся хозяйки-солдатки либо приисковые женщины, примеченные Стратонычем за смазливость лица и стройность.
Гостей угощала Дарья, родом из Рязани, второй год державшая Стратоныча возле себя. По заводу и промыслам бродили слухи, будто она до того крепко прибрала мужика к рукам, что от ее кулаков у него расцветали синяки то под одним, то под другим глазом.
За столом, покрытым кружевной скатертью, гости ели пироги с крепкой выпивкой. Дарья суетилась у печи и, потчуя гостей, почти не присаживалась к столу. Гости – известные люди на всем заводском и приисковом Урале. Один из них – старатель Тихон Зырин. Не гнушались водить с ним крепкую дружбу самые именитые богатеи, так как благодаря Тихону в их карманы немало пересыпалось золота из тех мест, которые он указал им.
Зырин вдоль и поперек исходил уральскую землю, высматривая пески с россыпями золота и платины. Сам находил золото, сам давно бы мог стать богатеем, но не привычен был к оседлой жизни и потому с весны до зимы жил в лесах, а зимой – то в одном, то в другом месте у дружков, согреваясь около чужого тепла. Деньги в карманах держать не любил. Раздавал их беднякам, у кого ребята табунились по избам. В одном себе никогда не отказывал – в хорошей одежде. Никто из приисковых людей не видел его, даже на промыслах, в драной лопотине.
Про Тихона в народе разговоров ходило немало. Старые люди утверждали, что отцом его назывался Петр Зырин и был он тем самым пареньком, коего от дедушки увел с Елупанова острова через зыбуны и трясины пришлый мужичок.
Тихон прожил жизнь бобылем. Леса, реки, болота, золото, самоцветы стали его стихией. Про все это он знал многое и недаром иной раз зимой, зайдя к кому-нибудь на ночлег, при случае начинал сказывать свои бывальщины, от которых хозяева, заслушавшись, забывали про сон на всю долгую зимнюю ночь.
Приисковый народ любил Тихона за сердечность, за то, что всегда мог рассчитывать на его помощь. Но бродяжила и другая молва про него, пестрая, как ситец. Говаривали, что за погляд Катерины Расторгуевой Тихон открыл ее отцу тайну Кочкарских золотых россыпей. За кое-что большее он отдал золото Миасса в руки Василисы Карнауховой. Но это были разговоры. Сам Тихон про подобное ничего не помнил, а когда его спрашивали об этом, отмахивался и сердито хмурился.
Второй гость – Григорий Павлович Тихвинцев, беглый сынок вятского купца, по приисковой кличке Одуванчик, обличьем щуплый, косоплечий, с выщипанной бородкой и начисто лысый, у правого его уха нет мочки. Всю свою жизнь на Урале он одурачивал различными виртуозными выдумками пришлое в край купечество, торгуя якобы отысканными им золотоносными местами. При торге были богатые знаки на золото на указанных Одуванчиком местах, но после покупки новый хозяин ничего на них не находил. Из своих проделок Тихвинцев всегда выходил сухим, как гусь из воды, и только один раз был так сильно избит обманутым, что три месяца не вставал с постели, а во второй раз другой купец за обман откусил у него мочку уха.
Состарившись, Тихвинцев от мошенничества отошел, занялся скупкой золота у старателей, платя на несколько копеек дороже казенной цены за золотник, а сам перепродавал желтый металл промышленникам. Приобрел два дома: в Кушве и Нижнем Тагиле. Жил в них ни бедно, ни богато, но всегда в тепле укладывался спать. Одуванчик имел веселый характер, со всеми водил дружбу, а за Тихоном ходил тенью.
Про Стратоныча на Ису слава была недобрая. Двадцать лет назад привез его на Урал из своего поместья покойный отец нынешнего барина и поставил смотрителем над промыслами. Лютость Стратоныча к рабочему люду неуемна. На каждого цепной собакой кидался, видя в унижении людского достоинства свое превосходство над крепостными. На приисках, заменяя хозяина, чувствовал себя владыкой и нагайку носил с собой, как нательный крест. За гнусность его дважды подкалывали ножами, но, и сильно раненный, он все-таки выживал. Прошлой весной его кинули в вешнюю воду Иса с камнем на шее. Однако он выплыл, вовремя порвав веревку. Избежав смерти, любил тем похвастаться на народе, намекая, что его спас бог. Мстя неведомым врагам, Стратоныч прошлым летом полосовал нагайкой всех, кто попадался на глаза, и утихомирился только тогда, когда испугался ответа за смерть женщины, запоротой им. Ему недешево стоило откупиться от суда…
Гости досыта наелись вкусных пирогов. Выпивка сильнее всего одурманила Стратоныча и Тихвинцева, а Тихон, хотя и пил не меньше, был, как говорится, ни в одном глазу. Дарья убрала посуду с объедками и поставила на стол самовар. Она разлила по стаканам чай и, приметив подмиг Стратоныча, ушла в другую горницу.
За чаем Тихвинцев стал похваляться былой удалью, вспоминая, как дурачил купцов. Стратоныч и Тихон от души посмеялись над его рассказами, но смех нагнал на Стратоныча хмурость, и, оглядев гостей, он махнул рукой, резко выкрикнул:
– Будет смехом тешиться! Серьез для вас ношу в разуме. Как понимаете, зачем это позвал вас на пироги?
– Так и понимаем, что воскресный день, – ответил Тихвинцев.
– Нет, Григорий Палыч, для сего завелась у меня другая важная причина. Праздновал, вспрыскивал с вами мою скорую вольность. Бежит ко мне вольность, прописанная на бумаге, от нашего барина из самой Белокаменной.
Раскуривая трубку, Тихон оборвал речь Стратоныча:
– Яснее и покороче сказывай.
– Можно. Слушайте. Весть мне барин по осени подал. Не воротится больше в Екатеринбург. Вдоволь я нагреб ему золота в карманы. Он теперича… тю-тю… Продал барин прииски. Все до единого продал, а мне за верную службу вольность дал.
– Кому продал? – нетерпеливо спросил Тихвинцев.
– Какой прыткий. Так я тебе сразу и скажу. Погоди. Объявится новый хозяин, тогда узнаешь.
– Годить мы не станем. Знаем, кто купил, – прищурившись, безразлично сказал Тихон.
– Хвастаешь? Ничегошеньки-то ты не знаешь про тех, кто купил. Скажу только вам, что промыслы теперича не в православных руках.
– Турки, что ли, купили? – засмеялся Тихвинцев.
– Турки не турки, а вроде их. Да, теперича поживу, а глядишь, годков через пяток сам стану барином.
– Высоко лезешь, не оборвись с гнилого сучка вниз башкой.
– Не беспокойся, Тихон. Новых хозяев так околпачу, что молитвы запоют. Под орех их отфугую.
– Да кто они? – снова настойчиво допытывался Тихвинцев.
– Как кто? Иноземцы.
– Иноземцы?
– У, лысый дьявол, изловил-таки меня на слове. Смотрите у меня оба. Никому ни слова про такое. Коли что – зашибу.
– Обоих зашибешь? – усмехнулся Тихон.
Совсем охмелевший Стратоныч, уставившись на Тихона удивленным взглядом, громко захохотал:
– Господь с тобой, Тихон Петрович, тебя не трону. Одурю иноземцев дураков и стану на промыслах хозяином. Ты мне помоги, Тихон, их округ пальца окрутить. Поможешь?
Тихон стукнул по столу кулаком, отчего его стакан с недопитым чаем опрокинулся и залил чаем скатерть. Вышел из-за стола.
– На кого осерчал, Тихон Петрович? – спросил Стратоныч.
– Всей душой осерчал, что твой барин иноземцам в руки эдакое богатство отдал. Подумать страшно, что деется. Иноземцев к золоту допускают. Раньше от руды отшугивали, а теперь иноземцев кто станет отшугивать от золота и платины?
– А царь на что? – многозначительно спросил Тихвинцев и в ответ услышал хохот Стратоныча:
– Уморил… Царь. Ему нужно наше золото, платина, а зачем знать, кто их намывает.
– Погоди, погоди. Тише про такое, Стратоныч. Упаси Господь, – покраснев от испуга, прошептал Тихвинцев и погрозил смотрителю пальцем.
– Не желаю молчать! Вольный теперича! Хочу в полный голос разговаривать. Будет молчать! Вдоволь напрыгался осередь вас в крепостном хомуте. Понатер себе мозоли.
– От нагайки они у тебя на руках. Хлестал народ.
– Хлестал, а теперича стану для народу святым. Потому вольным буду.
– В наших лесах поговорка водится, будто у серого волка лютость от воли заводится, – усмехнулся Тихон.
– Про что намекаешь?
– Понятней скажу. Кем родился, тем и ноги в гробу протянешь.
– Не веришь, что характер наизнанку выверну?
– Вестимо, не верю. Характер у человека не портянка, от пота не отстирывается, – серьезно сказал Зырин.
– Вот это верно. Не стану характер менять. В страхе стану народишко держать. От страха из нашего народа в труде чудеса объявляются.
– Сволочь ты после таких слов.
– За что обзываешь, Тихон Петрович? Тебе теперича со мной дружить надо, а не ссориться. Ишь как злюще на меня смотришь! Ладно, не стану больше плохо про людей говорить. Не любишь, когда их даже словом поносят.
За окнами раздался веселый трезвон колокольцев.
– Кто-то подкатил к твоим воротам. Может, вольность привезли, – сказал Тихон.
– Не смей надо мной насмехаться!
Во дворе залаяли собаки.
– Кажись, в самом деле кто-то пожаловал.
Встав из-за стола, Стратоныч, сильно покачиваясь, подошел к окну с промерзшими стеклами:
– Не видать ни черта. Дарья!
– Чего надо? – спросила Дарья, выйдя из другой горницы.
– Ступай за ворота и погляди, кого черти принесли не вовремя.
Дарья вышла в сени, но через минуту вернулась в избу, широко распахнула дверь с поклонами и засыпала скороговоркой:
– Милости просим, матушка-барыня. Ниже клони голову. Дверь у нас низко прорублена.
В избу вошла и выпрямилась высокая, статная женщина, и все узнали Василису Мокеевну Карнаухову.
– Затворяй дверь, молодуха, не студи избу, – сказала Карнаухова и, прищурившись, осмотрела стоящих перед ней мужиков.
Ее усталое лицо в морщинах. В колючих глазах властная суровость. Нос с горбинкой. Одета в бархатную ротонду на собольем меху. На голове капор из лисьего меха. На руках меховые варежки. В левой руке посох черного дерева, до половины окованный золотом с вставками из самоцветов. Карнаухова сняла варежку с правой руки, перекрестилась на иконы и, не увидев огонька в лампадке, насупилась:
– Без огня перед образами живешь, Стратоныч?
Дарья, закланявшись, виновато сказала:
– Погасла лампадка. Сама утрось возжигала. Масло у нас ноне не больно доброе.
Все еще стоя у порога, Карнаухова не сводила глаз с мужиков.
– Христос вам навстречу, знакомцы. Онемели от нежданной встречи со мной?
Стратоныч растерянно подошел к ней и ткнулся губами в ее руку.
– Милости прошу, Василиса Мокеевна. В эдакую погоду не бережешь себя. Стужа, метель, ветер. А ты на тройке. Да разве можно?
– Не печалься. Поживу еще на белом свете.
– Может, чайку откушаете с пути? Гостья для меня во всякую пору желанная.
Карнаухова не спускала глаз с Тихона, и ее взгляд подобрел.
– Вот где, Петрович, нынче берложишь? Сыскала тебя. Давненько мне глаз не казал.
– Не люблю, Василиса Мокеевна, по пустякам своей особой людей тревожить.
– За поданную с осени весть говорю тебе спасибо. С поклоном благодарю тебя.
– Как здравствуешь, матушка?
– Об этом, по правде сказать, сама ладом не знаю. Умаялась в столицах, а домой подалась, так вовсе кости в себе перемешала.
Карнаухова перевела взгляд на Тихвинцева и улыбнулась:
– Да неужли это ты, Гриша Одуванчик?
– Он самый, матушка.
– Эх, мужичок, мужичок, а еще вятского роду. Облез вовсе, как баран по весне. Голову будто кипятком ошпарили.
– Облысел малость.
– Какое малость! Начисто лысый. Жив, стало быть? Прыгаешь?
– Живой. Только прыгать вроде отпрыгался.
– Рада с вами встретиться. Домой катила отлеживаться, да и решила по пути к Стратонычу наведаться.
– Осчастливила ты меня.
– А ты, Тихон, будто ростом мене стал. Спина, видать, согнулась. Молодуха, прими ротонду. Все плечи оттянула.
Карнаухова скинула ротонду, но ее вместо Дарьи подхватил Тихон. Карнаухова подошла к печке; потрогав ее рукой, села возле нее на приступок.
– Так вот, Стратоныч, Христос тебе навстречу, навестила тебя не гостьей, а твоей новой хозяйкой.
Стратоныч, дернув головой, перекрестился.
– Правильно! Крестись!
– Поверить страшно!
– Страшно не страшно, а верить придется. Дворянина Шумилова прииски платиновые на Силимке да на Талой со всеми живыми и мертвыми, с тобой в придачу, теперь мои. Выпивали с какой радости?
– За будущую вольную смотрителя откушали винцо, – ответил Тихвинцев.
– Слышала об этом от дворянина Шумилова. Хотел он тебе волю дать, да я его отговорила. Обузданный, ты вконец залягал народ, а без крепостной узды всех раньше срока в гроб загонишь.
– А иноземцы-то как же?
– Они остались ни при чем. Лезли к платиновому богатству, а я им дорожку переступила. Рановато еще иноземцам вплотную к нашему золоту и платине подступать. В их лапы прииски не отдала. При них тебе, Стратоныч, зажилось бы неплохо. Напихал бы в карманы платины. Со мной тебе туговато будет. Я старуха пронырливая. Дорогой думала о тебе. Надумала тебя с платины убрать.
– Не верь, матушка, людским наговорам.
– Не причитай. Тебе это не к лицу. Завтра поутру всю книжную писанину про прииски покажешь. За все подчистки ответишь. Постой. Ты лучше все это Тихону покажешь.
– Матушка!
– Помолчи! Через неделю явишься ко мне в город со всеми манатками. В каменоломни поставлю тебя, за мрамором доглядывать. А тебя, Тихон, прошу заступить место правителя приисков. Будет тебе по свету мыкаться. Согласен?
– Как велишь.
– Спасибо за сговорчивость. Ну, кажись, все сказала. Прощайте. К руке, Стратоныч, не прикладывайся. В гроб лягу, тогда на радостях обе мои руки облобызаешь. Вести я тебе чернее сажи привезла, но на то и Карнаучиха, чтобы за богатствами Урала доглядывать. Жадная. Подумай только, Стратоныч, сколько свечек приисковый народ затеплит перед святыми, как узнает, что убрала тебя отсюда.
Карнаухова обернулась к Дарье:
– Люб, что ли, тебе Стратоныч?
– Пошто люб? Велел жить, вот и жила. Его сила была.
– Пойдешь с ним на мрамор?
– Мне все одно. Пока молода, мужики будут вязаться.
– Правильно говоришь. Знаешь, что дана нам, бабам, сила волку пасть зажимать при встрече с ним с глазу на глаз. Давай ротонду. Сразу домой тронусь. Бывайте здоровы, мужики, провожать меня не ходите. Дарья проводит.
Карнаухова и Дарья вышли из избы. Тихон, подойдя к столу, налил себе стакан чаю. Стратоныч, опустив голову, сел на лавку. Тихвинцев с удовольствием нюхал воздух:
– Какой аромат в избу напустила! Будто розы с ландышами расцвели. Чего приуныл, хозяин? Ишь как расстроился, что даже хмель потом на лоб вылез.
Тихон, отпив чай, подошел к Стратонычу и хлопнул его по плечу:
– За угощение, хозяин, спасибо, а на это все-таки взгляни. – Тихон поднес к носу Стратоныча кукишку. – Ловко тебя Карнаучиха под свою власть подмяла. Да и подмяла-то вместе с волюшкой. Работенка теперь у тебя будет спокойная. Поглядывай, как народ из камня могильные плиты вытесывает. Станешь плохо присматривать, покойникам это не поглянется.
– Будет тебе над моим горем измываться.
В избу вернулась Дарья и, отряхивая с себя снег, сказала:
– Ну и оказия у нас в избе приключилась. Ждал Стратоныч волю с иноземцами, а прикатила Карнаучиха.
– Молчи, Дарья! – прикрикнул Стратоныч.
– Чего? – спросила Дарья и, подбоченившись, подошла к нему. – Смотри у меня! Шепотом зачинай со мной разговаривать. Отцарствовал. В ноги мне кланяйся, что согласилась с тобой на мрамор податься. Там обучу тебя по-иному по земле ступать. А сейчас ложись спать. Завтра надо тебе Тихону Петровичу со светлой башкой писанину книжную показывать.
– Да не лезь ты ко мне в такую минуту…
– Топай спать! Понял! Заморский петух с выдерганным хвостом, прости меня господи…






