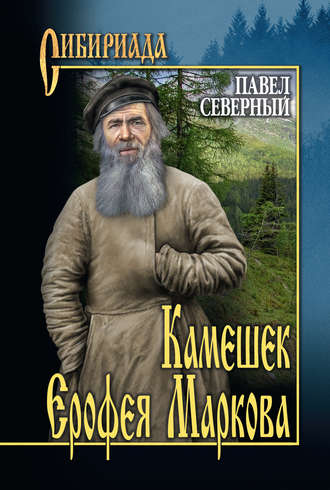
Павел Северный
Камешек Ерофея Маркова
Несчастье с женой напугало его. Весь месяц никого у себя не принимая, прожил в поместье, а затем уехал с больной женой на Урал.
Шесть лет держал жену в Старом заводе, никому не показывая, а сам по-прежнему вел разгульную жизнь и на вопросы о жене отвечал, что она тяжело больна.
Он рыскал по краю, высматривая рудные богатства. Подкупал чиновников, и те находили «законное» основание оттягивать жирные куски у промышленников в пользу Муромцева. И следом за ним волочилось прозвище Седой Гусар. В его разуме все крепче свивала гнездо жестокость. Муромцев полагал, что только жестокой силой, сея страх, можно держать в повиновении крепостной люд. Он уже умел похищать людей из раскольничьих скитов для своих заводов, а встречи с кержачками навели на мысль воровать и скитских детей.
Однако после первых облав на детей раскол бурно зашевелился по всему Уральскому краю, но, не найдя для себя защиты у закона, притаился, затих, запаливая пожары на заводах Муромцева.
Месть раскола бесила заводчика, он судорожно искал и не находил способов борьбы с кержаками и вымещал звериную злобу на пойманных раскольниках, до смерти избивая их в подвалах барского дома. К осуществлению своей неотвязной мечты о владычестве во всем крае Муромцев шел упрямо, с жестокостью к людям и без помех со стороны закона.
Приобретя в крае знатность и власть, он уже имел и в столице нужные знакомства, и ему казалось, что становится полным хозяином Уральского края. Всех, кто пытался противостоять ему, стремился убрать с пути с помощью подкупленного чиновничества, не останавливаясь ни перед чем.
Три года назад была поймана и приведена в дом Муромцева кержачка Агапия. Хозяин насильно сделал ее своей наложницей. И случилось то, о чем Муромцев не мог подумать – Агапия ловко прибрала к рукам его разум и волю. Тогда-то он и замыслил стать владельцем всей медной руды Урала…
Камин затухал. На углях снова толстым слоем лежал пух золы.
Муромцев слушал завывания бурана и думал о том, что весной, когда солнце растопит снега и вешними потоками омоет землю, он с помощью столичных друзей начнет воздвигать медный фундамент своей славы.
Буран завывал на разные голоса, а Муромцев засыпал, убаюканный сладкими мечтами.
* * *
Агапия Власовна, сопровождаемая борзой, по заведенной привычке, обошла дом, проверила все запоры на дверях. Возвращаясь в свою горницу на мезонине, она спустилась на первый этаж, узнала у горничной, что хозяйка не спит, чуть приотворив дверь, заглянула в ее покой. В узкую щель увидела привычное. Огонек лампадки едва распугивал темноту комнаты, а в ней ходила молодая женщина.
Агапия боялась больной хозяйки. С первых встреч с ней, еще в доме в Старом заводе, пугалась ее синих с фиолетовым отливом глаз. Она никогда не переступала порог ее покоев, строго наказывала горничным без хозяина не выпускать барыню ходить по дому.
Вот и сегодня Агапия лишь взглянула на молодую хозяйку и, плотно прикрыв дверь, по широкой лестнице, устланной ковровой дорожкой, поднялась на второй этаж, миновала длинный коридор. А там, уже по крутой лестнице со скрипучими ступеньками, поднялась на мезонин.
Агапия вошла в горницу, затворила за собой дверь и села на кровать. Борзая, понюхав воздух с горьким запахом деревянного масла, громко зевнула, улеглась возле постели и, подняв голову, смотрела на хозяйку. Птички в клетках, попискивая, перепархивали с жердочки на жердочку. Агапия, услышав их суету, сказала с улыбкой:
– Обрадовались? Пришла я, пришла. Спите, неугомонные.
Комната Агапии узкая и длинная. В ней два венецианских окна. Из одного хорошо видна гранильная фабрика, плотина, заснеженный пруд. Из другого окна виден сад и двор, а дальше – крыши домов и маковки церквей города.
Перед множеством старообрядческих икон теплятся в комнате лампады. Заткнутые над ними пучки засохших цветов и трав обвисли. Тут и ромашки с колокольчиками, и ландыши вперемешку с васильками, незабудками, среди них колосья ржи и овса. Иконы по величине разные, но все темные. На иных из-за мелких трещин на краске совсем нельзя различить изображения, а видимые на иконах лики святых узколицы, во взглядах колючая, сварливая исступленность. Перед иконами аналой, на котором молитвенники и четки из кедровых орешков.
На жардиньерках вазоны с геранями, над ними клетки с чечетками. Широкая кровать с горкой подушек. Против нее зеркало, а рядом, на стене, висит одежда.
Пол в пестрых тряпичных ковриках.
Устало потянувшись, Агапия хотела встать и раздеться, но не встала. Перекинула подушки к стене и легла поперек кровати, подобрав ноги в синих сафьяновых сапожках с беличьей опушкой.
Агапия от новогодних бессонных ночей устала. Ее одолевала дремота.
В завывание ветра врывались тонкие протяжные высвисты, и, не переставая, в промерзшие стекла колотились мелкие крошки сухого снега.
Агапия любила зимние бураны. Вспоминалось детство, как слушала в скитах под вой буранов сказы старых людей про людскую и лесную премудрость. Под рулады буйного ветра слушала сказки, больше всех захватывала ее воображение сказка про Снегурочку, и в лесах, погребенных под снегом, она и себя представляла Снегурочкой.
В памяти Агапия всякую подробность о днях детства хранила особенно бережно и мыслями о них всегда заслонялась от всего, что пришлось пережить с тех лет, когда девичья коса стала тугой…
Агапия – дочь Власа и Калерии из скита, укрывшегося в лесных дебрях за Катавским заводом на горе Иремель. Древний скит. Угнездился в крае по воле пришельца-устюжанина еще при царе Алексее Михайловиче. Скит много раз горел, но вновь отстраивался, сохраняя изначальный облик. Для скита выбрано усторожливое место. Скалы и шиханы. Со всех сторон дремучие леса. Под высоченными елями с ветвями в сажень длиной, под богатырями-кедрами стоял скит, а вокруг него – пасеки на редких лужайках, засеянных льном. Укромное место у раскольников. Пока дойдешь к нему, надо осилить горные бурные речки, на версты растянувшиеся болота, зыбуны и трясины.
Только одна тропа соединяла его летом с остальным миром, но, и зная тропу, ходить по ней лучше с провожатым. Из этого скита в зимнюю пору впервые были уворованы дети для заводов Муромцева. Была с ними поймана и Агапия, но на ночлеге, задушив оберегавшего ее караульного, она убежала из полона. Неделю блуждала по лесам, отыскивая дорогу в родной скит. Ее, полузамерзшей, нашел, гоняясь за соболями, Тихон Зырин.
В тепле его лесной избы она не сразу оправилась от простуды. Потом полюбила спасителя за ласковость. В пору, когда от припека весеннего солнца заплакали, расставаясь с зимой, сосульки, Агапия стала ему женой. Бурной радостью наполнилась ее жизнь. Она решила никогда не покидать Тихона и забыть родной скит. Отцвели в мочажинах ландыши, и Тихон ушел в леса на старательство, пообещав вернуться по осени. Но осень отшумела шелестом опавшей листвы, легли снега новой зимы, а Тихон так и не пришел. Агапия родила мертвого мальчика. Когда же она в беспамятстве билась в родильной горячке, набрели на избушку скитники, скрывавшиеся в лесах от царских облав. Они выходили больную. Указали путь к ее родному скиту. После долгих раздумий Агапия, так и не дождавшись возвращения Тихона, ушла в свой скит. Там неласково приняли опоганившую себя девственницу. Агапии пришлось в изнурительных молитвах и покаяниях искать очищения от своего невольного греха. Она стала совсем чужой среди еще недавно близких людей. Никто из них не мог постигнуть того, что она вернулась в скит не опоганенная, а осененная первым счастьем женщины и убитая горем трагического материнства. Агапия жила одиноко, без единого доброго слова сочувствия.
Прежняя жизнерадостность надломилась в Агапии. Она стала ненавидеть окружающих, молилась не о прощении своей души, а о наказании тех, кто не понимал происшедшего с ней. В ее разуме завелась злоба и постепенно словно бы соскоблила с души и сердца ласку и нежность, дарованные материнской заботой. Только сама Агапия знала, какая жила в ней ласка и нежность, да еще Тихон должен был знать…
Чем больше принуждали Агапию к посту и молитве, тем сильнее затвердевала ее злость. Как загнанная в западню волчица, она отгрызалась от нападок скитских старцев и стариц и неожиданно для всех одним рывком скинула с себя смиренность перед законами веры и законами людскими. Агапия ушла из скита по тающим снегам новой весны. Бродяжила по лесам с артелями хищников-золотоискателей, познавая горькую долю бесправной трудовой жизни.
На глухом прииске, в лунную ночь, у костра ее увидел Муромцев. Почувствовав недоброе в его огляде, она ушла с прииска, но по ее следу пошли барские люди и поймали в лесу. Агапия была одна, а их пятеро. Ее привели в барский дом в Старом заводе. Немало знала худого она про Седого Гусара. В изорванной одежде, в холодном поту стояла перед пьяными глазами заводчика и, не увидев в его руках плети, поняла, для чего понадобилась ему.
Из месяца в месяц ласково-лукаво, хитро и расчетливо утверждала над барином власть своей чувственности. Уже на второй год уверилась, что любое свое желание может исполнить руками барина.
Став в доме хозяйкой, не торопилась с желаньями и никому не показывала свою хозяйскую волю. А злоба все туже и туже стягивала обвязь на ее разуме. Агапия разузнавала про все темное о барине и стремилась сгустить эту темень, внушая ему еще более шалые замыслы.
Когда раскольники потребовали навек успокоить Муромцева, она им обещала и даже взяла от них для расправы петлю из девичьих кос. Но и через год не выполнила обещанного, и тогда, по велению старцев, была проклята расколом. Агапия не испугалась проклятия. Она понимала: жизнь Муромцева в ее руках, и сама решит, что с ним сделать, но решение примет не по желанию тех, кто не поддержал ее там, в скиту, куда пришла она за утешением. Живя около Муромцева, следила за судьбой Тихона Зырина и все же ни разу не осмелилась его повидать.
Пребывала у заводчика в роскоши. Не думала и не загадывала вперед. Правда, временами у нее появлялись мысли о будущем, но приучать себя к ним не пыталась, ибо сама еще не определила, как будет жить…
Рывком открылась дверь, мяукнули по-кошачьи петли. Услышав прерывистое дыхание, Агапия, приподняв голову, увидела горничную. Простоволосая девушка, запыхавшись, прошептала:
– Агапия Власовна!
– Опять, Глашка, как угорелая неслась по дому? Чего стряслось?
– И то стряслось. С Нового завода старшина караульной стражи пригнал. По виду не в себе мужик.
– Где сейчас?
– В людской трапезной.
Агапия встала с кровати, прошлась по комнате, остановилась у окна. Горничная спросила вполголоса:
– Сюды старшину звать?
– Погоди.
Борзая подошла к хозяйке, лизнула ее руку, но Агапия строго сказала:
– Сиди, Мушка. – Обернувшись, посмотрела на горничную: – Пойдем.
Пропустив вперед себя девушку, Агапия спустилась по лестнице на первый этаж. Вошла в трапезную. Во мраке комнаты чуть желтила горевшая на столе свеча. Агапия не сразу нашла взглядом вставшего с лавки чернявого мужика с перевязанной головой. Даже кивком головы не ответив на его учтиво низкий поклон, Агапия, подойдя к старшине, заметила, что волосы бороды влажны от растаявшей изморози. Оглядела понурую могутную его осанку, спокойно спросила:
– По какой надобности пригнал, Егорыч?
– С глазу на глаз дозволь сказать.
– Ступай, Глашка. Да смотри – створу двери ухом не подпирай.
Когда горничная ушла, старшина, кашлянув в кулак, произнес:
– Не осерчай сгоряча за недобрую весть.
– Добрых вестей от тебя не жду. Сказывай про недоброе.
Старшина, тяжело вздохнув, перекрестился и глухо вымолвил:
– Стало быть…
Но, учуяв холодок во взгляде Агапии, смолк.
– Сказывай. Никак от стужи голос перехватывает?
– На Новом заводе…
– Опять пожар?
Старшина, отступив шаг назад, вновь кашлянул в кулак.
Агапия сурово крикнула:
– Не бормочи!
– Агапия Власовна! Великая беда на заводе! Домны остыли!
Агапия, от неожиданности встряхнув головой, переспросила:
– Как остыли?..
– Погасили домны злодеи-бунтари крепостные. Углежоги, кои томят уголь в Гнилом логу.
– Чего плетешь? Аль рехнулся? Разумей, что говоришь. Ты же их караулил день и ночь со стражниками…
– Смяли нас, варнаки. Нежданно людностью навалились. Доменщики их сторону держали. Должно, сговор был. Потому злодеи подоспели, когда чугун сварился.
– Рыло! Выкручиваешься? – выкрикивала Агапия. – Слыхал, когда сговаривались?
– Не слыхал.
– Так и не домышляй враньем.
Встревоженная известием, Агапия металась по трапезной, всплескивая руками. Вновь подойдя к старшине, оглядела его и, улыбнувшись, спросила:
– Вижу, били тебя?
– Перепало.
– Почему сам пригнал? На кого завод бросил?
– Стражники все до единого сильно покалечены.
– Доверенный где?
– Еще перед Новым годом он на Старый завод уехал, к Комару.
– Когда буйство стряслось?
– Позавчерась.
– А ты здесь только седни обозначился? Недосуг было с похмелья?
– Каюсь! Труса праздновал! Сами знаете, каков барин. Хочу слезно просить… Потому, ежели сам встану перед барином, он меня пришибет.
– Неплохо надумал: за бабьей спиной укрыться. Нет, мужичок. Самолично барину доложишь о своем страшном нерадении о барском имуществе. Он тебе доверил его сохранность.
– Не погубите, Агапия Власовна! Христом богом прошу! – Старшина рухнул на колени.
– Чего молчишь про пожар?
– Не было огня. Злодеи без красного петуха обошлись. Покалечили нас, погасили домны и тягу дали.
– Ишь ты. Стало быть, на новый манер изладили свое злодейство. Вставай! Так и быть, сама барину скажу, а то, в самом деле, покойником станешь.
– Благодарствую.
– Вставай, говорю.
Старшина проворно поднялся с пола.
Агапия, задумавшись, отошла к столу. Машинально на нем передвинула ближе к краю свечу.
– Господи, Господи, какая беда барина подкараулила! Кто ватажил над углежогами?
– Кто? Все тот же Степка Левша. Он мне голову окровянил.
– Крепкая она у тебя, коли Степанов удар выдержала. Ступай. Пожуй всухомятку, часок поспи, но чтобы чуть свет твоего духа в доме не было. Заедешь на Старый завод. Велишь Комару немедля к барину явиться. Да пусть не позабудет доверенного с собой прихватить.
– Земной поклон, Агапия Власовна.
– Ладно. В своей избе лампадку засвети, чтобы Господь уберег меня от барского гнева, когда «обрадую» хозяина новой бедой. Ступай.
Агапия, погасив свечу, вышла из трапезной. По крутой лестнице в мезонин поднималась медленно, прислушиваясь к скрипу ступенек. О происшествии на Новом заводе барину решила сказать утром. Дойдя до двери своей комнаты, отворила ее, но тотчас плотно закрыла, сбежала по лестнице на второй этаж, по темному коридору добралась до палевой гостиной. Переступив порог, приблизилась к дивану, к лежавшему на нем Муромцеву. Кашлянула. Муромцев, увидев перед собой Агапию, обрадовался:
– Вовремя пришла, Гапа. Как же ты догадалась, что я весь коньяк выпил?
– Вовсе по другой надобности пришла.
– В чем дело?
– Домны на Новом заводе…
– Что домны? Чего мямлишь!
– Погасли они.
Муромцев мгновенно вскочил на ноги и, уставившись ошалело на Агапию, закричал:
– Что?..
– Погасли домны.
– Как погасли? Кто посмел погасить?
– Углежоги.
Муромцев, медленно попятившись назад, сел на диван.
– Углежоги? Так я и знал! Углежоги из Гнилого лога. А караул?.. – хрипло закричал Муромцев и, снова вскочив, заметался по гостиной, – Праздновали Новый год?.. Перепились до чертиков?.. Как доверенный и старшина допустили такое неслыханное преступление?
– Значит, барин, было у вас подозрение к углежогам?
– Они ненавидят меня. – Муромцев метнулся к столу и схватил пистолет.
Агапия подошла к нему:
– Неужели стрельбой злобу собираетесь сорвать? Обещали не пугать меня. Не сдержите слово – осерчаю на вас.
– Мне на это наплевать!
Агапия засмеялась:
– Вот развеселили! Чудной вы иной раз от злобы, барин. Разве осмелитесь наплевать на мои желания?
– Замолчи, дура! Неужели не можешь понять, что уничтожены новые домны. Ты же знаешь, сколько они стоили.
– Хоть и дура, но понимаю, что новые домны остыли от старой обиды работных людей. Вот оно как обернулось. И как додумались бунтари свою злобу на вас выплеснуть?
– Завод спалили?
– Целехонек завод. Вот и дивлюсь, что углежоги на новый манер пошли против барской власти.
– От кого все узнала?
– Караульный старшина Егорыч весть привез.
– Немедля его сюда!
– Обратно его услала. Завод без присмотра брошен.
– Без моего приказа?
– Виновата. Осмелилась без вашего дозволения. Завод без глаз оставлен. Аль неправильно поступила?
– Сейчас же туда сам поеду.
– За какой надобностью? Барским гневом домны не растопите.
– Боже мой! Страшно подумать, что я сделаю со злодеями. Всех перестреляю без всякого суда!
– Сперва надо их изловить, барин.
– Не люди, а бешеные волки.
– А у волков ноги дюжие на потайных тропках в наших лесах, да и от Сибири край Уральский заплотом высоким не огорожен. Так-то, барин.
Агапия взяла у Муромцева пистолет и положила в бархатный футляр.
– Коньяк сейчас принесу. Понимаю, что без вина вам нежданную напасть никак не осилить…
2
Зима на снег выдалась не скупая. Редкий день вплоть до Нового года обходился без снегопада. Следом дохнули ветры, неодинаковые по силе, переходя то в голосистые вьюги, то в бешеные бураны. Они, словно обрадовавшись обилию снегов, принялись передувать их волнистыми сугробами, занося овраги, заметая приметы дорог и троп.
Уральские снега, под любым ветерком оживая, начинают снежную певучесть разнообразными мотивами, схожими с иными печальными напевами русских песен.
Зима на снег выдалась богатая. На Верх-Нейвинский завод навалила его вовсе лишку. До сказочности разукрасила берега верхней Нейвы, и без того живописную местность возле Таватуйского озера.
В густых лесах скучились тут горы. Среди них скалы урочища Семь Братьев и Заплотного Камня, поодаль от них гора Букар.
На берегу озера вросло в лесистую землю раскольничье село Таватуй; по преданиям, почин людской жизни в нем положили сосланные на Камень стрельцы, бунтовавшие по наущению царевны Софьи.
Приглянулась местность Прокопию Акинфиевичу Демидову. Перегородив Нейву, он поставил возле пруда в тысяча семьсот шестьдесят втором году чугунолитейный завод. Селение дозволил строить просторно на склонах окрестных гор, а самой высокой из них дал имя – Сухая гора. По хозяйской воле, соорудили на ее вершине башню для наблюдения за округой на случай лесных пожаров.
Демидовским завод пробыл только семь лет. Прокопий Акинфиевич славился шальным характером. Обозлившись на сыновей за их нерадивость и пьяное мотовство, он неожиданно продал Невьянский завод вкупе с пятью другими заводами, в число коих угодил и Верх-Нейвинский. Демидовские родовые гнезда перешли к Савве Яковлеву.
В Верх-Нейвинске на подоле Сухой горы, где из-под земли били четыре родника, возвышалась усадьба постоялого двора Анфии Егоровны Шишкиной. Свое хозяйство Шишкина наладила с размахом. Два барака поставила, просторную хозяйскую избу, зимой в них тепло, летом не душно. Крытые дворы для постоя вмещали разом более семидесяти подвод. Хорошая молва шла про шишкинский двор. Даже дальние ямщики, направляясь в Екатеринбург, норовили вставать на постой у Анфии Егрровны. За год множество подвод пользовались пристанищем ее усадьбы. А по весне заводские молодки и старухи, встречая Шишкину в церкви, с завистью дивились добротности ее нарядов.
Анфия Егоровна – мужнина жена, но в управлении хозяйством кипучей энергией отодвигала супруга на второй план. На заводе у нее прозвище – Хромоножка. Для слуха оно не очень звонкое и дано ей завистницами зря, так как Анфия Егоровна не хромала, а только слегка припадала на правую ногу. Лицо у хозяйки постоялого двора пригожее, это и служило причиной женской зависти.
В Верх-Нейвинске объявилась Шишкина лет двадцать назад, после того как чудом спаслась от смерти на Южном Урале.
В первом законном браке состояла она с купцом-хлебником. Жила с ним не в полной верности, потому как вживался в ее сердце молодой каслинский кузнец, расторгуевский крепостной Мефодий Шишкин.
Однажды в осеннюю пору возвращалась она с мужем из Кыштыма с обозом муки. На глухой дороге напали на них душегубы. Мужа убили, а ее тяжко подранили. Анфия Егоровна от ножевых ран полгода лежала в постели, но выжила, только стала припадать на правую ногу. Оправившись от болезни, унаследовав мужнины капиталы, выкупила Мефодия Шишкина из крепости, уехала с ним в Верх-Нейвинск, там они и обвенчались.
С малолетства Анфия Егоровна питала особое пристрастие к лошадям, по этой причине обзавелась ими в Верх-Нейвинске, промышляя извозом. Потом поставила заезжий двор.
Любила она быть на народе. На постоялом дворе он всякий появлялся, и в каждом человеке своя житейская стезя. От ямщиков Шишкина про все на уральской земле знала, порой такое слышала, что кровь стыла.
С Мефодием жила в полной супружеской верности. Он по характеру был тихим, но лишнюю волю над собой жене брать не дозволял.
От работы по обширному хозяйству Мефодий не отлынивал, но тосковал по кузнечному горну, оттого и дружил на заводе с работным людом. Был он грамотным. Книжки читал. Однако пристрастие к чтению, молчаливость и задумчивость настораживали заводское начальство, ревностно охранявшее порядки царской власти. Не нравились начальству думающие мужики после частых волнений на заводах. Конечно, Мефодий Шишкин – владелец постоялого двора, но раньше-то он был работным человеком, да еще в Каслях. Из тех мест не первый раз выходила на свет рабочая смута против господской власти. Горное начальство убедилось, что смута живуча, умеет затаиваться в головах простолюдинов. Вот тихая молчаливость Мефодия и настораживала. К тому же начальству известно, что появились в Уральском крае сеятели смуты, на вид смиренные, с ласковыми взглядами, но с опасными мыслями о какой-то новой правде, будто бы нужной для жизни рабочего люда. Из-за этого кой-кому в уезде Мефодий и казался человеком себе на уме. Ведь он народился от холопского корня. Возле кузнечного горна потел, надышался железной окалиной. Посему и были на заводе люди, выполнявшие наказ приглядывать за Мефодием.
За ним наблюдали, но ничего зазорного не углядывали. Начальству доносили, что Шишкин хмельным не забавляется, водит знакомство с доменщиками, в летнюю пору ездит с ними на рыбалку, у костров беседует о немудрых житейских делах, про начальство хулы от него не слышно, господ-заводчиков ничем не укоряет. Но все же одним немаловажным обстоятельством снижает свою почтенность, ибо в церковь ходит совсем редко. А если придет с супругой, то за службой стоит, почти не крестясь, с закрытыми глазами. На вопросы, отчего прикрывает глаза в церкви, отвечает, что, слушая песнопение, не отвлекает себя взглядами, копит в разуме светлые мысли. Однако о чем сии мысли, не объясняет…
3
После недавнего злого бурана прихватила Урал стужа. В это утро верхнейвинцам показалось, что даже солнце от мороза поднялось в прядях куржи.
Когда отошла ранняя обедня, на заводских улицах появился при двух офицерах конный отряд горной стражи в шестьдесят сабель. В селение отряд въехал с невьянской дороги и, миновав плотину, свернул ко двору Шишкиной.
Спешившись у ворот по команде, стражники начали заводить коней во двор. Офицеры направились к хозяйской избе, у крыльца их встретила Анфия Егоровна с присущей ей почтительностью. Офицеры объявили, что располагаются на временный постой, приказали для себя истопить баню, приготовить харчи для отряда, не забыли и о фураже для коней. Старший офицер в чине капитана был в годах, другой офицер – намного моложе и, видимо, из барского сословия.
Мефодий Шишкин проявил большой интерес к приехавшему отряду, чем немало удивил супругу. Он самолично отправился выдать фураж, прихватив с собой штоф казенного вина, вероятно надеясь соблазном зелья оживить беседу с промерзшими стражниками. Мефодий рассчитывал, что они кое-что порасскажут. Ну хотя бы зачем отряд появился на заводе и куда держит путь…
Приослабший днем мороз к вечеру взял прежнюю силу.
Когда в окнах заводского селения стекла порыжели от закатных лучей солнца, с Сухой горы по едва видной тропе, переметанной холстинами поземок, спустился монах. Под ленивый лай собак из подворотен он переулками направился к шишкинской усадьбе. Снег под его лаптями похрустывал с веселостью – мороз, пробрав путника в немудрой одежде, заставлял его идти скорым шагом.
Приблизившись к усадьбе и увидев стражников, путник приостановился, хотел было свернуть в переулок, но понял, что стоявшие его заметили, а потому решительно направился к воротам.
Пересмехаясь между собой, стражники пропустили пришельца в калитку. Миновав двор, переполненный конями, человек поднялся на крыльцо ближнего барака. В темных сенях нащупал рукой дверь, за скобу потянул ее к себе, но она не открылась. Тогда он рванул с силой и отодрал примерзшую дверь.
С клубами морозного воздуха пришелец очутился в бараке, затуманенном табачным дымом. Сняв с головы башлык, повязанный поверх скуфейки, с трудом разглядев в красном углу образа, он перекрестился, затем отвесил поклон находившимся в горнице стражникам. Они смотрели на нежданного гостя, по обличию духовного звания, с уважительным любопытством. Пришелец чувствовал на себе их взгляды – иные до того к нему липли, будто присасывались. Но, не выказывая смущения от внимания к своей особе, спокойно стоял перед ними, невысокий ростом, крепыш по сложению, с округлым лицом, со светлыми бровями над глубоким подглазьем. Под скуфейкой угадывалась лысоватость; хилая бороденка походила по цвету на лежалую солому, в темной синеве его глаз усталость. Незнакомец развязал ременную опояску, скинул армяк с обтрепанным подолом, оставшись в ветхом выгоревшем подряснике. Сел на лавку возле двери, снял лапти. Выколотил из них талый снег над бадьей у рукомойника, развернул онучи, босой направился к русской печке и, приложив ладони к ее боку, тихонько сказал:
– Морозец дельный, как гусак пощипывает.
Голос пришельца словно бы шелохнул затихшее с его приходом течение жизни в бараке. Шустрая девушка-служанка, вместе со всеми наблюдавшая за нежданным гостем, вдруг кинулась к двери, толкнула ее и выбежала в сени. Она скоро вернулась, запыхавшись, высказала:
– Хозяйка велит тебе, отче, в ихную избу идти.
– Мне, отрочица, и здесь не худо. Сама видишь, служивые не гонят.
– Оно так, но хозяйка обязательно велела идти.
– Обязательно? Перечить не стану, – Пришелец, не торопясь, взял лапти с онучами и тихо сказал:
– Веди…
Просторная горница хозяйской избы с побуревшими бревенчатыми стенами устлана половиками с синими и красными полосами. На простенке возле голландки, окованной листовой медью, стенные часы с гирями, раскачивая маятник, ворковали по-голубиному. Горница тремя окнами, с тюлевыми шторками, выходила на закатную сторону. На полу подле окон деревянные кадушки с ветвистыми фикусами. Под их сенью стол, покрытый белой скатертью с широкой каймой, вышитой синими и черными петухами. На столе самовар, чайная посуда, вазочки с вареньем и медом, тарелки с наливными шаньгами и сладкими пирогами с морковью.
Возле стен стулья с мягкими сиденьями, два кресла и диван с высокими темными спинками, а на них накладные украшения из меди.
Пришелец увидел за столом двух офицеров, дородную женщину, с пуховой шалью на плечах, и в цивильном платье мужчину. Оглядев сидящих, отвесил им низкий поклон. И едва поднял голову, как услышал распевный голос женщины:
– Садись, отче, к горячему самовару. Почаевничай с нами. Гостям завсегда рады, понеже они у нас чаще всего нежданные. Ознакомься с господами офицерами, дорогими нашими гостями. А это супруг мой – Мефодий Палыч, а я, стало быть, супруга и хозяйка, Анфия Егоровна.
Пришелец задержал взгляд на хозяйке – бывает так иногда, с первой встречи человек может понравиться – и назвал свое имя:
– Инок Симеон.
Хозяин только скользнул глазами по гостю, хотя бровь у него над правым глазом на мгновение изогнулась дужкой, будто удивился чему-то.
Инок сел рядом с хозяином после того, как тот, подвинувшись на лавке, указал на свободное место рукой.
Капитан насупился и начал откашливаться. Ему не по душе пришлось, что хозяйка самовольно, не спросив дозволения, усадила за стол с господами офицерами какого-то пришлого монаха в неопрятной рясе с заплатами на локтях.
– Может, опреж чаю откушать пожелаешь, отче? – обратилась хозяйка. – Не стесняйся, изъяви какое желание.
– Достойно благодарствую. Дозвольте чайком согреться. Приозяб малость.
– Еще бы. Замерзнуть можно, босиком разгуливая, – густым голосом проворчал капитан и расстегнул высокий воротник мундира.
Офицер смотрел на пришельца осоловелым взглядом, а про себя думал, что неприглядный облик монаха его раздражает. Да и не было в нем подобающей почтительности к военным чинам. Капитан не сомневался, что неуважительность эта – врожденная, исходит от его холопского сословия, прикрытого монашеским чином. Капитан недолюбливал монахов, несмотря на то что они почитались божьими слугами. Пришелец не понравился капитану с первой минуты, когда не поклонился ему отдельно. Глаза у него были синие, хотя и усталые, но зоркие, видимо привыкшие разом все запоминать. Будто и не глядят на собеседника, а все видят. Такие глаза всегда непочтительны. Капитан нередко встречал подобные у холопов, коих приводил от смутьянства к повиновению.
За столом наступило неловкое молчание. Капитан, окрасив голос суровостью, спросил:
– Отчего, монаше, босиком ходишь? Неужели в обители такая великая скудность, что даже валенок нет?
– У братии обители водятся валенки. Только в дальнем пути пешим ходом я, ваше благородие, больше уважаю лапти из-за их легости.
– Но в лаптях по такому холоду можно ноги отморозить.
– Мороз не страшен ногам и в лаптях, ежели их по-ладному запеленать сперва в соломку, опосля в сухие онучи. Привычка к лаптям тоже подмога.
Капитан хмыкнул:
– У тебя к ним привычка?
– Выходит так.
– Но пришел-то ты сюда босиком?
– Босиком. Не ожидал, что предстану перед вами. В бараке разулся. Позвольте недовольство высказать, ваше благородие?
– Недовольство? Чем? Говори.
– Мундирные молодцы ваши в казарме табачным дымом до ужасти начадили. Ну вовсе в жилье туман осенний, даже ликов святителей на иконах распознать нельзя.
Капитан откинулся на спинку кресла и громко засмеялся, его грузное тело заколыхалось, кадык затрепетал под жирным подбородком. Неожиданно он оборвал смех:
– Вы слышите, поручик?
– Так точно, господин капитан.
– Почему же не смеетесь?
– Виноват.
– Ступайте немедленно и убедитесь, действительно ли от табака икон не видно.






