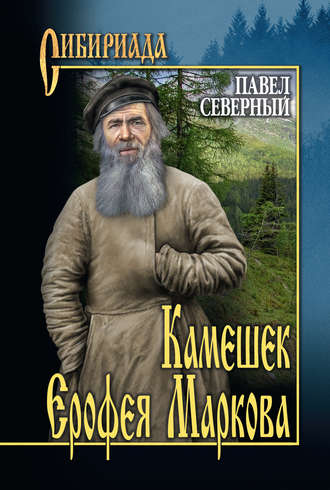
Павел Северный
Камешек Ерофея Маркова
– Да пойми, Мефодий…
– Понял! Истинный Господь, понял! Не думай, Савватий, что за высказанное трусом стану почитать. Но скажу, что мысли в разуме крепко перепутал да перемешал в них истину с безверием. Ведь по своей воле с кличкой Бунтарь живешь в крае. Никто тебя не принуждал, сам понял, что надо оборонять людей от страданий. Сам встал на святую тропу борения.
– Не бунтарь я. Правде хочу защиту отыскать.
– Так зачинай думать мудрее ранишнего.
– Погоди, Мефодий, разве я отказываюсь?
– Не смеешь мысль в разуме о том заводить. Люди тебя помнят. Верят, что можешь искать путь к их правде о вольной жизни. Ты ведь заставил и меня поверить, поверить, что дознаешься, в чьих руках защита работного люда. Гляди, вот сподличал я сам перед собой, от любовного дурмана, а что вышло? Вольным живу, а себя стыжусь. Почему стыжусь? Потому, не помер во мне работный человек, кузнец Мефодий Шишкин под поддевкой купеческой, надетой на меня супругой. Не померла во мне боль о работных людях, коих некому выкупить. Глядя на меня, подумай, чтобы не стал ты после самого себя стыдиться. Вот я вольный, сытно живу, только работным людям я уже могу казаться чужим. Они думают, что могу и я, с господ беря пример, начать их плетью стегать. Аль мало таких водится? Люди тебе верят, сами посчитали, что водится в тебе разум, коим можешь помочь им догадаться, в каком месте их правда вольной жизни.
Мефодий говорил спокойно, но голос его временами перехватывало дыхание.
Савватий не двигался. От каждого слова Мефодия он только все крепче и крепче прижимался спиной к стене.
– Савватий, родимый, проснись от острожного дурмана! Не дозволяй слабодушию смять разум. На воле ты сызнова, зачинай дышать по-вольному.
Савватий слушал Мефодия, и его взгляд постепенно обретал прежнюю строгость.
А солнце все так же ярко светило в окна, отливая золотые полосы на половиках…
Глава третья
Весть о найденном уральском золоте продолжала будоражить Россию. Екатеринбург считал годы второго столетия своего существования по-купечески, как барыши. Его новый облик постепенно стирал с улиц внешность былой уральской крепости. Уже далеко от застав отодвинулись вырубленные и пожженные леса, но отступили с упрямой неохотой – как бы отстаивая право на прежнее место: молодые побеги елочек и сосенок настойчиво вылезали из земли на улицах, пустырях, огородах и площадях города.
Промышленники и купечество, богатея, заново перестраивали Екатеринбург, соединяли свои задумки с помыслами русских и иноземных зодчих. Мозолистые руки рабочего люда, выполняя их веления, сковыривали с городских улиц унылую шаблонность.
К концу второго десятилетия девятнадцатого века, неустанно украшаясь, город изменился до неузнаваемости. Камень в строительстве все чаще и чаще вступал в спор с деревом и только пруд остался таким же, каким он был в давние времена, но в зеркальности его воды теперь отражались дома, схожие со столичными.
При Николае Первом власть главного начальника горных заводов Уральского хребта превратила Екатеринбург вроде государства в государстве, со всем тем уродством военного положения, кое царило в стране, и со всей мрачностью заводского крепостничества, не изменившегося со времен Петра, хотя теперь при экзекуциях первенство у плетей отнимали павловские шпицрутены.
В бурных потоках жизни Уральского края перед властью золота уравнивались в рангах и положениях дворянство, чиновничество и купечество. Все они в крае так или иначе были причастны к добыче драгоценного металла, при этом у них были одинаковые права на счастливые улыбки судьбы, одинаковые права стать возле золота более богатыми или нищими, и только приисковый и заводской люд неизменно владел одним правом на беспросветный каторжный труд.
В Российском государстве каждое столетие оставляло свои следы. По-особенному они отпечатывались в Уральском крае. Урал утвердил над всем свой собственный кондовый горно-лесной быт. В нем были и суровые порядки, и законы, и даже ужас империи – крепостное право было здесь на иной, еще более страшный лад. Да и заводская каторга переносилась уральцами тоже по-особенному. Трудовой люд, шагая в сбруе крепостничества, нес в своем разуме гордость, мужество, непокорность и мщение. Он до конца таил в себе боль страдания, не унижая себя перед угнетателями стоном и слезами о пощаде.
Суровая правда уральского быта, перепевы лесов выращивали смелые души, воспитывали в трудовом народе мудрость житейского навыка, хитрую и острую сметливость.
Россия, покусанная блохами Екатерины, исхлестанная шпицрутенами Павла, истерзанная жестокостью Аракчеева, запуганная экзекуцией Александра, вскрикивая от зуботычин Николая, мало думала о судьбе Уральского края, омытого Камой и отгороженного камнем лесистых гор.
В крае несметных богатств наглые домашние и пришлые воры лишь хищнически выхватывали с его земли золото и самоцветы, железо и медь, оставляя втуне еще неведомые сокровища недр. Те, кто правил страной, те, кто гнал уральцев на каторжный труд, нередко, позевывая после сытной еды, говорили вслух: «Душа вон, найди, коли велено, а ежели на поисках надобного на Урале народ дохнет, то не шибко велика беда: чего-чего, а народишку у матушки-России хватит…»
Народ России уже девяносто два года знал, что в камне и песке Урала водится золото. Люди заслушивались диковинными сказами про нечистую силу, оберегающую уральское золото от людских рук.
Девяносто два года прошло с того майского утра, когда Ерофей Марков, заложив шурф в Березовском логу, нашел золото, и богатеи, навеки завороженные его находкой, полоненные помыслом о наживе, непрестанно врывались в недра земли в поисках золотого счастья.
Легенды о первых счастливцах, намывших золотые горы, разносились ходоками по всей стране. Россия была наслышана про Расторгуева, Харитонова, Рязанова, Тарасова. Все они вышли из купечества, а поэтому и стали для него символами того, что уральское золото легче всего дается в руки купцов.
Путь купечества к золоту был мрачен и трагичен. Огромные состояния, скопленные поколениями, исчезали в перемывке «пустых» песков. Их хозяева, разорившись, сходили с ума, топились, вешались. Но тяга купечества к золоту не прекращалась. Врожденная страсть купцов к легкой наживе, болезненная жадность и мания тщеславия, несмотря на опасность разорения, гнала их к желтому металлу со всех концов России, они все плотней и плотней грудились на лесных тропах.
Не остались в стороне и дворяне, они срывали в России с земли целые деревни крестьян и перегоняли на Каменный пояс, ради прихоти стать золотопромышленниками. Барин даже в случае неудачи ничего не терял, он всегда мог продать на Урале живую рабочую силу, ибо покупателей на нее было много и цена за душу стояла более высокая, чем в европейской части России.
И все же дворянство, осторожничая, явиться к золоту запоздало и пришло к нему, когда лучшие золотоносные места были в руках купцов. Но кое-кто из дворян сумел присоединиться к жирным пирогам новоиспеченных миллионщиков, так как у купцов была неизживная чесотка родниться с барами. Дикие деньги толстосумов были великим соблазном, и немало старинных дворянских родов породнилось с купцами через сыновей и дочерей.
Екатеринбург стал центром скопления богатств. В городе миллионщики селились размашисто. Хвастались друг перед другом удачами. Перекорялись из зависти, плели интриги, распускали сплетни. Сорили легко нажитыми деньгами без цели и смысла. В домах богатеев свивал пыльные тенета закостенелый быт домостроя.
В девятнадцатом веке в Екатеринбурге обитала стая миллионщиков из купечества, в руках которых было зажато золотое счастье Урала. В этой стае водились разные люди по характерам и ухваткам наживы…
Глава четвертая
1
В верстах восьмидесяти от Екатеринбурга на холме раскинулось древнее торговое село. Холм, обрываясь, скалистой кручей нависал над рекой, за которой до самого Екатеринбурга тянулись дремучие леса. На вершине обрыва, в сосновом бору, уже четверть века хоронилась заимка Тимофея Старцева.
Хозяин заимки обозначился на Урале года за четыре до Отечественной войны, а род его по древним купеческим корням был новгородским. Он рано схоронил родителей. Потом его захватила золотая лихорадка, и Старцев с небольшими деньгами подался на Каменный пояс. На мокрети золотоносных песков следы его новгородских подборов отпечатались ровно через год после появления в крае.
Горщик Тихон Зырин, повстречавшись со Старцевым на лесной тропе, сдружился с ним, продал ему место со знаками на золото. Старцев, заведя делянки, но не имея понятия о золотом промысле, доверился ловким, продувным зимогорам и в первое же лето зарыл в пески дочиста все свои капиталы.
Осенью он снова повстречался с Зыриным. Тот, узнав о неудаче нового дружка, сразу понял, что Старцев стал жертвой артели старателей-хищников. Тихон Зырин помог неудачнику разжиться деньгами, уговорил его по весне вторично попытать золотое счастье. На этот раз попытка под приглядом Зырина неожиданно обернулась большим золотом и не только вернула затраченные капиталы, но и принесла прибыль. Везение пришло в ту пору, когда Лев Расторгуев выхватывал из песков шальные миллионы, начинала по-серьезному богатеть Василиса Карнаухова, когда сказочные богатства наживались и терялись в течение недели.
Старцев, приобретя на золоте капитал, срубил заимку у обрыва холма, на задах торгового села. Однажды он встретил в старообрядческом скиту возле Саткинского завода статную девушку. Она обворожила его красотой, согласилась убежать к нему из скита, покрыться венцом, но только после того, как он отойдет от золотого промысла. Любовь к молодой кержачке вынудила Старцева выполнить условие. Он скрепя сердце отступился от золота и, став семейным, занялся скупкой и продажей пушнины. В торговле ему везло. Из года в год он увеличивал свое состояние. Но золото тянуло к себе Старцева. И как только поостыла любовь к жене, измученный завистью ко всем, кто наживался на золоте, он, не выдержав искушения, снова прилип к золотому делу. Купеческая жадность заставляла его идти на темные дела, он завел около себя дружков с давно потерянной совестью, стал пить. Часто упрекал жену, что она отвратила его от золота, пьяным бил ее; через несколько лет после рождения дочери несчастная женщина, не вынеся постоянных мужниных побоев, ушла в сибирский монастырь и там приняла постриг.
Развал семейного очага не образумил Старцева. По всему Уралу бродила худая молва о его разнузданном пьяном загуле; он избивал малолетнюю дочь, однажды так повредил ей ноги, что она стала калекой и ходить могла только на костылях.
Свои темные дела около золота Старцев обделывал всегда по букве закона. Разорил сотни людей. Он был беспощаден. Все знали, что иметь с ним дело опасно, вроде лезть в петлю, но, несмотря на это, все же находились жертвы, капиталы которых переходили в карман Старцева.
Так Старцев стал миллионщиком с прозвищем Филин, и прилипло оно к нему после того, как на воротах его заимки повесился разоренный им купец Лобанов.
Старцев научился дружить с кержаками, привлекать на свою сторону всесильных старцев-поводырей, а после смерти Расторгуева, не будучи раскольником, стал для них ангелом-хранителем, хотя через его руки и попадали в заводское крепостничество люди раскола. С помощью Старцева разоряли друг друга заводчики и промышленники.
Имея понятие о людской ненависти, Старцев после пятидесяти лет большую часть времени стал проводить в доме, постепенно отходил от темных изворотов около золота, но ссужал деньгами неудачников и за неуплату по векселям отнимал у них земельные угодья со всеми ведомыми и неведомыми богатствами их недр. На Урале никто точно не представлял размеры его состояния, зато все прекрасно знали, что принадлежащие ему земельные участки были всюду, куда простиралась уральская земля…
2
Внезапно налетевший буран застиг тройку Ксении Захаровны Курнавиной в открытом поле. Она возвращалась в Екатеринбург с мраморных каменоломен и вынуждена была свернуть с тракта на заимку Тимофея Старцева, укрыться от свирепой стихии.
* * *
Приземистые, одноэтажные хоромы Старцева срублены из кедров. Над простором трапезной низко нависает потолок, покрытый замысловатой резьбой.
Сквозь узоры инея на окнах зимние сумерки мутнили горницу сизоватостью.
Глухо доносился сюда вой бурана.
Тимофей Старцев стоял, прислонившись к изразцам голландской печи. Заметный обликом. Высокий. Широкоплечий. Из-под бровей проницательно смотрят темные глаза, во взгляде их мало доброты. Волосы с крутой проседью подстрижены бобриком. Еще более густеет седина в пушистой лохматой бороде. На нем синий кафтан, надетый поверх холщовой рубахи, расшитой по вороту и подолу.
В кресле, укутавшись в шаль, сидела Ксения Захаровна и, откинув голову на высокую спинку, обитую лисьим мехом, внимала напевным звукам девичьего голоса. Они ширились, заполняли всю горницу и гасли в темных ее углах, и тогда на какое-то мгновение слышались протяжные вздохи бурана.
Пела Ирина, дочь Старцева. Она сидела возле окна на широкой лавке. На полу у ее ног лежали костыли.
Свет лампады желтил древние медные образа-складни, восковой отблеск бродил по бескровному лицу девушки. Обликом Ирина тоненькая, как деревцо, чахнущее в мочажине болота. Спокойные, мягкие черты лица и тоскливый взгляд под взмахами длинных ресниц. Извивается по плечу и свисает почти до полу черная тугая девичья коса с алой лентой. На синем шелке сарафана вокруг шеи поблескивают грани изумрудных бус.
Пела Ирина, перебирая пальцами струны гитары. Пела старинную русскую песню, грустную, со словами про тоску от несчастной любви. Голос у девушки густой, низкий и душевный, пела она сегодня по просьбе заезжей гостьи.
Ксения Захаровна словно бы и слушала Ирину, да мысли ее были далеко – там, на каменоломне, в избе крепостного скульптора-умельца Сергея Ястребова. Ясен в памяти Ксении образ молодого каменотеса, думы о котором заставили ее в новогодние дни укатить в лесную глушь, погребенную под сугробными снегами.
Перепугав обитателей каменоломни нежданным хозяйским наездом, Ксения всего четыре дня гостила в избе парня и только накануне отъезда осуществила свою мечту о его ласке…
Ирина умолкла, безвольно опустила руку, затем опять тронула струны и запела новую песню. Под ее напев снова поплыли перед глазами Ксении картины недавнего. Видела стены в избе Сергея. Видела, как сама охватила горячую шею парня. Сама прижалась к нему в порыве ласки, успокоилась от его ответной на жестком соломенном тюфяке. Лежала счастливая, с закрытыми глазами, закинув руки за голову, вдыхая запахи свежей соломы. Потом в памяти ожила обратная дорога, наполненная сладкой дремотой от убаюкивающего скрипа полозьев, от монотонного перезвона колокольцев.
Она торопилась в Екатеринбург, везя в материнский дом обретенный покой утоленной страсти, торопилась, как будто боялась снова потерять его на лесных дорогах, но буран загнал ее в тепло чужого дома, под взгляды чужих людей.
– Совсем темно стало, – промолвила Ирина.
Вздрогнула Ксения и очнулась от воспоминаний.
– Так распелась и даже позабыла, что давно пора к ужину накрывать стол.
Ирина положила гитару на лавку. Наклонившись, подняла с полу костыли. Подложив их под мышки, встала, с трудом переставляя ноги, пошла мимо Ксении.
– Спасибо великое за песни, Ирина Тимофеевна.
Остановилась Ирина. Она ласково улыбнулась, в глазах вспыхнула радость.
– Что вы… Поди замучила их тоскливостью. Они старинные. Напеты еще при царе Петре, когда уносили в наши леса раскольники свою веру. Матушка научила меня их напевам. Мастерица была на песни.
Вспомнила мать, и разом погасла радость в глазах девушки, и опять в них прежняя тоска.
– Обещаю никогда не позабыть ваши песни.
– Благодарствую на таком высказе. Радостно мне, ежели они в самом деле поглянулись, – сказала Ирина и медленно вышла из горницы.
Ксения посмотрела на хозяина, увидела, как он поспешно смахнул рукой с глаз навернувшиеся слезы.
Почувствовав на себе взгляд гостьи, Старцев, смущенно склонив голову, прошелся по горнице. Поскрипывали его сапоги. Остановился у окна, не оборачиваясь, сказал:
– Умеет петь Иринушка, несчастная моя доченька. – Старцев повернулся к гостье лицом и продолжал шепотом: – Все еще дикая сила в буране. Мы рады с Иринушкой, что из-за его дикости к нашим воротам своротили. Не часты у меня гости. Ох как не часты, Ксения Захаровна!
3
Вторые сутки не успокаивался буран, подвывал за окнами заимки.
Поздний вечерний час застал Старцева и Ксению в рабочей горнице хозяина. Увешаны ее стены старинным башкирским оружием, рогами диких коз и сохатых. На подвесных полках – чучела косачей и рябчиков. На полу, промытом с дресвой до белизны, медвежьи шкуры.
Ксения сидела на диване, укрытом рысьим мехом, поджав под себя ноги.
На столе в высоком подсвечнике горела свеча. У ее огня нет силы, чтобы осветить простор горницы. Ксении видна лишь пузатая печь, обложенная плитками малахита. Искусно подобранный узор камня похож на вспененные синевато-зеленые потоки воды.
Старцев, заложив руки назад, ходил по горнице. Широкая тень скользила за ним по полу, на секунды наползала на печь, скрывала от Ксении яркость причудливых каменных разводов. На Старцеве черная суконная рубаха с расстегнутым воротом. Бархатные шаровары вправлены в голенища оленьих бурок. Голос у Старцева глухой. Говорил он медленно, будто прислушивался к сказанным словам, будто проверял их звучание:
– Не зряшны, Ксения Захаровна, мои речи. Пора вам зачинать думать, как место матери заступить. Страшновато вам про такое думать, но все одно, пора подошла. Не только в нашем крае, а по всей империи годы проходят крученые. Промеж дворян и промеж купцов нет согласия. Каждый норовит в свою сторону тянуть. Того и гляди по миру пустят… Да и копится желчь в народе – обозлен мызганьем жизни пуще голодного волка. О-о-ох, и хмур… Вот и пора вам зачинать думать про то, в какое время заступать место матери придется.
– Матушка пока мне не велит об этом думать. Сама за всем смотрит и со всем управляется.
– Это понятно. Молодость вашу бережет. Хорошо знает, как свою молодость в старость обрядила. Она сюда в лихое время пришла… Помню, как впервые повидал вашу матушку, Василису Мокеевну.
Старцев торопливо перекрестился.
– Удалая походка была у нее. Пригоршни на весу держать умела. Знаю, что с самого почина жизни Мокеевны подле золота оно из ее рук, вымытое, в обрат не просыпалось в пески. Довелось поглядеть, как пестовала она свои промыслы. До дна докапывалась в песках. Не рвала с них богатства кое-как, только сверху. И вот сделалась миллионщицей, как Лев Расторгуев, стала в крае первой бабой золотоискательницей, не нося за пазухой страха. Не моргнув, вошла в круг шальной, грубой мужицкой погони за наживой. В народе про вашу матушку тоже всякое можно услышать. – Старцев кашлянул. – Молва здесь у каждой бабы цветаста. О каждом из нас молва бродит. Знают о Василисе Карнауховой по всему Камню, что молодухой, шаря золото, могла постоять за себя. Она иной раз таких мужиков пинала… Нелегко Мокеевна складывала кирпичины уральского житья. По самым глухим и скользким тропкам хаживала, по коим даже зверье побаивалось ходить. Вот кого вам придется скоро заступать. Пора усадить старуху в кресло, а заместо нее начать править вожжами карнауховской тройки. Мне на своем веку довелось всяких наследников повидать, но мало было среди них достойных своих родителей. Расторгуевских дочек сами знаете. Какие дюжие росли. Кровь с молоком в них переливалась, а как померли родители, дочки в перинах отечным жиром заплыли.
– Вот и я такой буду.
– Не положено вам быть такой. Не слепой Старцев. Вижу, что есть в вашей походке намек на матушкину поступь. Смелости только мало. А ведь была она у вас, да, видно, от столичной жизни поутратилась. Но это поправимо. Вы себе муженька простецкого, с крепкими кулаками отыщите, да с такой же смекалкой, как… у Тихона Зырина.
– Совсем меня за эти дни перепугали рассказами. Слышала, что народ на Камне до гробовой доски с ненавистью ко всем, кто прежде всего с плеткой к нему подходит. Мамаша мне о многом говорила. Сама я была свидетельницей, как Григория Зотова строгановский розыск оторвал с крепостного загривка. Это нам всем и урок – с народом надобно, как с детьми… Не все кнут да хомут, надобно и пряником. Мамаша верно говорит: что ладно, то ладно, а что ладнее, то еще прибыльнее. А Зотовы нам могут всю обедню портить – одно беспокойство.
– Вон вы какие речи молвите, Ксения Захаровна! Есть тут и ваша правда. Напрямки и медведь лезет. Весь край на силе держится. Вот и помощники Гришки Зотова, приказчики его, не все ухайдаканы…
– Кто же из них еще живой?
– Хрустов Михайло. Слыхивали про такого?
– Нет.
– Более десятка лет он в наших лесах скрадывается. Но и до него дотянут. Дойдет очередь и до него. Гришку Зотова граф Строганов с ног сшиб, но не успели его на Камне позабыть, как среди нас новый такой же объявился. Барин.
– Муромцев?
– Он самый. Он такое выкомаривает, что Зотову даже не снилось.
– Но правда ли это? Иногда у нас лишнее болтают.
– Бывает. А все же про Седого Гусара всякое слово истинное. Мы про него еще не все знаем. Но он пострашнее многих из нас. Муромцев собирается медь отнимать у всех. У вашей матушки она по жирности самая лучшая. У меня ее ведомо-неведомо.
– Но медная руда есть также у Харитоновой, у Сухозанета. Она почти на всех заводских и приисковых землях. Неужели у всех станет ее отнимать?
– У всех, мыслит.
– Это правда?
– Побасенками не балуюсь.
Ксения встала с дивана. Подошла к печи. Приложила ладони к ее малахитовым теплым плиткам.
– Вижу, вас встревожили замыслы Муромцева?
– Встревожили, – не оборачиваясь, отозвалась Ксения.
– В столице у него много покровителей. Они, конечно, помогут ему. У сановников под мундиром сердце тоже не каменное – кто же уступит, на золото глядючи? У вас, Ксения Захаровна, в столице больше, чем у нас, протоптанных дорожек. Вам надо туда катить и не давать ходу Муромцеву. Женщине легче на самых уросливых мужиков уздечку надевать. Чего в Екатеринбурге киснете? От сплетен можно одуреть. Матушка на вас не без умысла дворянскую ротонду сшила. Чуяла, что станете ей опорой.
Ксения резко обернулась и застыла у печи, скрестив руки.
– Прошу прощения, ежели мои слова не совсем по сердцу. Грешно такой женщине руками жар-птицу не поймать.
– Обжечься можно.
– На ожог подуть можно.
– Силы у меня может не хватить.
– А на чем тяжелом силушку свою пробовали? Со скуки приучили себя к таким мыслям. – Старцев приложил руки к своей груди и вкрадчиво продолжал: – Вы, Ксения Захаровна, понять должны. Нельзя Муромцева на медь пускать. С медью отнимет он у всех работную силу. С попами раскол из лесов выжжет и выгонит. За себя не боюсь. Я – Старцев, женщиной себя заслонять не стану, а вот вас с матушкой, пока время есть, советом заслонить собираюсь. Буран заставил вас, по совету ямщика, к моим воротам свернуть.
– Неправда. Заехала к вам намеренно. Могла к любому дому в селе свернуть. Заехала, чтобы своими глазами на вас посмотреть. И понимаю, что не зря заехала. Старцевых на Урале нечасто встретишь. После нашего разговора начинаю по-другому понимать. Но вы что-то недоговариваете. Высказывайте про все сразу. Обучайте уму-разуму. – Ксения немного помолчала и произнесла задумчиво: – Может, и впрямь надо мне в столицу податься. Правду сказали, что начала прокисать. Сказывайте, про что надумали.
– Скажу, а вы запоминайте. Слыхали, чать, про меня изрядно?
– Слыхала, а теперь увидела. Поняла, что умный вы да и вроде бы монашескую рясу на себя про запас не надеваете.
– С понятием разговор ведете.
– При одной свечке, видать, с трудом распознаете?
– Дремлете по-кошачьи, а в норе мышь чуете? Прежде глядел на вас и зачинал думать, что вы, на манер наших купчих, с тоски не знаете, о который косяк головой стукаться. Другое думал раньше о вас, повидав с Плеткиным.
Ксения от последних слов насторожилась. Прижала спину к теплу печи.
– От встречных на пути за столбы не прячусь.
– От таких, как Плеткин, бабам надо в сторону сворачивать. Опоганить может.
Ксения оттолкнулась от печи. Прошлась до того угла, где шаркал маятник часов, приблизилась к столу со свечой, остановилась, заслонив свет, разом метнулась от нее тень на пол, вытянулась и слилась с темнотой на ковре возле дивана, на который присел Старцев.
– Правду хочу сказать вам про себя, Ксения Захаровна. Проклятый я человек. Всякой мерзости шибко много расплодил в себе. Для людей под старость стал вроде чудища. Из-за страха меня в покое оставляют. Верят, что нечистая сила оберегает меня от людского мщения. Мне неплохо оттого, что люди чепухе верят. У меня по сей причине на Урале угодий прорва. Все леса про Старцева шумят. Мои следы на всем Поясе от Конжаковского Камня до обоих Таганаев. Уж какой всесильный в крае генерал Глинка, а и он меня побаивается. Боится, чтобы не смахнул с него генеральский картуз. Не боится меня только ваша матушка, потому после смерти Луки Лобанова головы не шевелит на мои низкие поклоны. Зависть и жадность округ страшным человеком меня вырастили. Моя главная сила и защита от всего – раскол. Кержакам я не сделал большого добра. Но не пробуйте сказать им про меня худое слово. Ничему не поверят, а вас предадут анафеме, со света сживут. Вот каков Тимофей Старцев! Матушке вашей при случае скажите про мое слово. Она знает, что оно у меня крепкое. Начнет Гусар медь на наших угодьях отнимать, я для обережения ее раскол на ноги подниму во весь его рост, по всему Камню. Вот какая у меня сила!
Замолчал Старцев и долго ходил по горнице. Потом снова заговорил:
– С вами, Ксения Захаровна, решил поговорить о самом дорогом мне человеке. Есть у меня, проклятого, такой человек. Дочь Ирина. Просить хочу вас, что ежели сгину в драке с Муромцевым, если сомнет меня, то примите в свои руки материнскую заботу об Иринушке. Не сходя с места, слово дайте, что приласкаете ее, когда я ноги протяну в остатний час. С поклоном прошу вас о том.
Не успела Ксения ответить Старцеву, как он тяжело опустился в кресло и закрыл лицо руками.
Ксения стояла растерянная. Похолодела от слов неожиданно пришедшей Ирины:
– Просьбы батюшки не пугайтесь.
Ксения подошла к Ирине, обняла ее, прижала к себе, не отводя взгляда от Старцева. Слышала шепот Ирины:
– От слез у него на душе отляжет. Болит у него душа. От всего болит. Есть она в нем. Найти ее под конец жизни не может, а я ничем не могу ему пособить. Второй раз в жизни плачет. Первый раз плакал, когда ноги мне поленом отшиб…






