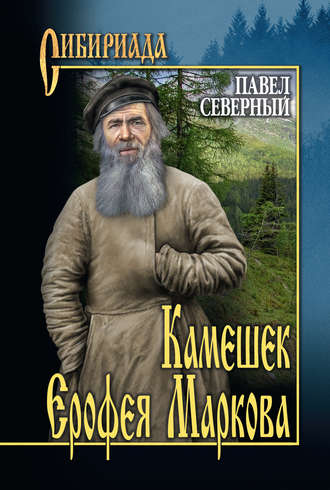
Павел Северный
Камешек Ерофея Маркова
– Слушаюсь!
Поручик встал и, звякнув шпорами, вышел. Капитан оглядел сидевших за столом, протянул хозяйке свой пустой стакан:
– Плесните горяченького…
Анфия Егоровна налила офицеру чай и подвинула к нему стакан. Капитан положил малинового варенья в чай и, помешивая его в стакане, произнес:
– Если сказанное тобой, монаше, окажется правдивым, прикажу солдатам в избах табаком не забавляться.
Хозяйка все время исподволь наблюдала за иноком и приметила, как он поспешно съел шаньгу, запивая чаем. Догадалась, что человек голоден и только стеснительность не позволила ему воспользоваться предложением о еде. Налила второй стакан чаю, поставила ближе к нему вазочку с медом и тарелку с морковными пирогами.
– Кушай, отче, на здоровье. От стужи медок надежная заступа. Опосля в баньку сходишь. Господа офицеры ране помылись. А с тобой муженек мой за компанию помоется. Тебе обязательно надобно попариться. Верно говорю, Фодя?
– Обязательно попаримся, Анфия Егоровна. Баня у нас, отец, по-белому топится.
– Преотменная баня, – подхватил капитан. – А веники – восторг. От каких берез нарезаешь, хозяин?
– От уральских, ваше благородие.
– Но почему от них после запарки исходит особенный аромат?
– От умения в пору ветки нарезать, покедова в листве молодая зеленость.
– Неужели и веники надо вовремя готовить?
– Обязательно вовремя, ваше благородие.
Пришелец не принимал участия в разговоре, и капитану вдруг захотелось нагнать на него страх каким-нибудь неожиданным вопросом, заставить растеряться. Отхлебнув из стакана чай, капитан уставился на инока и громко спросил:
– В каком сословии значился, монаше, перед уходом в монастырь?
Пришелец погладил рукой бородку и ответил:
– Смиренно приняв постриг, навек схоронил память вместе с мирским именем, а заново народившись с именем Симеона, стал грешным рабом божьим.
– Может, скажешь, откуда путь держишь?
– Скажу. Из Табынской обители иду.
– Где же таковая находится?
– В сибирской стороне.
– И ты оттуда идешь пешком?
– Иной раз на обозные подводы подсаживаюсь.
– Повидал Сибирь?
– Повидал, но, конешно, не всю. Она большущая.
– Как в ней простой народ царский закон сохраняет?
– Как? – Инок пожал плечами. – Как подобает. Сибиряки – народ сурьезный, ваше благородие. Окромя всего и сторона таежная, посему вольности с законами не дозволяет.
– Холопам там вольготно. Без господской руки живут.
– А им, ваше благородие, одной царской десницы хватает.
– А отсюда куда пойдешь?
– В Первопрестольную.
– За какой надобностью?
– Послан братией повидать богатую московскую барыню, пожелавшую сделать денежный вклад в нашу обитель.
– В Москву идешь, а одет совсем нищенски.
– По вашему разумению, видать, одежа моя не совсем подходящая для Первопрестольной? Вот ведь как. А я думал, на мне ряса как ряса.
Капитан встал из-за стола и, напевая, прошелся по горнице.
– Не плохо живете, хозяева. Думаю, что мы и завтра у вас постоим. Попрошу посему к обеду поросеночка зажарить. Отменно готовите.
– Как прикажете, так и изладим, – ответила Анфия Егоровна, вспыхнув румянцем от похвалы.
– Пожалуй, до ужина и прилечь не грешно?
– Сделайте милость. Та дверь в опочивальню. Мы уж вам ее уступим. Невелика она, зато теплая. Постели давно изложены.
Капитан направился к двери, но вопрос пришельца заставил остановиться.
– Сами, ваше благородие, куда направляетесь?
– В Екатеринбург, по приказу генерала Глинки.
– Понадобились генералу?
– Мое дело – укреплять порядок среди рабочих на заводах.
– Неужли они рушат порядок?
– Бывает, что и рушат. Смутьяны среди них заводятся, один недавно посмел бежать из верхотурского острога.
– Не скажите. Из острога убежал? А караул чего глядел? – повысив голос, спрашивал инок.
– Караул? Нализались браги и проспали, сукины дети.
– Вот ведь как. Приставлены варнаков караулить, а они ворон ловят. Поди имечко беглого знаете?
– Не интересовался.
Возвратился в горницу поручик.
– Ну что выяснили? – полюбопытствовал капитан.
– От табачного дыма в бараке действительно туманно.
– Иконы видны?
– Никак нет.
– Приказываю! – Капитан, заложив руки за спину, прошелся по горнице, придвинулся вплотную к поручику: – Приказываю запретить нижним чинам курение табака в жилых помещениях.
– Слушаюсь! Разрешите выполнить приказание?
– Не торопитесь. Утро вечера мудренее. Сейчас составьте компанию поспать часок перед ужином.
– Слушаюсь!
Офицеры удалились в отведенную им комнату. Инок, напившись чаю, перевернул на блюдце стакан вверх дном.
В горнице с горящей свечой в руках появилась девушка. Сняв у порога валенки, поставила свечу на стол и начала собирать посуду.
Анфия Егоровна обратилась к мужу:
– Пора, кажись, Фодя, в баню идти.
– Пора так пора. Пойдем, отец.
– Только ты не вздумай, отче, в баню в лаптях идти. Муж тебе валенки даст. Слышишь, чего говорю, Фодя?
– Слышу. Без твоего наказа обул бы гостя…
Хозяин и пришелец, прихватив медные тазы и веники, вышли из избы в темноту крытого двора. Тускло горели три фонаря на подворье, едва освещая закуржавевших от инея лошадей, с хрустом жующих овес и сено.
К людям подбежали лохматые псы, деловито обнюхали валенки монаха и, учуяв знакомый запах, повиливая хвостами, проводили до огорода.
Хозяин первым ступил в предбанник и зажег сальную свечу. Следом вошел гость, запер дверь на засов, и тогда хозяин кинулся к нему, крепко обнял, шепотом выговаривал:
– Савватий! Савватушка, дружок! Живой! Дождался тебя!
– Земной поклон тебе за помощь, Мефодий.
Разжав объятие, Мефодий усадил Савватия на лавку.
Ему хотелось сразу обо всем расспросить, но волнение перехватывало голос. Не мог говорить и Савватий.
Отблески от огонька свечи вспыхивали искрами в их влажных глазах…
Мефодий Шишкин, по давней привычке не перечить твердому слову супруге, отвел Савватия ночевать в сторожку – и все потому, что, пока они мылись в бане, капитан высказал хозяйке недовольство пребыванием неведомого монаха под одной крышей с офицерами.
Постоянный обитатель сторожки – старик, по ночам на воле караулит хозяйское добро; он отягчен всякими недугами, из-за этого большой охотник тепла. Печь в сторожке истоплена по-жаркому, на стеклах окошка пушистый иней в водяных натеках.
Ночь с ветерком. Наносит он порой разноголосый собачий лай, нарушая торжественное безмолвие студеной ночи, и поди пойми, отчего у псов беспокойство, то ли от стужи, то ли недоброе чуют.
Отнесет ветерок лай в сторону, слышится перестук колотушек, и громко клохчет по-куриному колотушка хозяйского караульного, когда близко подходит к сторожке.
Савватий уже давно лежит на лавке на разостланном тулупе, а сна нет. Ворошатся мысли. Вот одна вдруг покажется дельной, но ее разом заслонит сомнение. Как не быть сомнениям? Часто Савватий ошибался в замыслах. Иные казались ему правильными, необходимыми на жизненной тропе, а на поверку заводили его в тупички, из которых по-трудному приходилось выбираться.
Не мог Савватий заснуть не от тревог, а от радостного волнения после встречи с Мефодием.
Прошло шесть лет с последнего их краткого свидания. Да разве можно встречи украдкой называть свиданиями? А в общем-то, двадцать зим отбуранило с тех пор, когда вдовая купчиха увезла кузнеца Мефодия из Каслей и порвала кольцо мужской дружбы.
От бессонницы у Савватия мечутся мысли. Суровую жизненную тропу протаптывает. Радостного было мало, да и кончились все радости, как минуло босоногое детство, когда даже голодуха переносилась только с морщинкой на лбу и забывалась во сне.
Далеко ушел от детства за прожитые сорок лет, а память будто ничего не потеряла. Помнит Савватий, как его родителей продал помещик скупщику с уральских заводов. Помнит, как гнали их утугой в шестьдесят голов, с ребятишками, по пыльным и грязным дорогам из Смоленской губернии. Помнит, как по ночам на привалах, чтобы бабы и мужики не сбежали, их приковывали цепями друг к другу за ноги. Помнит, как на уральской земле отцу Савватия, пахарю Зоту Крышину, приказали стать доменщиком, мать заставили поднимать тачкой руду на домну, а Савватий терся возле материнской тачки, помогая нагружать в нее комья железной руды. Шел Савватию одиннадцатый годок, когда он попался на глаза литейному мастеру Пахому. Тот выпросил паренька у приказчика себе в подручные и стал обучать, как кожух набивать, как колпак ладить, формы сушить перед отливом. Дельное литье выходит от правильной формовки. В ней вся сила литейщика. Старание Савватия пришлось по душе Пахому, и литейный умелец терпеливо учил его премудростям ремесла. Савватий бережно складывал в разуме заветы учителя, а потом стал и свои выдумки применять при формовке и при отливе формы, да так неплохо, что Пахом иной раз называл его «умельцем». Нравилось Савватию превращать серый чугун то в кружево, то в какую-нибудь занятную фигурку.
Чего только не приходилось Савватию отливать под ведущей рукой Пахома! Лил узорные, кружевные решетки, плиты с замысловатой вязью буквиц, ларцы, научился сам вырезать модели для отливок, вызывавших удивление. Постиг чекань на отливках и воронение. Своим умением укреплял по Уральскому краю славу каслинских литейщиков. Отлитые Савватием решетки из чугуна и меди увозились в стольный град на Неве, Москву, Екатеринбург для украшения оград дворцов вельмож и богатеев.
Став литейным умельцем, Савватий принимал близко к сердцу невзгоды работного люда.
Хотя и родился Савватий в курной крестьянской избе, ему не пришлось ходить по борозде за сохой, не довелось слушать звенящую песню косы на душистых покосных лугах в родном Смоленском краю.
По чужой воле, завод отлучил его от земли дедов и расплавленным чугуном сроднил с новой, рабочей судьбой; все же тянуло его весной к земле, когда она скидывала с себя зимнюю обузу снега и льда. Не мог он оторвать память от красот природы, недаром в формах его диковинных отливок переплетались узоры веток, цветов и колосьев. Была в его отливках неповторимая правда о чудесах природы, будто лил он свои узоры не из чугуна, будто просто окаменели веточки, цветы и колосья по колдовскому волшебству.
Молодым пережил придавившее душу первое большое горе. Как-то, вернувшись домой с работы, увидел на столе под домотканой холстиной мать – ее измученное сердце перестало биться. Вскоре ушел из жизни отец, так и не нажив смелости перечить заводскому начальству.
Савватий перенял характер деда с материнской стороны. Тот был гордым, непокорным и умер под плетями, не покорившись самодурству барина. У Савватия супротивность завелась с детства. Начав работу с Пахомом, он с его помощью осиливал грамоту. Однажды его застал с букварем приказчик и хлестнул нагайкой, а Савватий, кинувшись на обидчика, вырвал нагайку, исхлестал приказчика. За это парень был жестоко посечен плетями, брошен на две недели в комариную яму возле гнилых болот. В той яме и произошла его встреча с Мефодием Шишкиным, сдружился с ним. Был неразлучен с другом до тех пор, пока Мефодий не уехал из Каслей, сменив кузнечный горн на ласку купчихи.
Закралась и в сердце Савватия любовь, но не принесла счастья. Любимую барский сынок проиграл в карты. Осталась на душе саднящая рана от горя и обиды. Тогда-то и началась у него иная жизнь, с помыслами не только о своей судьбе, а о судьбах всех, кто около него носил звание работного человека. Появились мысли, что именно руками работных людей создается сытость, покой, непобедимость государства. А господа, владеющие по ревизским спискам их душами, по барскому лихому наитию принижают людское достоинство, а то и меняют крепостных на гончих собак, проигрывают в карты, как будто это перстни, снятые с пальцев барских рук.
Савватий скоро убедился, что у многих работных людей тоже роятся мысли об иной жизни. Говорил ему о необходимости перемен вернувшийся с солдатчины дядя Емельян Крышин. Изрядно порассказал он племяннику о жертвенной смелости пахарей и работных людей, наряженных царем в солдатские мундиры, спасших отечество от нашествия Наполеона.
Дядины бывальщины помогли Савватию осознать, что в руках и разуме простолюдинов хранится неодолимая сила, что от грозной беды их грудью заслоняются господа, а в благодарность награждают сермяжных спасителей острогами, кандалами, нагайками.
Размышляя о вольности, о нраве на иную жизнь среди извечного бесправия, Савватий и накопил смелость испросить защиту для работного люда у царя Александра Первого, когда тот приезжал на Урал за год до своей смерти.
Передавая царю бумагу с мольбой о милосердии к простому люду на горнозаводской каторге, Савватий верил, что царь защитит от зверств заводчиков.
Савватий и сейчас помнит ласковое выражение царских глаз, почудилось ему тогда, что царь поймет его мольбу о бесправной участи работного люда, окажется отцом милостивым для своего народа.
С каким нетерпением несколько бессонных ночей ожидал Савватий царской милости и – дождался: как только царь покинул Урал, Савватия высекли плетями, взяли в железа и засудили за смутьянство на пять лет.
До чердынского острога, в котором сидел Савватий, дошла весть о господском бунте в Петербурге. Не мог он понять смысла, отчего офицеры взбунтовались против нового царя. Не мог поверить, что господа учинили бунт ради простого народа…
И все же весть о петербургском бунте пробудила в Савватии стремление к свободе, и он выискал случай для побега из острога. Убежав, скрадывался в глухих лесах Конжаковского Камня, тайком посещал тамошние заводы, прииски и шахты; работные люди вслушивались в его слова о том, что пора искать пути к вольной жизни. Последовал бунт в Богословском заводе госпожи Половцевой. Работные люди требовали убавить уроки и учинить справедливую плату. Своевольство и ослушание рабочих были подавлены воинской силой. Савватия и его друзей, по предательскому доносу, поймали и осудили. Савватия сослали в тюменский острог на восемь лет.
Нежданно пришел к нему на помощь верный друг Мефодий Шишкин и помог осуществить вторичный побег. Но не послушался Савватий совета Мефодия некоторое время пожить в Сибири и опять появился на Южном Урале, где о нем уже ходила в народе молва как о радетеле за судьбы работного люда.
Через два года после тайного укрытия Савватия начались волнения на приисках и рудниках, потом перекинулись на заводы Южного Урала, которые не так легко было усмирять даже воинской силой. На одном из приисков Савватий простудился, и больным был схвачен во время облавы, но не опознан. Ему удалось выдать себя за другого, и после суда над зачинщиками волнений он снова был посажен в верхотурский острог. А в народе жила уверенность, что Савватий из Каслей на свободе.
Волнения на Южном Урале по-прежнему не стихали…
В окошко просеивается мглистость зимнего рассвета.
В усадьбе пропели первые петухи. Донеслись со двора громкие людские голоса.
Так и не заснул Савватий. Встал с лавки, накинув армяк, вышел во двор. Фыркают лошади. Седлают их, переругиваясь, стражники и выводят коней в распахнутые ворота.
Орет капитан, отдавая команду, пересыпая ее крепкими словечками. Потом все стихло. На заезжем дворе Анфии Егоровны кончился постой воинской части. Савватий вышел в раскрытые ворота, к нему подошел, прихрамывая, караульный, перекрестившись, сказал:
– Убрались, слава те господи, мундирные живоглоты. Как поспалось, отец?
– Благодарствую.
– Теперича мой черед соснуть. Малость продрог, ночь была с ветреным прихватом. Чать, слыхал, как псы во всей округе брехали? Верная примета на дюжий мороз. Сделай милость, подсоби ворота затворить, а то Егоровна начнет пилить за недогляд.
Исполняя просьбу караульного, Савватий стал закрывать створу ворот.
4
На третье утро Савватий пошел в церковь, чтобы не вызвать у кого-либо к себе подозрение.
Народу в богатом, просторном храме мало, да и топят его со скупостью, потому парок виден от дыхания молящихся. Пол выложен литыми из чугуна плитами, а в зимнюю пору от одного погляда на них в дрожь бросает.
Савватий встал возле колонны у киота с иконой Николая-угодника. Перед ней две лампады теплятся, оттого лицо Савватия на свету.
Священник, правящий службу, выходя на амвон с кадилом, приметил монаха, то и дело кадил в его сторону, на что Савватий отвешивал глубокие поясные поклоны.
Перед концом обедни с клироса сошел псаломщик, приблизился к Савватию и, недружелюбно оглядев его, нехотя, совсем неприветливо высказал:
– В алтарь ступай.
– Пошто? – удивился Савватий.
– По-ш-ш-то? – растягивая слово, передразнил псаломщик. – Велят, так иди.
Хмурое, изрытое морщинами лицо псаломщика, со взглядом слезящихся глаз, в оправе припухших красноватых век, Савватию не понравилось, он опасливо огляделся по сторонам, остановив взор на стражнике, водружавшем у распятия свечку, но все же последовал за псаломщиком.
Ступив в алтарь, перекрестился, подошел к священнику и коснулся губами его благословлявшей руки:
– Человек велел перед тобой, батюшка, обозначиться.
Священник оглядел незнакомца:
– Скажи, инок, из какой обители?
– Из Табынской.
– Стало быть, это ты. Только как-то неладно. Гостишь в заводе, а в церковь не ходишь.
– Истинно говоришь. Согрешил. Занемог малость. Видать, остуда меня прихватила.
Священник, взглянув на лапти Савватия, соболезнующе произнес:
– Обутки у тебя не ко времени. Видать, по обету носишь.
– Сподручно в них.
– Тебе видней. Стало быть, ты и есть из Табынской обители. Слыхивал про твой монастырь. Старинный… Как про тебя узнал?.. Вчерась запоздно по вечеру солдат конной стражи наведывался ко мне домой, чтобы дознаться, есть ли Табынская обитель в сибирской стороне.
– Знамо есть.
– Я его заверил в том, но полюбопытствовал, кто его ко мне дослал. Солдат доложил, что по приказу командира. Сказал, что его благородие сомневается, есть ли такая обитель. Ты где того командира повидал?
– У Шишкиных стою. С его благородием за одним столом чаевничал, а он, накось, вдруг сомнение возымел, что ему про обитель неправду сказал. И пошто засомневался?
– Ума к тому, инок, не клади. В нашем краю военное начальство недоверием к людям обороняется. Во всяком рабе божьем не того углядывает, кем он на свете значится.
– Так видать же, что монах я, а он все одно сомневается.
Священник взял с престола просвиру и подал Савватию:
– Возьми. У хороших людей стоишь. Поклон передавай хозяевам. Коли явится какая нужда, ко мне стучись.
– Благодарствую, батюшка. Христос тебе во спасение…
Вернувшись из церкви, Савватий застал во дворе хозяйку, наблюдавшую, как кучер из сена ладил сиденье в ковровой кошеве. Увидев пришельца, она спросила его:
– Никак от обедни?
– Отстоял раннюю. Просвирку вот тебе от батюшки принес. Кланяться велел.
– Спасибо за заботу обо мне, грешной.
– Так уж и от меня прими благодарение за душевное тепло под твоей крышей. Никак собралась куда?
– И то собралась. Решила в Екатеринбург сгонять. Овес в хозяйстве на исходе, стало быть, пора подкупать. Цены-то, слыхала, будто подходящие. Боюсь, чтобы не подорожал. Ты, сделай милость, без меня не уходи. – Заметив, что Савватий опять в лаптях, всплеснула руками и заговорила с обидой: – Господи боже мой, нет на тебя управы, упрямец! Пошто не в валенках?
– Так…
Хозяйка перебила его:
– Ведь насмерть застудишься. А тебе вон куда надо! В Москву. Так, гляди, наказываю: без меня со двора не сходи. С Мефодием беседуй, он у меня мужик рассудительный. А уж по характеру такой сговорчивый, такой непоперечный, оттого и живем с ним душа в душу. Ступай в избу. Велела тебя чаем с горячими шаньгами угостить.
– Благодарствую. В городу поди долго прогостишь?
– Что ты. Завтре к вечеру обернусь, сам видишь, какое хозяйство на моих руках.
После полудня солнечный свет, пронизывая причудливые узоры инея на промерзших стеклах, золотыми полосами лег на половики хозяйской горницы.
Савватий с Мефодием сидели на диване.
После отъезда Анфии Егоровны, оставшись наедине, они получили наконец возможность поговорить без утайки. Савватий рассказывал о своем побеге из верхотурского острога.
– Дожжило в то утро, а у меня в ненастье на душе завсегда тоскливость. Нежданно выкликнули меня к караульному начальнику. Боялись мы его. Без причины, вродя как для забавы, по зубам бил. И надо признать – мастером был на сей счет. Ну, объявился перед ним в правежной, вижу, стоит молодой парень. Кинулся он ко мне разом обниматься. Оторопел я, а он шепчет мне, чтобы тоже выражал радость. Караульный начальник, поглядев на нас, вышел. Тогда парень засыпал скороговоркой да выложил мне, что прислан тобой с умыслом о моем убеге. Парень велит верить каждому его слову. Чтобы не было у меня сомнения, что он от тебя, помянул имена моих померших родителей. Тут я поверил. Потому ты знавал их по Каслям. Парень толкует мне, а у меня во рту от волнения горечь, в ушах звон, но все слышу, что наказывает. Сперва велит прикинуться богомольным, ходить с арестантами в монастырскую церковь. Говорит, что под осень монахи для топки печей в монастыре нанимают в истопники острожных арестантов. Велит и мне напроситься.
– Ничего не утаивай, все припомни, как было, Савватушка.
– Да разве такое позабудешь? Слушай дале. Наказы человека я выполнил. Когда стал густо опадать желтый лист, определили меня вместе с другими арестантами в истопники. Под присмотром стражников начали в монастыре дрова заготавливать. И одинова, вовсе будто невзначай, подошел ко мне опять твой человек, но только уж в подряснике послушника, вроде как от монастыря за нашей работой присматривает. Стал меня обучать, как сподручнее чурки колоть, а сам опять наказывает ладом поглядеть бревна, наваленные возле монастырской стены. В том месте стена тянется по кромке лесистого овражка. Пока дрова кололи, твой парень в облике послушника частенько возле меня терся. Зима подошла. Выдалась, сам знаешь, споначалу снежная и морозная. Вот сказываю тебе, а самого то в жар, то в озноб кидает.
Савватий встал с дивана, подошел к печке, прижал ладони к ее медным бокам, помолчал и опять заговорил, не оборачиваясь к Мефодию:
– Недели за две перед Рождеством велели мне дрова к печам в покой игумена носить. Ношу охапки, а по пятам ходит стражник. Тащу, кажись, седьмую охапку и вижу на крыльце твоего парня. Стал он стражнику выговаривать, чтобы тот не ходил за мной в покои, потому, дескать, плохо ноги отряхает от снегу и на полах мокреть разводит. Говорит, что сам за мной в покое станет приглядывать и не хуже его меня укараулит. Стражник сперва в амбицию вломился, как это так перед ним такой запрет кладут, но потом махнул рукой. Вошли мы без стражника в покой, а парень мне и выложил, что через два дня в субботний день, за всенощной, надо мне бежать, да и помянул, какой даст в церкви знак для убега.
Савватий прислонился спиной к печке и задумался.
– Чего замолчал? – нетерпеливо спросил Мефодий.
– Вьюжило крепко с утра в ту субботу. Боялся я, что отменят поход в церковь, но, на мою радость, в церковь нас повели. Стою в третьем ряду арестантов. Самого дрожь бьет. Слушаю службу, а помыслы – о знаке для убегу. Запел хор «Свете тихий», и вдруг у амвона женщина заголосила не своим голосом, пала на пол, стала в припадке падучей корчиться. Это и был договоренный знак. В храме переполох поднялся. Люди кинулись к женщине, смяли ряды арестантов, заметались стражники возле нас. Гляжу, в подсвечниках стали свечи гаснуть в той стороне, куда мне бежать – в левый придел. Рванулся туда да сшибся со стражником. Звякнул его изо всей силы кулаком да – в алтарь, а там меня парень ждал. Вместе выбежали на монастырский двор, переулками между келий побежали к ограде. Сам не помню, как взобрался по бревнам на гребень стены, бегу по нему, а за мной парень. Велит прыгать. Я махнул в темень, по сугробу кубарем покатился в овражек. Теперича перед тобой. Вот только дельных слов для благодарности никак высказать не могу.
– Да мне их и не надо. Какой день счастливцем живу, на тебя глядя. Что пришлось обрядиться в монашескую лопотину, не серчай, Савватушка. Задумав вызволить тебя из острога, мы с тем человеком не сразу решили, как тебя попервости на воле от беды оберечь. Вот и замыслили, что в обличии монаха самое лучшее обережение. К монахам всякое начальство меньше вяжется.
– Умно затеяли. Все так обошлось, что до сей поры дивлюсь, будто сон гляжу. Как велишь вызволителя поминать? Он мне так и не назвался.
– И от меня имени его не услышишь. Человек верный. Работником у меня два года жил. Беглый человек. В крае нашем после вызволения тебя след его простыл.
– Чего сдеялось?
– В Сибирь подался. Из неволи убег вовсе недавно. Барина его за столичный бунт в сибирскую каторгу услали. Все время таил в себе замысел, как ему к сосланному барину добраться. Дознаться порешил, по какой причине господа взбунтовались против царя. И верно ли, что хотели работному люду волю добыть. Хотелось ему дознаться, в чем господа в бунте ошибку сотворили. Пошто не осилили царскую сторону да сами угодили кто в петлю, кто в каторгу.
Савватия сказанное ошеломило, от удивления он даже рот рукой прикрыл.
– Вижу, озадачил тебя?
– Неужли считал, что из-за господской ошибки царь ихний бунт примял?
– Так и считал безо всякого сомнения, что у господ не хватило смекалки ладом взбунтоваться. Тревожусь, Савватий, за него. Доберется ли до своего барина? Рисковый характером. Ни дать ни взять забубенная головушка. Вроде тебя, когда ты парнем был.
– Доберется, в том не сомневайся, Мефодий. Эдакий парень да чтобы не зажал в кулак желанное? Ведь как меня ловко вызволил… Вот бы поговорить с ним теперича. Может, и я какую ошибку сотворил, когда царю бумагу с «плачем» о нашей горькой доле подал. Может, вовсе не так надо было отписывать царю. А может, царь мою бумагу не читал и начальники без его слова в острог меня упекли.
Савватий замолчал под пристальным взглядом Мефодия. Еще во время рассказа о побеге Савватий приметил удивление в глазах друга и спросил:
– Чего поглядом обскабливаешь?
– Дивлюсь, слушая. По виду ты будто тот же, да не совсем. Подумать опасаюсь, неужли верхотурское сидение за три года примяло в тебе душевные силы. Ты вроде уверенность утерял. Может, скажешь? Чтобы тревога во мне не завелась.
– Так скажу. Не острог, а одинокие думы меня наизнанку выворотили. А от этого ты и учуял разность во мне. Так скажу. Кабы ты с парнем не надумал вызволить меня из острога, сам я ныне из него не убег. Отсидел бы положенный срок и на воле оказался с дозволения начальства.
– Вон как? – Мефодий, волнуясь, встал, махнул рукой, опять сел. – Та-а-ак… Давай все высказывай.
– Сказал…
– Врешь! Темнишь, Савватий! Утаить от меня хочешь, что веру в себя утерял. Пошто же раньше людям о себе неправду сказывал? Пошто заверял их, что станешь думать об их тягостной житейской доле да путь к воле искать? Пошто обманывал, ежели в совести твоей трещина была?
– Совесть мою, Мефодий, не хули. Она как была, так и есть совесть. Чистая она у меня, как родниковая вода. Но только уразумел, что не знаю, где для людей заступу от барского насилия найти. Может, у царя и дальше искать? Иль супротивным непокорством работных людей можно господ образумить?
– Не знаешь, говоришь? Парень на вызволение тебя пошел, тоже не ведая, как все для вас обоих обернется. Но в себя верил. И дело по-хорошему обошлось. В Сибирь теперича отправился, не зная, как все сбудется, думал только, чтобы беспременно узнать от барина, из-за какой ошибки господский бунт покончился неудачей, омытой кровью. А Пугачев народ подымал, знал он, чем дело обернется? Что выпадет доля ему за крестьян, за работный люд на плахе голову сложить? Вот и ты, Савватий, выискивай, допрашивай с пристрастием свой разум, а не пужай себя покаянием за промашки, в деле сотворенные. – Мефодий поднялся, подошел к Савватию вплотную и, ткнув пальцем в его лоб, горячо заговорил: – Думай! Не позабывая, сколь годов копишь в разуме мысли про волю. Вспоминай чаще, как мы с тобой о ней в Каслях беседовали. А главное, не позабывай, что люди осередь себя приметили. Кабы ты пустобрехом был, они к твоим мыслям веры не рождали, не признавали бы в тебе разум, коим способен помочь им отыскать надобную тропу к правде работной жизни. А ты голову склонил.
– Какая теперича будет у меня жизнь? Знаешь, как буду мыкаться? У зайца и то житуха спокойнее.
– Ишь ты! Даже про косого вспомнил. Аль надумал меня разжалобить до слезы, чтобы начал тебя жалеть? Аль тягостно будет тебе привыкать к такой жизни? Аль в диковину она тебе? Аль не убегал ты до сей поры дважды из острога? Да и не жил будто на виду в рубленой избе. Аль позабыл, что лес да горы тебя оберегали, а пуще всего люди работные? Сколько годов значишься у начальства в разных бумагах беглым? Пошто же теперича свою песню жизни хочешь на иной погуд выпевать? Не жалостливый я, Савватий. По голове тебя гладить не стану за то, что верить в себя не хочешь.
– Мучит меня, Мефодий, мысль, не все я правильно ладил.
– А совесть тебя не мучит, что в разуме не те признания завел, ее не спросив?
– Не тронь, говорю, совесть.
– Я все в тебе трону. Дышать тебе не дам на новый манер. В чем неправду своих дел углядел? В очи мне гляди.
Савватий, вскинув голову, сорвал с нее скуфью и угрюмо слушал Мефодия.
– Чего боишься языком пошевелить, спрашиваю? Неужли порешил, что зря за страдания собратиев поднял руку против господ? Аль не жалко себя со всеми вкупе, что в крепостной сбруе под плетями живешь? Худо, Савватий, разум свой блюдешь. Чать, не мальчонка-несмышленыш, чтобы прожитые годы пересчитывать, отыскивая в них промашки, как проигранные бабки. Неужли и впрямь понять не можешь, отчего у тебя душевные мучения?
– Скажи…
– Да оттого, что, сидя в острогах, от людей себя отрывал. Оттого, что с тобой только и были твои же страдания. Господа не зря остроги придумали. Вовремя, выходит, я тебя вызволил, а то бы в пустых думах вовсе себя утерял.
– Одолевают сомнения всякие.
– Аль худо? Сомнения разум светлят. Сомневайся, да понимай, как надо ладить дело без промашек. Таким, как ты, на Камне работные люди надежду свою доверяют. Не думай, что только ты один людское горе видишь. Не думай, что только ты один в острогах сидел. Сколь людей за замысел о воле в лесах скрадываются, сколь их кандалами в Сибири брякают. Не думай, что без тебя не найдутся люди со смелым разумом о воле. От дури, видать, теперича беглой жизни испужался? Да кто ты? Аль уж не Савватий Крышин из Каслей? Пошто заверяешь меня, что в остроге с дурью сдружился? Разум не утерял, ежели ко мне путь отыскал. Жил ведь беглым. Хищничал на золоте. Отказывали тебе голодные люди разломить с тобой последний кусок черствого хлеба? Не спасали они тебя, когда стражники и солдаты, как волка, травили, загоняя в капкан? Вот даже Мефодий, коего другом почитаешь, купчишка новоиспеченный, и тот тебя из острога вызволил.






