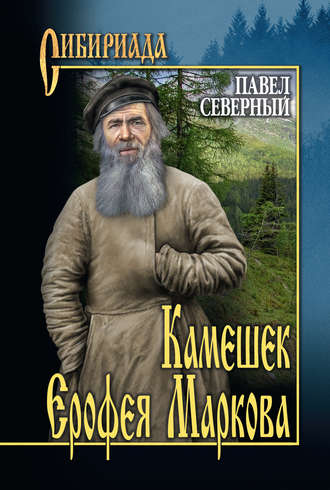
Павел Северный
Камешек Ерофея Маркова
Глава пятая
1
На земле Южного Урала в стороне от Сысертского завода находилась нерушимая вековечость лесной глухомани, изгорбаченная горными увалами. Лесины в ней тягались ростом. Листвень и обомшелые ели были выше сосен. Даже от легкого ветерка поскрипывали лесины, притомившись от старости считать годы. Но старость лесин не умаяла их могучести, не разучились они, размахивая ветвями, выводить шумовые напевы.
Бойкая горная речушка прокладывала себе путь по буреломам и завалам. Как слепой щенок, тыкалась она в выступы скал. Журчала, бурлила, шарахалась в сторону, забегала в чащобы, находила места поровнее на днищах оврагов. Столетия бежала безымянная речка, и только пятый год приисковый народ звал ее Василисин Погляд, после того как хозяйкой золотоносных песчаных берегов речки утвердилась Василиса Карнаухова.
Завалили глухомань снега. Метели накидали по приискам сугробы, похожие на замерзшие волны с пенистыми гребнями. Сгрудились они у избы сторожки караульного деда Фотия.
Фотий давний житель на речке. Лет тридцать назад без седины в бороде притопал он в глухомань, убежав от барина из поместья Пензенской губернии, замысля свою вольную жизнь подле уральского золота. Невзначай набрел в лесах на эту речку. Она понравилась ему водяной бойкостью. Отыскал тут золотишко и не ушел с ее берегов. Перемывал пески не торопясь, находил в них счастье на потребность жизни. Разбогатеть не разбогател, но и с голодухи не помер, а главное, был доволен, что никто в лесной заповедности не изловил его, никто сызнова не приписал душу к заводу или руднику.
Так он и жил тридцать долгих лет, пока не обнаружила его стариковскую жизнь Василиса Карнаухова, откупив под прииски речку с глухоманью. Найдя Фотия, она на старость его не позарилась, из избы не согнала, и он остался караульным чужого добра.
2
Январским вечером морозная темень надвигавшейся ночи вдруг порвалась, и на небо, над лесами глухомани, выполз золотой молодой месяц.
По плохо знаткой санной дороге, пересеченной холстинами метельных наметов, шагали гуськом четыре бабы. Впереди шла, прихрамывая, коренастая старуха Марковна, за ней следом богатырского роста, дородная телом молодуха Маремьяна, за ней Анфиса, обликом под стать Маремьяне, а последней шла девушка-сиротка Манька, беспрестанно покашливая.
Появление месяца сразу заметила Марковна и сказала:
– Глядите, бабоньки, какой рогастый уродился.
– И то верно, первый в новом году. Погадать бы под его пригожесть, – сказала Анфиса. – Десятый день плутаем по лесам – и все как бы зря.
– Молчи! – оборвала ее слова Марковна. – Коли порешили дело изладить, стало быть, надо изладить. Кыштымские бабы нам доверили свершить мирской суд над Мишкой Хрустовым. Небось другое пела, когда в его лапах корчилась. Забыла?
– Да я, бабушка, только к тому сказала, что новый годок в плутаниях проморгали, – оправдывалась Анфиса.
– Молчи, говорю. Новый год… Ишь ты! А чем новым он для тебя обернется? Разве опять какому хозяйскому приказчику приглянешься и он тебя к себе в постель за патлы поволокет. Новый год что старый – для нас с тобой одинаков. Звание наше простецкое, и радости нам любое гадание под месяц немного добавит. Сколько я новых годков перевидала, а новенького от них ничего не нажила. С виду ты будто вовсе не дура, Анфиса. Баба уж, а все, как девка, в себе носишь мыслишку про гадание.
– Баушка, – окликнула старуху Маремьяна.
– Зачем понадобилась?
– Хочу порассказать, какой сказ про Новый год девчонкой слыхала. Старые люди сказывали, будто приходит он на землю обязательно в обличии босоногого парнишки.
– Ишь ты. Без лаптей, стало быть, с неба сходит?
– И дескать, по его следикам можно распознать, какой он для рабочего люда обернется.
– И я про такое слыхивала. Только за долгую жизнь поняла, что работному люду не больно досуг его шажки на сугробах распознавать. Сама знаешь, какие шажки у новорожденного парнишки, о землю он больше всего задницей стукается, а потому и не больно легко разглядеть его шажки осередь волчьих и заячьих следов. Ошибку можно дать и по волчьим следам себе волчью судьбу нагадать. Вот так. Верь мне на слово, что и в этом году на Камне не сыщется человека богатырской силы, чтобы одним махом пришибить живучесть барской трудовой каторги.
В морозной тишине шаги идущих почуяли собаки лесной деревушки и залились лаем. Марковна остановилась, прислушалась:
– Разбрехались. К Моховке мы подошли. Разумею, что ее нам надо обойти сторонкой по оврагу.
– В ней, стало быть, не станем его шукать? – спросила Маремьяна.
– Не станем. Понимать должна, что Хрустову в ней себе укромности не найти. Кержацкая деревня.
– Ну и что? – снова спросила Маремьяна. – Обязательно надо зайти в Моховку. От лишнего погляда не ослепнем.
– Не тебе меня, старуху, разуму обучать. Сказала, Моховку обойдем по оврагу, стало быть, так и будет.
– А куда пойдем по нему?
– Закудыкала. Ума в тебе, Маремьяна, столько же, сколько в моей пятке.
– Оврагом-то, поди, в глухомань залезем, а из нее в Сысерть экий крюк придется дать. Я глухомань знаю. Места здесь дремучие, да волков тьма-тьмущая. Не заплутать бы.
– В глухомань и пойдем, Маня.
– По моим понятиям, Хрустов обязательно в Сысерть ушел, – сказала Манька, пересиливая приступ удушливого кашля.
– Не спорь со мной. Порешила я, бабоньки, в глухомани зайти на карнауховский прииск.
– Вовсе страшнущее надумала. Да на нем сейчас только волки! – испуганно молвила Анфиса.
– А дед Фотий куда девался?
– Кто такой?
– Вот тебе и кто? Караульный. Старичок. Правильный человек. Поняла?
Остановившись, бабы сгрудились около Марковны. Головы у всех укутаны в шали, и видны только одни глаза. Шали от дыхания в пуху инея. На всех бабах немудрая, но теплая овчинная одежда, туго стянутая холщовыми опоясками, а за опояском у каждой заткнуто по топору.
Собачий лай в деревушке не стихал.
– Ишь как наши шажки растревожили их.
Манька, кашляя, временами совсем задыхалась.
– Ох, Манютка, и кудахчешь ты седни. Говорила тебе не ходить с нами по такой стуже. В такую тишь кашель твой за версту слышен.
– А я виновата, что ли?
– Не виновата. Матушка твоя грудку тебе слабую народила. Айдате. – Марковна круто свернула с дороги в сторону и зашагала по гребнистому сугробу. Крепкий наст под ее ногами похрустывал, но не проламывался.
– Легко топать-то. Будто в барском доме по паркету.
– А вот я обязательно стану проваливаться. Тяжести во мне многонько, – посмеиваясь, сказала Маремьяна.
Некоторое время шли молча.
– Баушка, – окрикнула старуху Маремьяна.
– Ась? – ответила Марковна из темноты.
– А снежок-то меня держит. Только от натуги покряхтывает.
– Вот и хорошо. Эдак живенько до Фотия дойдем, а у него и заночуем…
3
В избе Фотия часы-ходики проворно отстукивали минуты, ведя стрелки по кругу девятого вечернего часа. На треснувшей дощечке часов нарисованы пунцовые маки. В печурке на рукавицах умостился, свернувшись в калачик, пушистый кот. На полу, возле дров у печи, лежал, навострив уши, огромный черный пес. В тишину избы проникал унылый волчий вой.
Топилась печь. Поленья в ее зеве горели весело, но были не очень сухими, а потому сгорали шипя и чихая. Поодаль, у рукомойника, коротал зиму петух с пятью курицами и, видя в тепле птичьи сны, бормотал сквозь дрему. Отсвет пламени из печи отгонял в углы темноту просторной избы. Она опрятна. На полу расстелена шкура сохатого, а поверх ее от двери к столу постлан залатанный чистый половик. Вокруг косяков двух окон – веера из хвостов глухарей, косачей и рябчиков.
На столе чайник с чашками. Ломти нарезанного хлеба от ржаного каравая. Глиняная миска с кусками сотового меда.
Около окна за столом сидел Фотий, с виду совсем тщедушный старичок. Его реденькая бородка сильно подкрашена желтизной. Длинные пряди седых волос расчесаны на прямой ряд, а чтобы не спадали на глаза, охвачены обручем тонкого ремешка, на лбу он скатался и похож на глубокую морщину. На Фотии холщовая рубаха до колен с цветными заплатами на локтях, а пестрядинные штаны вправлены в валенки.
Напротив Фотия сидел рыжий, буролицый, могучий мужик. На его щеках, носу лупилась померзлая кожа. На мужике топорщилась красная суконная рубаха, обшитая по вороту черной бархатной тесьмой. Штаны из козлиного меха. На ногах серые валенки, подшитые кожей. Мужик пришел к старику из леса, загнанный бураном. Он назвался Феофилом Тарасовичем Хорьковым. Жил он у старика с кануна Нового года, счастливо избежал смерти, вовремя разглядев в глухомани свет в окнах избушки.
Чаевничать они сели в начале восьмого часа и разговорились про разное житье приискового люда.
– Как ни верчу, как ни прикидываю разумом, Тарасыч, а все ладнее понимаю, что вовсе не на радость народу сыскал на Поясу золотишко Ерофей Марков. От его сыска много беспокойства развелось. Охочи мы больно до всякого богачества. Прем на легкую наживу. Копнем, дескать, разок-другой песочек лопаткой и выгребем богачество, а на самом деле вовсе не так выходит. Мочалим, мочалим в работе силенку, а все с голым задом по миру щеголяем. Счастье-то, оно для всех лютое. Фарт на золоте человечьей судьбой верховодит.
Сладко зевнув, Фотий примолк. Обернулся к печке. Встал и, подойдя к ней, клюкой пошевелил горящие дрова, отчего они вспыхнули, затрещав, рассыпали пучки искр.
Прислушиваясь к волчьему вою, мужик сказал:
– Зверье, видать, близехонько до твоего жила подходит?
– Иной разок под самыми окошками зелеными шарами зырят на мою жизнь. – Фотий вернулся к столу и сел на прежнее место. – Волчье пристанище от меня близехонько. Напрямик версты три. В Завальном логу их видимо-невидимо. Свадьбы там правят. Ноне им голодно. Снега пали глубокие… Давай допивай. Я тебе свежего подолью, а то водица зря стынет.
Мужик большими глотками выпил содержимое чашки и, протянув ее Фотию, сказал:
– Налей. Медок у тебя больно душистый.
– В округе цвету разного много, вот и душистый. Дикий мед завсегда духовитее пасечного.
Фотий налил в чашку кипятку с наваром малиновых и брусничных листьев.
– Чаек у тебя самый уральский.
– Другого не завожу. От брусничного листа сердечная тревога утихомиривается. Сам видишь, одиноко живу. Дружки со мной не больно речистые: петух с курями, котовей-лежебока да пес Сучок. С весны округ меня перегуд настанет. Закопошатся люди. И зачнется для меня от них всякая докука. Хлопотно мне на старости с приисковым людом.
– А мне, хозяин, одинокость в лесу не по нутру. К людям меня тянет. Песни люблю.
– А кто их не любит? – подмигнул Фотий. – Песня для разума человека, что деготь для колеса. Без песни у людей в душе скрип начинается. Старательствуешь поди?
– Водится за мной такой грешок. Давненько по приискам мыкаюсь, а польза от этого только хозяевам.
– Стало быть, с зимы на новые места перебираешься? Зимой хорошо бродить, потому метелица след заметает.
Мужик, нахмурившись, посмотрел на Фотия:
– Велишь понимать, что про метелицу не напрасно завел речь? Коли чего тебе во мне не поглянулось, ты лучше в лоб спроси. Аль приустал сказы бывалых людей про жизнь слушать?
– Про лишнее у людей не спрашиваю. Иной раз и без спросу распознаю, что к чему.
У печи стукнул лапами пес, поднялся, подошел к столу, зевнул, широко раскрыв пасть с большими острыми клыками, и улегся у ног хозяина. Мужик опасливо покосился на собаку:
– Ну и зверь! Прииск-то Карнаучихин?
– Ейный. Слыхал про мою хозяйку?
– Видал даже. Баба с головой. Только состарилась.
– Да, маленько уходилась. Моя хозяйка – дельная женщина. Зубов на рабочий люд по-зряшному не скалит. Дочку вырастила себе на подмогу.
– Дочку тоже видал, когда в Кыштым с Машкой Харитоновой наезжала. Сама Карнаучиха с Расторгуевым не больно ладила. Не глянулось ему, что баба возле него на миасских песках в богатеи вышагала.
– А ты, слышу, про многое нашинское по-дельному знаешь? – удивился Фотий.
– Знаю. При зверюге Зотове Гришке главным кучером состоял.
– Да быть того не может.
– Право слово.
– К золоту, стало быть, с Гришкиного облучка спрыгнул?
– Спрыгнешь, ежели жить захочется. Богатым надумал стать.
– Об этом каждый думает.
– Убежал я от Зотова.
– А по какой причине?
– Была такая. Вез его одинова с пьянки. Крепко он в тот раз хмелю набрался. Тряхнуло его на ухабе, а он, разозлясь, меня по морде кулаком звякнул. Я не стерпел. Сам его в обрат по зубам саданул. Понимай, на кого руку поднял. Ох, и бил я его тогда, пьяного! Прямо до бесчувствия измолотил. Опосля разогнал коней, сам с облучка на землю пал и – в лес. Надеялся, что кони насмерть его зашибут. Расшибить его расшибли они, да только живуч оказался. Искал меня Зотов по всему Камню.
– Не нашел?
– Нету. В саткинских скитах у кержаков скрадывался. Не выдали кержаки. Потому Гришка Зотов сам кержак, но парил их плетями здорово.
Мужик отломил кусок хлеба и, обмакнув его в миску с медом, затолкал в рот, смачно зажевал.
– В Сибирь подаюсь, – пробурчал он.
– Это зря. Зачем наши леса на сибирскую тайгу менять?
– Покой для себя ищу.
– Раненько тебя к нему потянуло.
– Не больно стар, но все одно притомился. Пески здеся не напрасно перегребал, нашел толику золота.
– Вот про это мне ведомо.
– Как узнал? – мужик перестал жевать.
– Да так. Котомку твою оглядел в ту ночь, как пришел ко мне помороженный. Ножик в ней искал. Понимай. Старичок, а помирать от чужого ножика неохота. Шарился в твоей котомке, да и дошарился до мешочка с золотом. В нем, поди, фунтиков пятнадцать. Сам его намыл?
– Наполовину сам, – недовольно признался мужик.
– А остальным у кого разжился?
– От хозяйского в конторе отсыпал.
– А с тем, кто его охранял, что сотворил?
– Живой он. Поровну разделили с ним хозяйское добро. Тот мужик тоже в Сибирь подался. Чудной ты, хозяин. Золотишко мое нашел, а меня не пристукнул.
– Да на что мне твоя жизнь? От своей малость успел притомиться. Живи. У кого остатний год робил?
– У Седого Гусара на Старом заводе за барским домом присматривал.
– Скажи на милость! – покачал головой Фотий.
– Знаешь Муромцева?
– Знать не знаю, но слыхивать про него доводилось. В Сибирь, конечно, ступай. Держать тебя не стану. Но лучше всего до весны со мной побудь. Буран тебя ко мне загнал. Твою жизнь за песочек золотой я не отнял. Другой буран может тебя в другую избу загнать, а там твою жизнь возьмут да и проткнут за золото ножиком, как рыбий пузырь. Вот ты и не дойдешь до желанного покоя в Сибири.
– Никак заботиться обо мне начинаешь? Может, задумал на меня начальству донести? – Мужик привстал.
Пес поднял голову.
– Чудной ты. Староват на такую окаянность. Хочу, чтобы правильной тропой до сибирского покоя добрался. Боишься со мной до весны остаться?
– Боюсь: золотой песок нелегко достался.
– Половина, может, и нелегко, а другая часть легче плевка досталась. Вороватость, как смола, прилипает к человеку. Раз чужое сопрешь, обязательно вдругорядь потянет.
Фотий выпрямился и, смотря в упор на мужика, сказал:
– Волк в тебе зубастый живет. Вижу его в тебе. Знаю, кто ты есть. Видал тебя в Кыштыме. Что кучером у Зотова состоял – это правильно. Только имечко у тебя тогда другое было, а в народе тебя не по-доброму прозвали.
– Чего мелешь?
– Позабыл? Кличет тебя народ в наших местах Обушком. Вспомянул? Пошто тебя так кличут? Помогал ты Зотову людей тиранить. Непокорных ты насмерть зашибал обухом топора. По темечку бил. Вот кто ты.
Мужик попытался встать. Фотий прикрикнул на него:
– Сиди безо всякого движения. До конца о себе дослушай. От Зотова ты убег не от его гнева, а от гнева людского. Гонял тебя этот гнев по лесам более десяти лет. Он тебя и от Седого Гусара прогнал. Он тебя и по Сибири будет гонять. От него нигде не укроешься. От моей правды у тебя даже лоб бисерным потом покрылся. Чуешь теперь, какой дошлый старикашка в глухомани сыскался.
– Все, стало быть, про меня знаешь?
– Как не знать. В лесу живу, шум лесин слушать умею, а они про все голосят. Так-то, Михайло.
При упоминании своего имени мужик вздрогнул.
– Имечка, при крещении обретенного, не пужайся. Матушка, родив тебя, не думала, что ты таким обернешься на белом свете. Зверь в тебе, Михайло. Приметил, что мой Сучок на тебя зубы скалит. Чует собака в тебе зверя. Людей легче обмануть, а пса не обманешь. Потому в Уральском краю в наше время в собачьей душе больше человечьего, чем в людях, кои вожгаются над золотом.
Собака вскочила на ноги и заворчала, обнажив клыки. Фотий, взглянув на нее, смолк.
– Почуяла кого-то? – испугался мужик.
Фотий, не ответив, подошел к окну и долго прислушивался. Мужик облегченно вздохнул.
– Нету. Померещилось мне. А все оттого, что больно ходко разговорились.
Фотий медленно обернулся:
– А ты гляди на собаку. Шерсть на загривке дыбит. Слушает.
Под окнами раздался удушливый кашель. Мужик вздрогнул. В окошко негромко, но дробно застучали. Мужик шепнул старику:
– Не отпирай.
– Что ты, Михайло. Как можно такое сотворить? В зимнюю пору нельзя в глухомани перед живой душой держать дверь на запоре.
– Не смей отмыкать дверь!
Стук в окошко повторился, и кто-то нараспев сказал:
– Дедуся Фотий, пусти пообогреться.
– Вот видишь. Баба заплуталась.
– Не отпирай дверь!
Фотий пошел к двери, но Михайло успел схватить его за руку.
– Задушу!
Фотий, вырвав руку, быстро метнулся к двери и скинул на ней крючок. Михайло выхватил из валенка нож, шагнул к Фотию, но остановился и попятился: на него шел Сучок, ощерясь и зло подвывая, словно волк. В открывшуюся дверь в клубах морозного пара вошла Маремьяна. Мужик, увидев ее, отошел к печке. Пес залаял. Фотий прикрикнул на него. В избе появились Марковна, Анфиса и Манька, постучали о порог валенками, обивая снег.
– Милости прошу, бабоньки.
Бабы не торопясь развязали шали и платки. Марковна подошла к столу, перекрестилась на образ. Обернулась и поклонилась Фотию в пояс:
– Не признал меня, дедушка Фотий?
– И то не признал… Батюшки светы, да ты Марковна Гусева. Прости старика. Сама видишь, в избе не райский свет.
Марковна, показывая на баб рукой, назвала старику их имена.
– В Сысерть путь держим. Думали, на перепутке у тебя заночевать, да, видно, придется без сна ее скоротать.
– Совсем одурел старый, – засуетился Фотий, – про гостя своего позабыл.
– Знаком он нам, дедушка. Не хоронись за печь, Мишка Хрустов. Аль неохота на Маремьяну взглянуть? Ты, дедушка, присядь на лавку, дозволь нам с ним по душам потолковать.
Фотий растерянно кивнул головой и сел на лавку.
– Начинай беседу, Марковна, – сказала Маремьяна строго. – Манька, зажги свечной огарок.
Манька закашлялась и, порывшись в кармане, достала огарок восковой свечи. Маремьяна зажгла его от огонька лампадки. Прилепила огарок к столешнице. Михайло Хрустов ясно обозначился возле печи. Он шагнул в сторону. Пламя из печи полосой упало на его руку, в которой блеснуло лезвие ножа.
Марковна из носика чайника отпила несколько глотков и, прищурившись, сказала:
– Разговор с тобой, душегуб, будет короток. Пришли за твоей жизнью. Матери сыновей, тобой погубленных, бабы и девки, честь коих предал надруганию, велели нам порешить тебя на земле безо всякого остатку. За сынка своего Костеньку, утопленного тобой в кыштымском пруду, десять лет тебя искала. Анфиса в том мне тоже помогала. Ребеночка ты у ней своровал да продал Седому Гусару. Маремьяна про то дозналась. Она отыскала твой след. Ноне третью неделю за тобой гоняемся. С того самого дня, когда на Старом заводе, убив господского приказчика, ты с золотом в леса бежал. В новогодний канун настигли тебя в Снегиревке, но, почуяв свою смерть, ты от нас ушел. Теперь не уйдешь.
Маремьяна, не спускавшая глаз с Хрустова, заметила, как он посматривает на окна, и неожиданно кинулась к нему, ударом кулака сшибла его с ног, закричала:
– Вяжи его, Анфиса!
Удар по голове оглушил Хрустова, и он, как куль, лежал на полу. Анфиса, распоясавшись, связала руки Хрустова.
– Манька, сволакивай с него валенки.
Девушка проворно стащила с ног Хрустова валенки, и только тогда, скрипнув зубами, он подал признак жизни. Приподнял голову над полом. Собака залаяла. Переполошились куры. И только кот продолжал спать в печурке.
– По-ладному ты его окрестила, – одобрила Анфиса.
– Она на это мастерица. Рука у нее мельенная, потому ни один мельен пудов песков лопатой перекидала, – сказала Марковна.
Хрустов встал на колени:
– Не убивайте меня, бабы!.. Помилуйте окаянного… Золото возьмите из котомки. Не убивайте, родимые!
Маремьяна раскатисто засмеялась, а от ее смеха по спине Фотия забегали мурашки.
– Убивать тебя не станем. Пальцем больше тебя не тронем. Мы только нагишом станем гонять тебя по морозу, пока в ледышку не обернешься.
Хрустов завыл не своим голосом:
– Не убивайте, бабоньки! Не по своей воле душегубничал. Зотов велел убивать. Подневольным был при нем.
– Будет лясы точить с душегубом! – решительно сказала Марковна. – Выволакивайте его на волю.
Бабы торопливо повязали платками и шалями головы.
– Готовы, что ли? – спросила Маремьяна.
Не дождавшись ответа, схватила Хрустова за ворот и поволокла по избе к двери. Хрустов кричал, болтал босыми ногами. Манька распахнула дверь. Маремьяна выволокла мужика на мороз. Крики Хрустова теперь были слышны на воле. Марковна поклонилась Фотию и сказала:
– Не серчай на нас за такое. Людской суд творим. Расторгуевские бабы вырешили: всех, кто людей наших губил, со свету убрать. Прощай! Про то, что повидал, лучше позабудь. Прощай!
Марковна вышла, плотно прикрыв дверь. Оставшись один, Фотий пустым взглядом окинул избу. Заметил на полу смятый половик. Торопливо встал с лавки и поправил его. На столе погасил огарок свечи, отлепил его от столешницы и, не зная, что с ним делать, долго мял в руке. Вздрогнул, когда Сучок вылез из угла и залаял, прижавшись к ногам хозяина. Старик погладил собаку, смекнув, отчего она волнуется. Фотий поднял серый валенок, нашел другой возле окна, быстро сунул их в печь на горячие угли. Валенки сразу занялись пламенем, и в избе запахло паленой шерстью. Фотий медленно опустился на лавку, но, вспомнив о чем-то, встал. Надел полушубок, достал из котомки Хрустова мешочек с золотом. Взял около рукомойника топор и вышел из избы в сопровождении собаки.
В лесной глухомани было тихо. Ее тишину нарушал только едва слышный отзвук волчьего воя. На небе горели яркие зимние звезды. Топором продолбил лед в проруби, высыпал в воду из мешочка золото. Отошел от проруби и втоптал в сугроб пустой холщовый мешочек. Спешно вернулся к избе, потом без мыслей постоял, прислушиваясь к тишине. Услышав лай собаки, покачал головой:
– Эх, дурная животина, по эдакому морозу вздумала гоняться за зайчишками.
Фотий вступил в избу, поставил на место топор, зачерпнул ковшиком из кадушки воды и жадно выпил. У двери заскулил пес. Старик, впустив его, запер дверь на крючок и перекрестился…
4
Снега под ярким солнцем искрились голубыми и алыми вспышками. От каждого кустика, от всякой лесины стлались узорчатые тени, схожие с паутиной. Исчерчены ими сугробы вдоль и поперек.
Тихий мороз. Гомонят синицы и чечетки. В чаще лиственниц пересвистываются рябчики…
Савватий вошел в глухомань, когда восход только начинал лудить вершины леса. Шел не спеша, под лыжами слегка похрустывал промороженный снежный наст.
Покинув Верх-Нейвинск, он добрался на попутной подводе до Уктуса и направился, как советовал Мефодий, в сторону Сысерти, в деревню Моховку, с надеждой, что в ней у старателя Никона Костыля удастся перезимовать. Но надежда не сбылась. Никона в деревне он сыскал, тот сначала принял его приветливо, но, узнав причину прихода, сразу помрачнел, сообщил, что скит, в котором можно было бы укрыться, прошлой осенью от лесного пожара выгорел. Безопасного убежища у себя в деревне не обещал, ссылаясь на то, что она числится за казной и ее навещает горная стража. Кроме того, жители Моховки – кержаки из секты полушкинцев – недружелюбны к чужакам, нестароверцам, а Савватий вдобавок пришел в Моховку в одежде монаха.
В Моховке Савватий все же скоротал ночь. Никон подал ему мысль искать приют в глухомани, в сторожке у верного человека.
У Савватия не было другого выхода, и он принял совет Никона. На рассвете, когда пришло время трогаться в путь, Никон снабдил Савватия лыжами и рогатиной, а главное, вызвался его проводить. Никон довел Савватия до чуть знаткого под снежными наметами русла речки, настрого наказал от него никуда не сворачивать, уверив, что речка выведет к той надежной избе. Пока шли, Никон предупреждал – в лесной чащобе не зевать, упоминал о волках и о том, что на пути будут попадаться никудышные для хода места.
Савватий перед полуднем осилил дебри завального елового леса. Идти было трудно, но он помнил наказ Никона и не сворачивал от корытца речки. Скоро от усталости пришлось сбавить шаг. Заслышав хруст ломаемых веток, Савватий останавливался, его настораживал неожиданный взлет тяжелых птиц, не то глухарей, не то филинов, досадовал, что за годы в остроге отвык от леса, от его звуков.
Началась чащоба осинника и чахлого березняка, но идти стало легче, наст хорошо держал Савватия. Исчезла лесная темень, всюду раскиданы снопы солнечного света, у Савватия повеселело на душе, невольно вспомнились слова Мефодия, что вольность природы вытеснит из разума все острожные сомнения. Подумал, что если и теперь его постигнет неудача, то пойдет в другие места, где у него обязательно должны найтись друзья с укромным укрытием до весны…
Стрелка ходиков в избе Фотия миновала второй час пополудни. Фотий возле печки щепал лучину, чтобы растопить печь: подошла квашенка ржанины. Его внимание привлек лай Сучка в лесу. Старик прислушался. Пес не отбегал от избы, видно, лаял на человека.
Старик, накинув на плечи армяк, нахлобучив шапку, вышел на волю, действительно, разглядел невдалеке путника, а тот, увидев Фотия, прибавил шагу.
Фотий прикрикнул на Сучка. Пес смолк.
Старик, щурясь от слепящего солнца, из-под ладони оглядел подошедшего чужака. Стоял он перед ним в овчинном латаном полушубке, надетом поверх монашеского подрясника. Полы его спереди заткнуты за опояску, чтобы не мешали при ходьбе.
– Никак заплутал, человече?
– К деду Фотию шел. Не ты ли им будешь?
Старик снова приставил ладонь ко лбу, оглядел чужака и без приветливости сказал:
– Ежели к Фотию, то – пришел. Шагай за мной. Пса не опасайся.
Сняв лыжи и воткнув их в сугроб, Савватий следом за Фотием вошел в избу, за ним вбежал и пес. Савватий обнажил голову и словно бы хотел перекреститься, но помедлил, Фотий наблюдавший за незнакомцем, строго сказал:
– У меня образа на месте.
– Не углядел разом.
– Видать, на очи слаб?
– Глаза в справности, но от снежного огня под солнцем в них красные шарики мечутся.
– Это пройдет.
– Снять одежу дозволишь?
– Обязательно.
Савватий скинул со спины котомку, снял полушубок. Все сложил на лавку около двери.
– Чего мнешь одежу? Вешай на стену.
Савватий повесил котомку и одежду на колок.
Собака, слыша спокойный голос хозяина, прониклась доверием к чужаку, обнюхав его ноги, полы подрясника, повиляла хвостом и легла возле печки, часто позевывая.
Савватий, отодрав с усов льдинки, намерзшие от дыхания, трижды перекрестился и поклонился в пояс хозяину. Фотий, ответив учтивым поклоном, спросил:
– Отколь же ко мне шел?
– Из Моховки. Послал к тебе Никон Костыль.
– Никон мужик правильный. Ты ему кем приходишься?
– Да вроде, как и тебе, – чужаком.
– Чудеса. Не возымев к тебе доверия, Костыль тебя ко мне дослал. Никак темнишь истину, человече? А ведь ты инок.
– Сущую правду сказываю.
Фотий, прищелкнув языком, уставился на чужака, заложил руки за спину и спросил:
– Какой краски волос в бороде Никона?
– Смоленый, но шибко припачкан сединой.
– Облик у бороды какой?
– Схожа с клином, коим бревна раскалывают. – Поняв, что старик чинит ему пристрастный допрос, Савватий сам добавил заметное в облике Никона: – Левая бровь у мужика надвое порушена. На правой руке у большого пальца нет ногтя.
– Тогда выходит, что Никон тебя прислал.
Фотий подобрал с полу лучину, сложил ее под дрова в печке, тоненькую щепань запалил от огонька лампадки и поджег ею лучину. Посмотрел на чужака и, увидев, что он все еще стоит, предложил:
– Садись. Лавок много. Отдохнешь, скажешь, зачем тебе Фотий понадобился. Может, поесть собрать?
– Благодарствую. Соснуть дозволь.
– Ложись.
– Тут можно? – Савватий указал на приступок возле печки.
– Пошто тут. На печь лезь, там медвежья шкура расстелена.
Савватий снял валенки:
– Добрая то речь, что в избе есть печь.
– Спи вдосталь. Будить не стану, почитай себя моим гостем…
Савватий, проснувшись, слез с печки. Не сразу он увидел старика у стола в переднем углу, а тот заговорил без недавней сухости в голосе:
– Неплохо соснул, человече. Другой раз самовар подогрел.
– Разбудил бы.
– Жалел. Чать, не по большаку шагал, а глухоманью. Ополосни лик. В рукомое вода не студеная, утрось налил. Медок на столе. Лепешки ржаные седнишние. Удались. Самовар парит – садись за стол…
– Чьи угодья-то будут, кои караулишь? – спросил Савватий, допив первую кружку.
– Карнаучихины. Слыхал про такую хозяйку?
– Не помню. Как она к людям?
– По-всякому. В госпожи из нашего сословия вышагала. Все же от господ разнится. Приобыкла глазунью есть, посему курям иной раз и овсеца не жалеет, чтобы на яйца не скупились. Конешно, живет себе на уме, только скажу, что расположение к работным людям вконец не остудила. Но все одно: сколь волка ни корми, все в лес смотрит. Знамо, жить возле нее людям можно; хомут тот же, а люди робить идут, потому иной раз кашу маслом маслит.
Старик налил гостю вторую кружку:
– Ешь досыта и зачинай сказывать, чего тебе Фотий понадобился.
– Пришел к тебе на постой проситься до вешних дней.
Фотий от удивления даже расплескал из кружки воду на стол.
– Может, скажешь, чего в монастыре сотворил, что пришлось из него ноги убрать? Уж не своровал ли? Понимай, я человек к богу с верностью.
– Я не монах.
– Как так?
– Беглый я.
– Знамо, беглый, ежели у меня сидишь, а не в своей келье.
– Из острога убег.
– Господи Иисусе!
– Вот и прошу укрытия. Потому ловить меня станут все, кому положено.
– Погоди. Дай понять. Пошто же монахом обрядился?
– В эдаком обличье легче оберегаться.
Фотий улыбнулся:
– Пожалуй, и верно. Какой с монаха спрос. Ежели правду говоришь, то не утаивай, за что в остроге сидел?
– Бунтовал с заводскими.
– Из каких мест родом?
– Из Каслей.
– Кем робил?
– По литейному делу.
– Может, имя скажешь? Мое знаешь, а мне твое знать охота.
– Скажу, ежели пообещаешь укрыть у себя.
– Гнать не стану.
– Крышин я. Савватий.
Лицо Фотия мгновенно стало суровым, он стукнул кулаком по столу:
– Ты, человече, из меня на старости лет дурака не строй. Ты чьим именем себя помянул?






