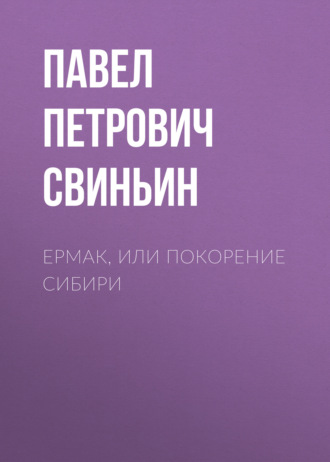
Павел Петрович Свиньин
Ермак, или Покорение Сибири
– Кум, кум, – вскричал он, дрожа от страха, – вели-ста кинуть хоть собаку сибирским нахалам. Того и смотри, что голову сорвут вожакам: слышь, как осерчали с голоду.
– Именем моим прикажи, чтобы потерпели немножко, – сказал Иоанн с довольной усмешкой, – скоро бросят им не одну собаку…
– Коли уж меня не побоялись, проклятые, – прибавил Аввакум, гордо избоченясь, – то тебя, тщедушного, подавно не струсят…
– Диво, куманек, а кажись, мухи-то московские не чета сибирским медведям, да и те тебя пугаются, когда ты меня обмахиваешь.
– Я бы пугнул, Ванюша, порядком и Стеньку Батория, кабы была моя воля, – сказал дурак.
Судя по свирепому взгляду, который кинул Иоанн на Аввакума, можно полагать, что за сие острое словцо он пожаловал бы его острым железцом своим, если б ужасный рев медведей, входивших через калитку, не увлек к ним всего его внимания.
Царь приятно изумился свирепости и огромности зверей. Он с удовольствием смотрел на все их проказы, хотя весьма трудно и даже опасно было принудить их к послушанию, ибо по приказанию царя, отданному в церкви через Черемисинова, освобождены были их пасти от колец и они управлялись одними, продетыми в ноздри. Эта свобода была причиною того, что при представлении оленьей ловли никак не могли удержать медведей в повиновении и они до того озлобились, что стали терзать один другого зубами. Кажется, Иоанн ожидал только этой минуты: по данному им приказанию вожатые выпустили из рук последние веревки и спешили укрыться за рогатки, которые в то же время раскрыты были со стороны узников. Голодные, разъяренные медведи со свирепостью бросились на толпы беззащитных и в мгновение ока произвели между ними кровопролитие, приводящее в содрогание человечество. Добрый Строганов обомлел от ужаса и негодования. Он делал себе упреки, считая себя некоторым образом причиною сего бесчеловечия, и негодование его усилилось, когда увидел, что он один смотрит на сие зрелище с омерзением. Иоанн, напротив, забавлялся им в полной мере, особливо когда некоторые из узников вступали в ратоборство с ужасными зверями и отчаяние придавало им сверхъестественные силы и проворство, или старались бегством и обманами избежать их когтей. Отрывистые поощрения и отвратительный хохот Иоанна и его достойных клевретов, подобные тем, которые слышатся обыкновенно при травле зверей собаками, мешались со стонами и проклятиями несчастных.
Пресытясь кровью невинных, ибо то были те русские герои, которые удивили врагов своим мужеством и терпением, но коих обвинял Иоанн малодушной сдачей ливонских городов Баторию, тогда как сам был тому причиною, – отдал приказание остановить медведей, но ему донесли, что ничто, кроме пули, не в состоянии усмирить их. «Они свое дело сделали», – сказал равнодушно Иоанн и дал согласие перестрелять их.
С веселым лицом и спокойным духом Иоанн прошел прямо с кровавого пиршества за обеденную трапезу. Явился и князь Аввакум с обыкновенным своим остроумием. Заметив хорошее расположение царя, он смело подошел к нему и сказал:
– Чур, неправду сказал я о строгановских-то? Потешили, проклятые, наши животики, надорвали. Пуще всех позабавил старичишка. Говорят, Ванюша, он из донских разбойников, такой же атаман, как Тимофеевич. Да уж и лихой, паря: ломался с мишкой, покуда тот не своротил ему череп на нос. Что бы тебе, кум, догадаться, да велеть бросить заодно Федьку Нагого; этот бы не пискнул в лапке у сибиряка, а то, пожалуй, долго еще протаскается с заволокой на шее, а царица все будет реветь…
Царь опустил ложку, как будто припоминая что-то, и спросил: «Тут ли Максим Строганов?»
На ответ, что он прибыл еще во время обедни, Иоанн приказал снести к нему несколько лучших блюд со своего стола, а после отдыха позвать его к себе в опочивальню.
Строганов почувствовал неимоверное спокойствие, готовясь предстать перед лицом Иоанна. Страх Божий победил страх человеческий в сердце добродетельном, богобоязненном.
С сими мыслями и ощущениями вступал Строганов в опочивальню царскую. Приподняв сукно, он поражен был тяжким стоном и глухими словами, вырвавшимися из груди Иоанна: «ныть легче!.. Испытаю».
Если б можно было проникнуть в душу Иоанна, то, без сомнения, прочли бы смущение, какое он почувствовал внутренне, увидя тихого, робкого Строганова, представшего к нему со спокойствием и равнодушием, коих не могли соблюдать в его присутствии самые неустрашимые из воевод его. Прочли бы, может быть, что он первый раз в жизни познал мужество воина Христова, что он трепетал не от ярости, а от уничижения, от скорби, не находя в себе ни сил, ни воли наказать духовного победителя. Но и теперь в продолжение всего разговора Иоанн умел искусно скрыть свои помышления.
– Максим, – сказал он Строганову, сидя на одре своем, – ты видел, что я умею столь же щедро награждать за услуги, сколько карать за вины. Мне стало жаль царицу – вылечи старика Нагого.
– Государь! – прервал безбоязненно Строганов. – Я избавил тебя от раскаяния, а старца – от неминуемой смерти.
– Что ты хочешь сказать? – спросил Иоанн более с любопытством, чем с гневом.
– То, государь, что, вопреки твоему царскому повелению, я не поставил заволок твоему тестю.
– Максим, – сказал Иоанн, подумав несколько, – в первый раз слышу ослушание моей воле и в первый раз – прощаю… Да! прощаю! – воскликнул он, вскочив с постели. – Даю царское слово мое, что прощаю, – повторил Иоанн отрывисто, как будто что-то душило его. Иоанн не мог произнести ни слова более, знаком показал Строганову, чтобы он удалился. Грудь его вздымалась выше обыкновенного, пот градом катился по лицу его, ноздри раздувались, как во время пущего гнева; но он не чувствовал ярости, которая жгла тогда его внутренность. Какая-то благотворная отрада, какое-то сладкое упоение овладело всем бытием его: дыхание его сделалось чище, свободнее – он воскликнул невольно: «Мне что-то стало легче!»
Максим Яковлевич поспешил в храм Богоматери возблагодарить Господа за совершившееся перед ним чудо; ибо, как истинный христианин, он относил единому Богу и свое мужество, и смирение Иоанна. Со слезами и умилением доброго чада Церкви и России молился он об обращении Иоанна на путь истинный для блага отечества и для искупления души его. Выйдя из собора, он не знал, куда далее идти ему. Хотя лично не доверял он Иоанну в прощении, но какая-то сверхъестественная сила твердила ему, что он безопасен.
Вечерние лучи весеннего солнца горели на ярко вызолоченных куполах Рождественского собора, из коих средний расписан был огненными змеями, и трепетали на дивных узорах стен оного, сиявших не менее золотом, серебром и драгоценной лазурью. Более всего дивили Строганова кресты, изваянные тут на каждом кирпиче. Стоя на паперти, он мог видеть всю слободу, внезапно сделавшуюся городом. В разных местах возвышались каменные церкви, дома и лавки. Слобода Опричная длинной улицей тянулась до самого Успенского монастыря, где незадолго еще Иоанн кощунствовал с тремястами из самых злейших и буйных своих кромешников, назвав их братией, а себя – шумном, князя Афанасия Вяземского – келарем, а Малюту Скуратова – парасклисиархом. Другая подобная улица называлась Купеческой. Придворные, государственные, воинские чиновники жили в особых домах невдалеке от дворца, который уподоблялся замку феодального барона, быв окружен глубоким рвом с подземными мостами и высоким валом с острым тыном и сторожевыми башнями. Красный цвет стен и черная крыша, несмотря на богатые украшения, придавали ему какой-то мрачный, ужасный вид, уподобляли его скорее обширному гробу, чем чертогам русского царя в увеселительной слободе его. Там над Красным крыльцом возвышался тот ужасный терем, который был столь же пагубен для жителей слободы, как некогда Дионисиево ухо для заключенных в темницах сиракузских, ибо отсюда Иоанн видел все, что ни делалось в его столице[68].
Успенский девичий монастырь приходит также в разрушение и угрожает археологии уничтожением последних исторических следов. От времен Грозного остались только два местных образа и северные двери: образ Иисуса Христа высокой итальянской живописи и Божьей матери древней греческой. На первом оплечья золотые, а ризы на обоих украшены драгоценными каменьями. Двери железные с прекрасными золотыми арабесками одинаковой работы с дверями московского Благовещенского собора. По странной ли прихоти царя, или он не хотел испортить рва, только ход из дворца в собор был сделан под землею, и так глубоко, что не был нисколько не заметен на поверхности.
Строганов долго бы остался, может быть, на паперти, предавшись мечтам и размышлению, несмотря на сумрак, начинавший скрывать предметы от глаз, если б не выведен был из оного вбежавшим Аввакумом.
– Максим, – сказал он поспешно, оглядываясь во все стороны, – что зазевался, убирайся-ка отсюда, покуда цел…
– Я на все готов, – отвечал равнодушно Строганов, – но без царского указа, сам знаешь, не могу выехать из слободы.
– Как, – вскричал Аввакум, – разве Черемисинов не объявил тебе приказания царя ехать в Москву и приготовить Кольца к отправке?
– Нет, – отвечал Строганов.
– Чего доброго, Максим, – продолжал шут, улыбаясь, – не обошел ли ты уж и его, как обаял кума Ванюшу. С тех пор как погостил ты в опочивальне у нас, ни на кого не огрызаемся, не осерчали и на Бельского, даром что он задал нам мат с пяти ходов.
Строганов перекрестился и сказал:
– Это дело Божье, а не человеческое. Помолимся Господу Богу, чтобы царь таковым навсегда остался.
– Хорошо бы, Максимушка, кабы твоими устами да мед пить, уж я бы припрятал подальше его костылек-то, а то теперь говори, да и оглядывайся, чтобы не пырнул им тебя в брюхо… Что-то, право, не верится! Ну как очнется по-старому, за тебя первого ведь примемся – у нас с куманьком такой обычай, не прогневайся: не забыл, чай, ты Адашевых да Сильвестра…
Приближение Черемисинова остановило словоохотливого рассказчика. Любимый стольник царский объявил Строганову государеву волю, чтобы он немедленно возвратился в Москву и ждал его прибытия – для отправления посла Ермакова с царскою милостью.
И действительно, на третий день после сего столица русская была обрадована возвращением царя – царя доброго, милостивого…
Отслушав торжественное Божественное служение в Успенском соборе, государь приказал петь напутственный молебен храбрым гостям сибирским. После сего призвал их в посольскую палату и, наградив каждого деньгами, сукнами, вручил Кольцу из собственных рук ответственную грамоту Ермаку Тимофеевичу.
– Отправь, – сказал Иоанн с особенной милостью Кольцу, – мое спасибо всем молодцам атаманам и казакам нашим; отвези им верно мои награды и скажи, что если будут продолжать службу свою столь же усердно, то ни царь, ни государство их не забудут, хотя б зашли они на край света. А честному нашему князю сибирскому, Ермаку Тимофеевичу, посылаем шубу с плеча нашего, кубок, из которого пили за великое дело, и два панциря – да сохранит Господь под бронею сею его здравие надолго для пользы и славы отечества. Извести товарищей своих, что вслед за тобою отправится воевода с достаточной силой для удержания завоеваний наших.
Кольцо кинулся со слезами лобызать руку монарха; вдруг из среды придворных, когда менее всего ожидали, раздался звонкий голос Аввакума:
– Не забудь-ста, куманек, заказать князю сибирскому, чтобы подослал нам поскорее десятка два медвежат из его медвежья царства. Ведь не все же трусы перевелись у тебя… А мож пригодятся и на самого ставленника. Попав в князья, того и смотри забудет, что был разбойником. Захочет и понежиться. Чего добиваться ему больше?
К общему всех удивлению, Иоанн весьма равнодушно перенес дерзкую шутку Аввакума и, будто вслушавшись только в последние слова его, отвечал насмешливо:
– Заиграла чистая княжеская кровь… Эти потомки удельных князей думают, что они одни созданы быть князьями. Хорошо бы, право, было царство Русское – с князьями Гвоздевыми, Аленкиными, Курбскими, Бельскими… Нет, куманек, – сказал он громче и реже обыкновенного, как бы желая, чтобы все его слышали, – княжество Ермаку не в позор, казачество его не в укор. Лучше родиться пастухом да делами честными добыть себе княжество, чем считать род свой от князей ярославских, черниговских и угодить в скоморохи или в предатели…
Царь умолк, не слышно было и голоса Аввакума. Все присутствующие в тишине и с благоговением низко поклонились государю и пошли за роскошную трапезу, коею угощал царь на отпуске Кольца с товарищами.
Глава третья
Обратим путь Кольца в Сибирь. – Новые блистательные подвиги Ермака. – Пленение Маметкула. – Распространение владычества России до хладных пустынь обских и непроходимых лесов пелымских. – Ермак возвращается в Искер победителем. – Здесь ожидает его Кольцо с царскими милостями и наградами. – Восторг казаков. – Радость и веселье увеличиваются прибытием в Искер князя Болховского с пятьюстами стрельцами.
Можно поверить, что Кольцо с казаками своими не терял времени в дороге, поспешая обрадовать Ермака и храбрых товарищей своих царской милостью. Но необъятные пространства, разделявшие столицу русскую от сибирской, при всех пособиях, которые встречали они в областях русских по указу царскому, а в Сибири от людей строгановских, несмотря даже на то, что в нынешний раз они не останавливались от неизвестности пути, поставляли им такие препоны, которых никакая человеческая сила не в состоянии была преодолеть. Кольцо, чтобы ускорить приход свой в Искер, не воспользовался дозволением государя приглашать на возвратном пути охотников для переселения в новый, богатый край Тобола и даже не заехал на Дон, как ни призывало его туда сердце и как ни хотелось казакам взглянуть на пепелище Раздор и на вновь возникший вместо оного город Черкасск.
Оставим Кольцо поспешать в Искер и взглянем, что случилось там во время продолжительного их отсутствия.
Первым и блистательнейшим подвигом завоевателей Сибири при начале весны был поход на Вагай, где по извещению мурзы Сенбахты Тагина явился снова дерзкий Маметкул с многочисленной толпой. Ермаку Тимофеевичу весьма желалось захватить его живого, дабы, избавясь от сего врага неутомимого, получить вместе с тем большее влияние на татар, ему весьма преданных. Предприятие сие требовало более скорости и тайны, нежели силы, а потому Ермак избрал шестьдесят удальцов под начальством Грозы и с чрезвычайной скрытностью отправил их ночью по Иртышу в самой легкой лодке.
На восходе солнца удальцы наши приблизились к устью Вагая и, привалив к берегу, пустились пешком к месту кочевья Маметкулова. Юрты его были расположены на высоком берегу реки, имея с двух сторон перед собою открытый луг. Нужно было сделать большой обход, чтобы приблизиться от лесу, который примыкал к ним только с противоположной стороны. Отсюда казаки могли хорошо высмотреть своего неприятеля, не быв им замечены, и расположить заранее свои действия, необходимые при ночной темноте.
Когда в ауле все затихло, Гроза подал знак начинать дело. Весьма счастливо миновал он несколько кибиток, оставив у входа каждой по два казака с приказанием не выпускать никого из оных. Уже оставалось недалеко до ставки царевича, и по данному приказанию Грозы казаки забегали вокруг, дабы со всех сторон дружно грянуть на нее, как, к неописуемой досаде, несколько казаков, в том числе и сам предводитель, попали в глубокий ров, которого они не усмотрели, и при падении одна фузея выпалила. Выстрел встревожил весь аул. Татары выбежали с саблями и кинжалами и бросились резаться с казаками. Грозе стоило немалого труда выбраться на крутизну и приблизиться к Маметкулу, который, как раздраженный лев, присекая все попытки казаков обезоружить его. Уже несколько смельчаков сделались жертвою неимоверного его искусства и храбрости. Казаки решились отомстить за кровь своих товарищей, как Гроза, проложа себе путь сквозь толпу татар, удержал их гибельный натиск и сам пошел на Маметкула.
Ужасный вид! Они сразились!
Их сабли молнией блестят,
Удары тяжкие творят,
И обе разом сокрушились.
Они в ручной вступили бой:
Грудь с грудью и рука с рукой;
От вопля их дубравы воют;
Они стопами землю роют;
Уже с них сыплет пот, как град;
Уже в них сердце страшно бьется,
И ребра обоих трещат,
То сей, то оный набок гнется;
Крутится, и – Гроза сломил!
«Ты мой теперь!» – он возопил[69].
– Твой, – отвечал Маметкул, – и клянусь великим пророком, что ты тот же дерзновенный гяур, которого сильную мышцу испытал я при Чувашском мысу.
– Рассчитаемся после, – сказал Гроза и, обезоружив его совершенно, приставил четырех надежных казаков смотреть за ним.
Гроза, не теряя времени, бросился на помощь к другим товарищам, и на рассвете дня в целом стане Маметкуловом не осталось ни одного татарина с оружием в руках.
С честью предав земле тела шести убитых товарищей, а для раненых сделав носилки, Гроза тотчас же предпринял обратный путь со знаменитым своим пленником.
Ермак крайне был обрадован успехом сего предприятия, с торжеством встретил победителей, честил и ласкал Маметкула, видя в нем важный залог в случае перемены счастья в войне или при мире с Кучумом. Узнав вскоре потом через лазутчиков, что изгнанный царь сей, пораженный несчастьем Маметкула и изменой любимого своего вельможи Карачи, скитается в степях ишимских, он предпринял покорение стран, лежащих на север.
Долго колебался Ермак Тимофеевич в избрании начальника для охранения Искера во время своего отсутствия. Грозу весьма хотелось ему взять с собою, а Мещеряку, несмотря на особенную его к себе близость, какое-то непонятное чувство не допускало сделать столь великого доверия. Наконец благоразумие победило пристрастие, и Гроза был оставлен с небольшою дружиною для охранения столицы и знатного пленника. Должно думать, что Мещеряк имел тайные виды на сие поручение, ибо он не мог скрыть своей досады, когда узнал о предпочтении Грозы, и повторил в душе клятву отомстить за сие новое разрушение его честолюбивых намерений.
Весть о пленении Маметкула разрушила последнюю надежду татар: они до самого устья Аримдзянки встречали с подобострастием своих победителей. Здесь только большая толпа осмелилась оказать сопротивление, засев в крепкий острог. Казаки взяли оный приступом и, повесив или расстреляв старшин, навели новый ужас на прочие улусы. Нынешние волости Наццинская, Харбинская, Туртасская поспешили присягнуть на подданство России и несли без принуждения дань, которой обложил их Ермак. Далее начинались юрты остяков и кондийских вогуличей. Могущественный князь их, Демьян, надеясь на неприступное положение своей крепости, возвышавшейся на каменном утесе Иртыша, и на две тысячи своих воинов, а более всего на своего идола, при обладании коим остяки считали себя неодолимыми, отвергнул все мирные предложения казаков. Ермак Тимофеевич вынужденным нашелся приступить к силе, но, жалея товарищей, надеялся стрельбою из пушек привести их к послушанию. Два дня казаки громили Демьянов городок, разрушили передовую стену, побили много у них людей, но Демьян не покорялся. Уркунду, усматривая гибель земляков своих от дальнейшего их упрямства, решился спасти их похищением идола. Он был впущен без затруднения и даже с радостью в крепость, но при всем старании долго не мог выполнить своего намерения, потому что драгоценный идол денно и нощно окружен был большой толпой остяков. Они пили воду из чаши, в которую он был опущен, укрепляясь тем в мужестве и терпении, и курили беспрерывно перед ним серу и масло, а кудесники по оным предсказывали будущую судьбу каждого. По мере усугубления опасности усугублялись жертвы и моления остяков к их золотому божеству, которое, по преданию старшин, перешло к ним из Киева во время Владимирова крещения. Все ждали от него чуда и – дождались. В полночь, когда от метких выстрелов казацких сорвало крышу с храма, где сохранялся кумир, и все в страхе сбежались и пали пред ним на колени, вдруг из жертвенных чаш раздался ужасный треск и гром, засверкала молния, заколебалась земля, и черный дым наполнил воздух. Когда до смерти испуганные остяки несколько опомнились и оглянулись, то, к величайшему ужасу своему, усмотрели, что кумира их не было на своем месте – он исчез внезапно. Панический страх овладел самим Демьяном; забрав семейства свои, остяки обратились в бегство, признавая в том волю своего божества. Отбежав довольно далеко, они остановились для отдыха, тогда главный из жрецов уверял князя Демьяна, что он видел своими глазами, как идол сел верхом на луч молнии и, облокотясь на черное облако, поднялся на небо. А попросту чудо сие произошло не от чего иного, как от нескольких горстей зелья, подсыпанного в курильницы проворным Уркунду, который и похитил драгоценного идола в минуты всеобщего смятения и ужаса. Он немедленно дал знать казакам об оставлении жителями городка, который они тотчас и заняли.
Однако Ермак Тимофеевич недолго оставался здесь, он поплыл далее по Иртышу. В Цынгальской волости, где величественная река сия, стесняемая горами, имеет узкое и быстрое течение, собралось великое множество вооруженных людей: один выстрел в них проложил беспрепятственный путь казакам к Нарымскому городку. Здесь нашли они одних жен с детьми, ожидавших неминуемой смерти. Ермак, успокоив их и обласкав, отпустил беспрепятственно к своим отцам и мужьям, которые, быв побеждены сим неизвестным между варварами великодушием более, чем самим страхом, не замедлили явиться к нему с данью.
Покорив волость Тарханскую, казаки вступили в улусы знатнейшего остятского князя Самара, который, соединясь с восемью князьями, ждал казаков решить судьбу всей древней Югорской земли. Уведомясь о великом их ополчении, Ермак не решился действовать открытой силой, а разослал лазутчиков наблюдать за действиями неприятеля. Лишь только известили они об его беспечности, как, взяв с собою всех молодцов, Ермак напал при рассвете на неприятельский стан, погруженный в глубокий сон. Надменный Самар первый пал от руки казацкого вождя, войско недолго противилось и предалось бегству, а жители обязались платить ясак России.
Близ устья Иртыша на Белогорской волости казаки встретили еще сильное сопротивление от остяков, поклонявшихся Великой богине, которая сидела нагая на стуле вместе с сыном, принимая дары от жителей. Дело сие было бы весьма кровопролитно, если б благоразумная богиня не велела скоро остякам схоронить себя от казаков и всем разбежаться.
Завоевав на Оби главный остякский город Назым и многие другие крепости по берегам сей славной реки, пленив их князя и горестно оплакав потерю храброго сподвижника, атамана Никиту Пана, убитого на приступе вместе с некоторыми из лучших казаков, Ермак не хотел идти далее. Хладные пустыни, состоящие из топких болот и зыбучих тундр, не оживленные и знойными лучами летнего солнца, пустыни, представляющие образ ужасного кладбища природы, охладили жар к завоеванию в сих безжизненных странах наших героев. Поставив князя остякского Алача главою над обскими юртами, Ермак тем же путем благополучно возвратился в сибирскую столицу, честимый своими данниками, как победитель и владыка. Везде с изъявлениями раболепства встречали и провожали его, как мужа грозы и доблести сверхъестественной. Для большего впечатления на воображение и глаза покоренных народов казаки плыли с воинской музыкой и выходили на берег всегда в богатейших праздничных своих кафтанах.
Найдя в Искере все тихо, спокойно, неутомимый Ермак пустился рекой Тавдой в землю вогуличей, дабы к господству России, владевшей уже от пределов Березовских до берегов Тобола, приобщить страну Кондийскую, дотоле малоизвестную, хотя давно именуемую в титуле московских самодержавцев.
Недалеко от устья Тавды господствовали два сильных князя татарских, Лабутан и Печенег. Они собрали многочисленные толпы для защиты своих владений, дрались отчаянно, но не могли долго противиться храбрости и искусству наших витязей. Следствием сей кровопролитной победы было мирное подданство вогуличей Кошуцкой и Тарабинской волостей, которые беспрекословно дали обложенный на них ясак. Мирные дикари сии составляли род республики, не имея ни князей, ни властителей, а прибегая единственно для разбирательства ссор и тяжб к волхвам своим.
Умножив, таким образом, данников даже в древней земле Югорской, Ермак от непроходимых болот и лесов пелымских с торжеством возвратился в Искер – принять за славные труды отличную награду.
Здесь ожидал его Кольцо с государевым жалованьем. Казаки немедленно собраны были на Майдан для получения оного и выслушивания царской грамоты. Громогласные, единодушные восклицания их заглушали неоднократно чтение. В особенности казаки приведены были в неописанный восторг, когда услышали, что признательный царь наименовал их вождя князем сибирским и оставлял в его распоряжении и начальствовании завоеванное им царство. День сей был, конечно, самым торжественнейшим и приятнейшим для наших героев. Они испили всю сладость признательности царя к службе честной и полезной, они забыли великие труды свои и жертвы, ожили новой жизнью, новым рвением к важнейшим предприятиям. Вот чувства, вот действие, которое производит всегда справедливость монарха!
Радость и веселье в Искере увеличилось несравненно с прибытием туда вскоре пятисот стрельцов под начальством воеводы, князя Семена Дмитриевича Болховского, и головы Ивана Глухова. Казаки дарили дорогих гостей своих соболями и угощали со всею возможною роскошью. Они мечтали, что ничто на свете не могло более изменить их счастья и могущества, но Провидение, испытывавшее мужество и постоянство их в минуты бедствий, хотело, казалось, поколебать твердость героев, когда они были наверху благоденствия и славы!







