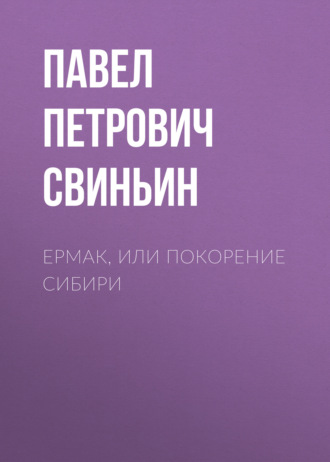
Павел Петрович Свиньин
Ермак, или Покорение Сибири
– Ай да колдунья, – толковали по всему Орлу-городку, – как сон в руку. Вот те и бегут и бегут! Уж впрямь прибежали добрые весточки и из Москвы и из Сибири.
– А чем же хуже мост мой? – возразила Федотьевна, обидясь, что слова шаманки предпочитали ее прорицаниям. – Она, проклятая, не сумела же отгадать, даром что с чертями водится, о покойниках, а я их как на блюдечке выложила. Пусть ворота-то отворились, а уж о конях-то наврала, моя матушка.
Нет, не наврала, ибо не успел еще бедный старик опомниться, не только отдохнуть, как собрали его в дальний и поспешный путь. Из боярской конюшни выбраны были для него что ни есть лучшие, заповедные кони, даны в провожатые что ни есть, лучшие люди, и он, только что выехал за ворота крепости, как приказал погонять лошадей.
Удивительное сходство чувств и характеров сблизили с первого дня Татьяну с Великою. В самое короткое время они подружились, как две родные сестры, во всем признались, все пересказали друг другу, только скрыли, как говорит предание, тайну своего сердца – из какой-то непонятной им самим стыдливости, а может быть, таинственного предчувствия, что они соперницы, что предмет любви их – един.
Внезапный отъезд Дениса Васильевича из Каргедана сделался предметом толков и перетолков всех жителей. Более всего думали, что он поехал в Чердынь за чем ни есть важным, хотя уже несколько лет он не бывал там, но никому не могло впасть в голову, чтобы он отправился в Чусовую, а того меньше видеть его возвратившимся с Никитой Григорьевичем.
Трогательно было свидание двух братьев, разлученных между собой и сделавшихся врагами не столько от неравенства характеров, сколько от коварства людей, находивших в том свои виды. Ненависть Никиты была столь велика к Максиму Яковлевичу, что Денис, приехав от него с поруганием, подвергал себя немалой опасности по неукротимой его запальчивости или, по крайней мере, мог быть прогнан со двора без ответа. Но Орел надеялся, по праву общего к нему уважения Строгановых, что Никита Григорьевич не только допустит его к себе, но выслушает равнодушно, и – не ошибся. Он приехал с предложением Максима Яковлевича к брату своему забыть вражду их и ехать вместе, не медля нимало, в Москву, дабы быть первыми вестниками завоевания Сибирского царства, что, без сомнения, облегчит ему возможность выпросить для него царское прощение. Как ни крут был и надменен Никита, но, увидя свою опасность, признал великодушие брата Максима и согласился тотчас же отправиться с Денисом в Орел-городок.
Братья бросились в объятия один другого и долго плакали, не говоря ни слова. Наконец Максим Яковлевич сказал, всхлипывая:
– Брат! Забудем старое и будем вперед не на словах и бумаге, а в сердце и на деле родными…
Сборы именитых людей продолжались недолго, несмотря на разлуку Максима Яковлевича с милой своей Татьяной. Он брал с собой Велику в Москву в надежде отыскать там ее отца или что-нибудь о нем проведать; а расставание, может быть, навеки двух нежных подруг стоило также нескольких дней неутешных слез и рыданий. Впрочем, богатым людям и тогда ни в чем не было остановки: стоило только захотеть – и исполнялось. Строганов приказал наложить в сани соболей, лисиц и того подобное. С такими документами он надеялся успешнее достичь своей цели при дворе царском.
В день своего отъезда Строгановы отслужили молебен с коленопреклонением и прямо из храма Божья сели в повозки и пустились в дальнюю дорогу, напутствуемые слезами и благословениями всех домочадцев, в особенности Дениса, который по старости лет не думал уже дождаться их на белом свете.
Часть четвертая
Глава первая
Москва печальная. – Царь-сыноубийца. – Царский шут. – Сказочник. – Исступление Иоанна. – Донесение о приезде Строгановых. – Прибытие Кольца в Москву. – Милостивый прием Ермаковых послов. – Трехдневное их угощение. – Внезапный отъезд царя в слободу Александровскую.
Давно Москва, печальная, растерзанная, не знала радости, не видала отрады, но никогда еще не бывала она в таком унынии, как в дня приезда Строгановых. Царь-сыноубийца, преследуемый ужасами ада, устрашаемый привидениями, затворился, как в могиле, в слободе Александровской.
Правда, Иоанн принял опять бразды правления, уступив молениям вельмож, которые утешались надеждой, что тем спасли себя от сетей его коварства; но мрачное бездействие царя, неприступность к нему и тысячи храбрых воинов, томившихся в темницах, не предвещали ни раскаяния, ни умиления Иоанна. Не доверяли его чистому покаянию и смирению, несмотря на одежду скорби, коей он облек себя и двор; ни на черную краску, коей велели покрыть золотые главы собора монастырского; ни на панихиды, которые он повсюду пел; ни на щедрые вклады, которые рассылал в Константинополь, Антиохию, Александрию, Иерусалим, думая тем купить себе спокойствие душевное. Москва с трепетом, подобно робкой деве, ожидающей удара, который готов разразиться из черной тучи, висящей над головой ее, ждала новой грозы, новых кровопролитий. Ужасы сей неизвестности увеличивались видениями и чудесами, пугавшими суеверных. Комета, носившаяся днем и ночью над Москвой, была, по всеобщему понятию, знамением величайших бедствий. Многие посадские люди оглушены были в день Рождества Христова сильным громовым ударом, который, как шептал между собой народ, разразился над опочивальней царской у самой кровати и превратил в пепел ставец с драгоценностями и стол, на котором лежала роспись ливонских пленников, обреченных на смерть. Другие столь же осторожно и охотно рассказывали друг другу о мраморном надгробном камне, упавшем с неба недалеко от Налеек (Замоскворецкой слободы); что найденные на нем слова никто не мог разобрать, ни сам митрополит, ни двое литовских гадателей, которых нарочно выводили для того из застенка; и что царь в глазах их велел своим телохранителям разбить камень, сказав: «Смотрите, я всех вас мудрее». Вдобавок ко всему на всех наводил невольную грусть и ужас последний мир с Баторием, вследствие коего Иоанн торжественно отказался от Ливонии, которую Россия около шести столетий именовала своим владением, ибо бедные русские страшились, что малодушный царь, уступивший с многочисленным бодрым воинством славу и пользу отечества горсти изнуренного, разноплеменного воинства Баториева, скоро познает свое очарование и в их крови потщится потопить свой стыд и малодушие!
Вот в каком несчастном положении нашли Строгановы Москву и государство. К большей же горести, благодетель их, Борис Федорович Годунов, уже самый близкий к царю вельможа, еще ничем не запятнанный у престола сановник, лежал на болезненном одре от ран, полученных им от державной руки, которую хотел удержать он от сыноубийства. Годунов крайне жалел, что не мог быть посредником между ними и государем в столь славном деле, но предвещал, что добрая весть скоро проникнет за высокий тын Александровской слободы, ибо царь, несмотря на бездействие свое, любил знать все, что делается, говорится и думается в столице. И действительно, не далее как на другой день молва о завоевании нового царства – богатого, обширного, чудесного – распространилась повсюду, повторялась в храмах Божьих, на крестцах[63] и на Красной площади, заглушила скорбь о недавней великой потере; была тем радостнее, отраднее, чем неожиданнее, неимовернее: народ воспрянул духом.
Едва прошло два месяца со дня смерти царевича, а Иоанн, по твердости ли духа или от ожесточения и притупления всех чувств, начинал жить по прежнему обычаю. Уже он не стенал и не вопил посреди ночи, не катался по полу в отчаянии, не боялся взора самых приближенных ему людей и по-прежнему засыпал под шумные забавы скоморохов и шутов или тихое мурлыканье слепых сказочников, доколе звон колокола не призывал его к заутрени.
Князь Аввакум Прохорыч Аленкин, в это время занимавший место князя Гвоздева, главы царских забавников, возвратился из Москвы, набравшись подробностей у Годунова и на Красной площади о радостной молве, привезенной Строгановыми, и, как хитрый придворный, спешил сообщить весть сию Иоанну, боясь, чтобы кто другой не предупредил его.
Несколько раз заглядывал Аввакум в опочивальню царскую из-под черного сукна, коим завешаны были двери и обиты ее стены. Множество лампад, ярко теплившихся перед образами, отражали свет, подобный солнечному, так что Аввакум мог читать малейшее изменение, производимое сказкой на лице царском, несмотря на то, что Иоанн казался погруженным в глубокий сон. Он стал прислушиваться прилежнее к сказке…
– Подносила Пересвета, – продолжал слепец, – зелена вина в золотой чаре, подавала вино добру молодцу на серебряном подносе с чернядью. Принимал Илья Муромец золоту чару из белых рук, а чара-то была в полтора ведра; хотел Илья Муромец подсластить вино, как то водится в православной Руси, расправлял Илья свои черны усы, подступал Илья к девице с поклонами, Пересвета молодца удаляется, авось богатырь догадается, и возговорит ему красна девица: «Перекрестись, добрый молодец, покажи, что не басурманин ты». Илья Муромец на себя крест кладет, а в чаре вместо зелена вина кровь черная ключом бьет…
– Кровь! кровь! – вскричал Иоанн, вскочив с постели. – Да! на мне кровь сына моего, я убил его.
С таким неистовством произнес он слова сии, что Аввакум поспешно спрятал голову, которую было выставил из-под сукна, услышав царский голос, а сказочник затрепетал… Иоанн долго молчал, но когда ужасное воспоминание начинало мало-помалу оставлять его, он с усмешкою проговорил сам с собою: «Я омою эти черные пятна чистою кровью, да! самою чистою, невинною… Мне будет легче!..» Проговорив слова сии, царь спокойно лег на одр свой и приказал слепцу продолжать свою сказку.
Но, без сомнения, догадливый сказочник не пожелал быть в другой раз прерванным столь неприятным образом, а потому, пропустив описание кровавого боя между Соловьем-разбойником и Ильей Муромцем, приступил к изображению освобождения сим последним семидесяти красавиц из плена жестокого разрушением очарования, коим превращены они были в сизых голубиц.
– Кличет Илья Муромец своего богатырского коня: «Гой еси, сивка бурка вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой!» Конь бежит, земля дрожит, из ноздрей дым столбом, из ушей искры сыплются. Седлает Илья богатырского коня, надевает на него седельце черкасское, тридцать подпруг с подпругою, шелку шемаханского; шелк не рвется, булат не трется, аравийское золото на грязи не ржавеет. Садится Илья на добра коня, ударяет коня по крутым бедрам, конь осержается, от земли подымается. То не пыль во чистом поле завивается, не густой туман со озер, с болот, с зеленых лугов расстилается, едет то сильный, могучий богатырь Илья Муромец, едет он девять дней, девять ночей, глаз не смыкаючи, росинкой Божьей горло не промачивал, зерном пшена коня не кармливал. На десятый день останавливается у десяти дубов, на тех дубах десять теремов, а в тех теремах сидят десять голубиц, а к тем теремам десять ворот, все железные и с подворотнями, в полтораста пуда каждая. Вынимает Илья из ножен свой меч-кладенец, а весит он двести пудов с двумя фунтами. Ударяет Илья мечом в первые ворота, рассыпаются ворота и с подворотнею, другие ворота и третьи разбивает в два часа, четвертые и пятые в два денька, шестые и седьмые в две недели, осьмые в два месяца, девятые бьет Илья два года, а десятые – двадцать лет. Не кручинится Илья о трудах, о времечке, мудрено Илье только выбрать свою суженую, Пересвету прекрасную, из семидесяти царевен, что проклятый Соловей натаскал в гнездо свое со всего свету Божьего. Они все на одно лицо: белы, как вешний снег, румяны, как заря утренняя, у всех глаза черные с поволокою, грудь соколиная высокая, поступь лебяжья приманчивая, губки, как маков цвет, зубы, что твои жемчуги. Все одно ласковы, приветливы. Глаза у добра молодца разбегаются, богатырское сердце разгорается…
Аввакум, заметив, что описание красавиц произвело приятное впечатление на лице Иоанна, почел это счастливым временем для объявления доброй новости. С шумом и запыхавшись, вбежал он в горницу и, встав на колени, закричал:
– Не вели, царь государь, казнить, не вели рубить, вели слово вымолвить.
Иоанн, привыкший к проказам своего забавника, которые редко бывали без цели, нисколько не встревожился внезапным его появлением и довольно милостиво сказал:
– Ври, дурак, что хочешь…
Мнимому дураку только этого и хотелось, чтобы царь не рассердился на него с первого раза. Он с важностью встал с пола и сказал:
– А что, кум, посулишь, коли совру тебе такую весточку, что и Борьке Годунову не выдумать, даром что востер…
– Прежде князь Аввакум Прохорыч Аленкин со мной не торговался, – сказал Иоанн с улыбкою.
– Правда, Ванюша, да, вишь, давно не было ничего доброго и веселого, за чтоб с тебя новинку содрать.
– Говори же скорее, – перебил его царь с приметным неудовольствием при неуместном замечании дурака, и дурак, опомнясь, что неосторожно проговорился, сбавил несколько спеси и продолжал:
– Изволь, кум, я не в тебя, скажу и даром. Кланяюсь тебе, батюшка, царством, да таким длинным, что твое Московское менее вот этой заплаты на моем охабне…
– Выдумай что позабавнее, а не то убирайся вон, – прикрикнул царь, перевернувшись к нему спиною.
– Не моя, кум, выдумка, а твоих заморских купчин…
– Говори прямо, что хочешь сказать, дурак? – сказал сурово Иоанн, подняв опять голову.
– То, куманек, что купчины Строгановы прикатили вчера из-за тридевять земель, тридесятого царства, ин на собаках, ин на медведях и привезли-де тебе на поклон царство Сибирское…
– Слушай, Прохорыч, – сказал Иоанн, вставая с постели, – коли ты выдумал сказку, чтобы потешить меня, то я потешу тебя по-своему – посажу на кол; если ж окажется правда, то за добрую весть пожалую тебя парчовой парою.
– Много милости, куманек, – заметил Аввакум вполголоса.
Иоанн приказал немедленно послать за Годуновым, а Прохорыч принялся ему рассказывать все, что ни слышал в Москве или что в состоянии был выдумать о Сибири и Строгановых. Государь давал волю его гибкому языку, слушая вранье его, как сказку, или, скорее, ничего не слушая – в дремоте и размышлении.
– Поверь только дуракам все, что они болтают, – продолжал Аввакум, – то, пожалуй, и меня с толку собьют; и ты, куманек, не всякому слуху верь. Вишь, на Красной-то площади одни бают, что Строгановы привели тебе сибирских медведей ростом чуть не с курятные ворота; а другие толкуют, будто то не медведи, а новый сибирский твой народец из Лукоморья, где летом он бывает человек человеком, а зимой обертывается в медведей и волков[64]. И Антропка-целовальник, даром что разбирает печатные книги, а не сумел же разгадать мне, где этот окаянный народ, которого какой-то сильный могучий царь, ну, словно ты, Ванюша, замуровал в железные стены[65], откуда Строгановы достали боярскую дочь, да такую пригожую, да такую нарядную, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Болтают, что подали им ее в волоковое окошко…
– Догадливы купчины, запаслись к нам и добрым товарцем, – промолвил царь, улыбаясь…
– Как же, куманек, они ведь ребята смышленые, знают твою охотку… А я бы, Ванюша, на твоем месте взял у них лучше кота заморского; слышно, говорит по-человечьи. Девок-то у нас и своих много. Любую выберем в Москве, а кота-то другого не сыщешь скоро. То-то мы бы с тобою наслушались дивного и разумного, к чему бы и Борька после годился?
– Помнится, сказывали, что и дочка у Максима Строганова вельми смазлива, – сказал Иоанн весело; а это еще более одобрило забавника рассказывать были и небылицы и предлагать государю приятельские советы, доколе не вывел он его из терпения и от одного взгляда не зажал себе рта.
Прибытие Ермакова посольства не замедлило увеличить радость московских жителей и удостоверить самых недоверчивых в справедливости известий, привезенных Строгановыми. Кольцо, взяв к себе в вожатые князя Имбердея, благополучно пробрался через Каменный Пояс и Пермь волчей дорогой, ехав в нартах то на собаках, то на оленях, которым путь по глубокому снегу прокладывали вогулы на лыжах.
Весьма простительно, ибо везде так было и будет, что по приезде казаков забыли о Строгановых. В целой Москве говорили только об Ермаке Тимофеевиче и храбрых его сподвижниках. Рассказывали о бесчисленных воинствах, разбитых ими; о чудных народах, ими покоренных; о их шаманах, которые отрезывают себе голову, когда колдуют, и опять приставляют ее к своей шее[66], и прочее; а о несметных богатствах, найденных казаками в Сибири, никто и не смел усомниться, видя послов их, гордо расхаживающих по Красной площади в драгоценных собольих шубах и высоких гарлатых шапках, словно бояре первостепенные.
Царь Иоанн Васильевич, по расчетам ли политики своей, дабы поддержать народный восторг, или действительно быв и сам обрадован столь неожиданным приращением своего могущества, не скрывал удовольствия и, ко всеобщему удивлению и радости, назначил принять атамана Кольца в Кремлевском дворце наравне с послами, присылаемыми к нему от азиатских народов.
Народ уже рано поутру толпился у Красного крыльца, желая взглянуть на царя, давно не виданного им в столице, а того еще более – при торжестве столь веселом и радостном. Скоро народный шепот возвестил, что царь проехал к Годунову. Боялись, чтобы воспоминание ужасной причины его болезни не омрачило опять Иоаннова нрава; но, к общему всех обрадованию, государь возвратился от Бориса Федоровича с лицом столь светлым и спокойным, какого давно в нем не запомнили.
Когда ввели Кольца с его свитою в приемную палату, Иоанн сидел на троне, окруженный знаменитейшими сановниками и телохранителями в белых кафтанах с серебряными секирами и золотыми цепями на груди. По сторонам на длинных столах разложена была дань, собранная Ермаком с новоприобретенного царства и состоявшая из пятидесяти сороков редчайших соболей, двадцати черных как смоль лисиц и пятидесяти бобров, струившихся серебром. С непонятным трепетом бестрепетный герой Сибири подал челобитную Ермака в руки грозного монарха, некогда осудившего его на позорную смерть, и повергся к подножию его престола. В сем умиленном положении, весьма приятном для Иоанна, казаки ожидали решения судьбы своей во все продолжение чтения дьяком Ермаковой челобитной. Завоеватель Сибири доносил государю, «что его бедные, опальные казаки, угрызаемые совестью, исполненные раскаяния, шли на смерть и присоединили знаменитую державу к России во имя Христа и великого государя – на веки веков, доколе Всевышний благоволит стоять миру. Что они ждут указа и воевод его, сдадут им царство Сибирское и без всяких условий готовы умереть или в новых подвигах чести, или на плахе, как будет угодно ему и Богу».
Иоанн ласково приказал атаману и всем казакам встать, пожаловал Кольцу облобызать свою руку и с особенной милостью сказал:
– Витязи добрые! Вы давно уже искупили прежние вины свои делами славными, услугою, за которую отечество вам будет вечно благодарно. Прославим Господа за великие щедроты Его к нашему государству и испросим мудрости достойно наградить виновников сей благодати.
Немедленно митрополит приступил к отправлению торжественного молебствия с коленопреклонением в Успенском соборе при оглушительном звоне всех колоколов. Царь молился с непритворным усердием и повелел три дня продолжать звон по всем церквам в столице. Бояре и даже простолюдины пели благодарственные молебны и наперерыв честили вестников столь счастливого события, напоминавшего им незабвенные времена Иоанновой юности, завоеваний царств Казанского и Астраханского.
Сибирский посол со всеми его провожатыми угощаемы были три дня сряду во дворце государевом, и царь посылал им в золотых мисках лучшие блюда со стола своего. Во все сие время Иоанн был милостив, снисходителен, неоднократно беседовал по нескольку часов с Кольцом и Строгановыми о Сибири и всех нуждах их и предположениях и обещал незамедля отпустить их с полным удовлетворением; но вдруг, к общей печали и страху, уехал по-прежнему с небольшим числом придворных в свою слободу Александровскую – неприступную жалости и милосердию.
Глава вторая
Строганов и Годунов в беде. – Поход в слободу медведей. – Потеха. – Рассказы шута. – Иоанн за обедней. – Ужасная забава. – Строганов в отчаянии. – Трапеза царская. – Строганов перед Иоанном. – Иоанн смирен добродетелью. – Узнает об ослушании и прощает. – Ощущение милосердия. – Слобода Александровская. – Торжественное отправление в Сибирь послав Ермаковых. – Ермак пожалован князем сибирским. – Дерзкая шутка Аввакума.
Строганов с Годуновым увидели опасность, в которую они вверглись, не выполнив повеления царя Грозного. Иоанн, найдя Годунова действительно страдавшим от руки его, обнял его, а узнав притом, что врачует его Строганов, приказал сему последнему, чтобы он поставил самые мучительные заволоки на груди и на шее Федору Нагому, отцу царицы, в наказание за его ябедничество, ибо Нагой донес ему, что Годунов не является ко двору от досады и злобы, а не от болезни. В то же время Строганову государь пожаловал за его искусство и попечение о своем любимце право именитых людей с вичем, коим пользовались только знатнейшие государственные чиновники.
Годунов надеялся, что в Москве скоро изыщет он случай пасть к ногам государя и признаться, что причиной невыполнения Строгановым его святой воли стали жалость к дряхлым летам его тестя. Но в Александровской слободе никто без позволения не имел доступа к царю, и самые вести, даже сокровенные, проникали не иначе, как через железные ворота, всегда запертые и охраняемые многочисленной стражей, но проникали преувеличенными, искаженными, как они часто выходят из уст лазутчиков и наемщиков. Одна надежда оставалась на пособие умного и доброго князя Аввакума Прохоровича, которого Годунов нередко употреблял в подобных случаях, когда не оставалось уже другого доступа к Иоанну. И до шута царского доступ был не весьма легок. Требовались большая осторожность и благоразумие, дабы ускользнуть от тысячи глаз, устремлявшихся обыкновенно на незваного пришельца в негостеприимные стены слободы Александровской. Долго думали и гадали, с кем бы передать ему грамотку, наконец Кольцо предложил сделать сию доверенность казаку его, Коржу, которого можно было послать туда с медведями, приведенными для царской потехи Строгановыми. Кольцо ручался за его скромность и смышленость. Итак, дав Коржу наставления, немедленно отправили его в слободу с двумя важными поручениями: с учеными медведями для царя и небольшой грамоткой к его шуту. И проворный Корж вполне оправдал сие доверие.
С барабанным боем и страшным ревом подошел он к Неволе, находившейся за три версты от слободы, где стоял обыкновенно передовой отряд стрельцов для обыска путешественников. Так как проводники медведей, шестеро дюжих рослых мужиков, наряжены были в остяцкие парки, а на зверях, которые шли на задних лапах, надеты вогульские шапки, то весьма естественно, что приближение столь странного сонмища встревожило блюстителей царского покоя. Стрельцы схватили оружие и построились у заставы в боевой порядок. На вопрос сторожевого, кто идет и зачем, Корж, который отделился от своей блестящей свиты, смело ответствовал, что ведет царю на поклон новых его сибирских холопей. «Не подумайте, братцы, – продолжал казак весело, – что мы, сибиряки, не сумеем добрым людям поклониться и слова ласкового вымолвить, даром что с рожи-то не кошны и прихмуроваты». Он подал неприметный знак, и медведи с ужасным ревом кувыркнулись несколько раз вперед. С подобными шутками и рассказами Корж пробрался со своими медведями до самого царского дворца, далее его не пустили без доклада государю.
К счастью, стрелец, посланный к постельнику с донесением, встретил в передовых сенях знакомого нам князя Аввакума Прохоровича, который, как один из числа придворных, снедаемых любопытством, переходил с места на место, стараясь собирать или извлекать, чем бы потешить царя. Он взялся доложить государю, но прежде того вышел сам посмотреть на подарок Строгановых. Смышленый Корж, увидя низенького горбатого старичишку в превысокой боярской шапке, смекнул разом, по сделанному ему описанию, что это тот молодец, до которого ему было дело. Боясь упустить сей счастливый случай, он тотчас подошел к нему и, поклонясь почти до земли, спросил:
– Твоя милость не Борис ли Федорович Годунов?
– Нет! – отвечал спесиво Аввакум.
– Коли не боярин Годунов, то, вестимо, не хуже его, а може, и ближе к ясным очам государевым. Порадей, боярин батюшка, донеси царю, что его-де сибирские холопы, – указывая на медведей, – прибыли из-за дальних лесов, от широких рек, с высоких гор, не разуваючись, рубахи не снимаючи, бить челом на воровство его людей Строгановых, что им житья не дают, с них шубы дерут да в казну царскую кладут.
Он всунул медведю в лапу большую бумагу, завернув искусно в нее известную грамотку Годунова. Мишук с низкими поклонами и жалостным ревом подал челобитную Аввакуму, которому в то же самое время проворный Корж успел сказать на ухо: «Не зевай». Этого достаточно было для не менее смышленого шута, который и по первым словам казака о его сходстве с Годуновым смекнул, что тут что-нибудь да кроется. Положив тщательно бумагу за пазуху, Аввакум, чтобы не подать малейшего сомнения и пересказать подробнее царю о достоинстве медведей, заставил их показать свои таланы. Восхищаясь от всей души разумом косматых обитателей лесов сибирских, Аввакум божился всеми святыми, что все царские медведи, которых по нескольку присылают ежегодно из Новгорода и Ваги для царской забавы, не стоят уха сибирских потешников. В самом деле, робкое послушание сих ужасных зверей воле своих вожатых было еще удивительнее по их свирепости, которую ничем не могли истребить в них. Они бросали по сторонам кровожадные взоры и, кажется, говорили, что если б не крепкие железные кольца, продетые им в ноздри и в обе губы, удерживали их, то они давно бы управились по-свойски с милыми своими приставами. В особенности многие сибирские обычаи, неизвестные в России, представленные медведями, доставили Аввакуму и стрельцам, высыпавшим из сторожевой избы, несказанное удовольствие. Например, как вогулы на лыжах бегают, как остяки секут своих божков, когда приходят из лесу без добычи, как белки по деревьям скачут и грызут кедровые орехи. Неповоротливость неуклюжих подражателей быстрым, легким зверькам морила со смеху, не менее того тешились они злостью и гневом медведей, когда подали им вместо орехов по круглому булыжнику. Но испытанием их ярости и силы более всего послужило представление, как сибиряки подстерегают оленей при переправах через реки. Подползя с осторожностью к чуткому животному, звероловы с остервенением нападают на стадо, бьют, колют их сколько можно более, а другие внизу реки подбирают раненых, несомых быстриною струи. Медведи с кольями в лапах, маша в обе стороны, по неловкости часто задевали друг друга и, наконец, до того приходили в ярость, что со свирепостью кидались один на другого, и тогда требовалось большого искусства и усилий, чтобы разнимать их между собою.
Аввакум, полный любопытных вестей, вошел с немалой спесью в светлицу царскую, когда царь облачался, собираясь к поздней обедне.
– Ну, кум, – сказал он, – недаром же ты велел перезвонить по всем церквам за новое-то царство.
– А что? – спросил государь.
– Как что, неужто тебе не слышно было, как орали твои сибирские песенники, выли не хуже твоей царицы?
– О чем царице плакать? – спросил Иоанн с поспешностью.
– Как о чем? – отвечал Аввакум. – Разве Федька Нагой не батька ей – вишь, стало жаль старика.
Иоанн затрепетал от гнева: глаза его наполнились кровью, и он тотчас же послал Богдана Бельского спросить у царицы Марии Федоровны, не жаль ли ей своего отца?
– Забеги-ста полюбоваться на своих новых холопей, – продолжал Аввакум, как будто не примечая Иоаннова гнева, – они давно дожидаются тебя у сторожевой избы, чай, проголодались, сердечные. Ну уж звери, Ванюша, такие дюжие да свирепые, что твои важские! Будет чем тебе позабавиться уже на Красной площади. Ха-ха-ха, как спустим шестерых-то на кучу, то ни пеший, ни конный вряд ли цел уберется домой. Ха-ха-ха! Только и знай, что станут пощелкивать руками да ногами, словно орешками…
Иоанн в молчании и без малейшего изменения в лице выслушал рассказы шута о достоинствах медведей и продолжал свое шествие в церковь, как у порога встретился с Бельским, который принес ответ от царицы, «что как она, так и отец ее в его царевой воле; да творит он с ними, что рассудит за благо». Иоанн взглянул исподлобья на Бельского и, не сказал ни слова, пошел далее.
С благоговением молился государь в храме Божьем и столь усердно клал земные поклоны, что на челе у него сделалось красное пятно; казалось, все помышления его стремились к престолу Всевышнего.
По окончании службы Иоанн при выходе из церкви, подкликнув к себе любимого своего стольника Черемисинова, послал его с повелением, коего последние слова: «Вели из губ вынуть оба кольца», – произнес довольно громко. Никто не понял значения этих слов, но всякий с подозрением взглянул на другого, ибо жалость давно была изгнана из сердец людей, окружавших Иоанна, и одно подозрение было известно в слободе Александровской.
Возле церкви Иоанн заметил Никиту Строганова, который, получив накануне указ царский явиться в Александровскую слободу, поспешил выполнить волю его, тем более что вследствие царского повеления ему выданы были из казны прогонные деньги за девяносто семь верст на две подводы[67]. Царь, подозвав его к себе, милостиво подал ему руку для целования и, сказав весело: «Божья Богови, а кесарева кесаревы», – дал знак, чтобы он за ним следовал. Всходя на Красное крыльцо, царь опять обернулся к Строганову и сказал с улыбкою:
– Испытаем, именитый человек, твой подарочек!
– Государь, – отвечал Никита с подобострастием. – Все, что ни имею, есть твое достояние, и кланяюсь от щедрот твоих.
– Мой князь из князей, – продолжал Иоанн шутливо, – не может нахвалиться твоими медвежатами. Хочу ими потешиться, – прибавил он со значительной усмешкой, садясь в кресла, нарочно ставившиеся для государя на стеклянной галерее для подобных зрелищ.
Строганова поставили недалеко от государя. Не видя ни виселиц, ни эшафотов, он полагал, что преступники, стоявшие посреди Красного двора в кандалах и рубищах, окруженные рогатками и вооруженной стражей, призваны были для получения помилования от царя, умиленного Божественной службой. Спокойствие Иоанна еще более его в том удостоверило. В минуты сего размышления вбегает Аввакум.







