полная версия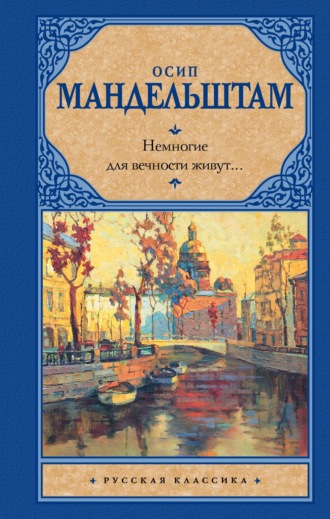
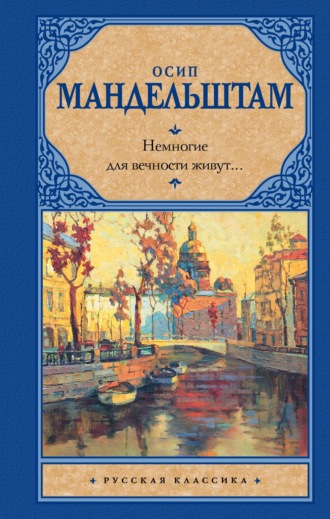
Осип Мандельштам
Немногие для вечности живут… (сборник)
«Может быть, это точка безумия…»
Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя –
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия…
Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет-паучок,
Распуская на ребра, их сызнова
Собирает в единый пучок.
Чистых линий пучки благодарные,
Направляемы тихим лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом,
Только здесь – на земле, а не на небе,
Как в наполненный музыкой дом, –
Только их не спугнуть, не изранить бы –
Хорошо, если мы доживем…
То, что я говорю, мне прости…
Тихо, тихо его мне прочти…
15 марта 1937
«Не сравнивай: живущий несравним…»
Не сравнивай: живущий несравним.
С каким-то ласковым испугом
Я согласился с равенством равнин,
И неба круг мне был недугом.
Я обращался к воздуху-слуге,
Ждал от него услуги или вести,
И собирался в путь, и плавал по дуге
Неначинающихся путешествий…
Где больше неба мне – там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.
Рим
Где лягушки фонтанов, расквакавшись
И разбрызгавшись, больше не спят –
И, однажды проснувшись, расплакавшись,
Во всю мочь своих глоток и раковин
Город, любящий сильным поддакивать,
Земноводной водою кропят, –
Древность легкая, летняя, наглая,
С жадным взглядом и плоской ступней,
Словно мост ненарушенный Ангела
В плоскоступьи над желтой водой, –
Голубой, онелепленный, пепельный,
В барабанном наросте домов,
Город, ласточкой купола лепленный
Из проулков и из сквозняков, –
Превратили в убийства питомник
Вы – коричневой крови наемники –
Италийские чернорубашечники –
Мертвых цезарей злые щенки…
Все твои, Микель-Анджело, сироты,
Облеченные в камень и стыд:
Ночь, сырая от слез, и невинный,
Молодой, легконогий Давид,
И постель, на которой несдвинутый
Моисей водопадом лежит, –
Мощь свободная и мера львиная
В усыпленьи и в рабстве молчит.
И морщинистых лестниц уступки
В площадь льющихся лестничных рек, –
Чтоб звучали шаги как поступки,
Поднял медленный Рим-человек,
А не для искалеченных нег,
Как морские ленивые губки.
Ямы Форума заново вырыты,
И открыты ворота для Ирода –
И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжелый висит.
16 марта 1937
«Чтоб, приятель и ветра и капель…»
Чтоб, приятель и ветра и капель,
Сохранил их песчаник внутри,
Нацарапали множество цапель
И бутылок в бутылках цари.
Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.
То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно-грешный певец,
Еще слышен твой скрежет зубовный,
Беззаботного праха истец.
Размотавший на два завещанья
Слабовольных имуществ клубок
И в прощаньи отдав, в верещаньи
Мир, который как череп глубок, –
Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.
Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть –
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть…
18 марта 1937
«Гончарами велик остров синий…»
Гончарами велик остров синий –
Крит зеленый. Запекся их дар
В землю звонкую. Слышишь подземных
Плавников могучий удар?
Это море легко на помине
В осчастливленной обжигом глине,
И сосуда студеная власть
Раскололась на море и глаз.
Ты отдай мне мое, остров синий,
Крит летучий, отдай мне мой труд
И сосцами текучей богини
Воскорми обожженный сосуд…
Это было и пелось, синея,
Много задолго до Одиссея,
До того, как еду и питье
Называли «моя» и «мое».
Выздоравливай же, излучайся,
Волоокого неба звезда,
И летучая рыба – случайность,
И вода, говорящая «да».
<21 марта> 1937
«Длинной жажды должник виноватый…»
Длинной жажды должник виноватый,
Мудрый сводник вина и воды:
На боках твоих пляшут козлята
И под музыку зреют плоды.
Флейты свищут, клянутся и злятся,
Что беда на твоем ободу
Черно-красном – и некому взяться
За тебя, чтоб поправить беду.
21 марта 1937
«О, как же я хочу…»
О, как же я хочу,
Не чуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем.
А ты в кругу лучись –
Другого счастья нет –
И у звезды учись
Тому, что значит свет.
Он только тем и луч,
Что только тем и свет,
Что шопотом могуч
И лепетом согрет.
А я тебе хочу
Сказать, что я шепчу,
Что шопотом лучу
Тебя, дитя, вручу…
23 марта – начало мая 1937
«Нереиды мои, нереиды!..»
Нереиды мои, нереиды!
Вам рыданья – еда и питье,
Дочерям средиземной обиды
Состраданье обидно мое.
Март 1937
«Флейты греческой тэта и йота…»
Флейты греческой тэта и йота –
Словно ей не хватало молвы, –
Неизваянная, без отчета,
Зрела, маялась, шла через рвы…
И ее невозможно покинуть,
Стиснув зубы, ее не унять,
И в слова языком не продвинуть,
И губами ее не размять…
А флейтист не узнает покоя:
Ему кажется, что он один,
Что когда-то он море родное
Из сиреневых вылепил глин…
Звонким шопотом честолюбивых,
Вспоминающих шопотом губ
Он торопится быть бережливым,
Емлет звуки – опрятен и скуп.
Вслед за ним мы его не повторим,
Комья глины в ладонях моря,
И когда я наполнился морем –
Мором стала мне мера моя…
И свои-то мне губы не любы –
И убийство на том же корню –
И невольно на убыль, на убыль
Равноденствие флейты клоню.
7 апреля 1937
«Как по улицам Киева-Вия…»
Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.
Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.
Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
«Мы вернемся еще – разумейте…»
Апрель 1937
«Я к губам подношу эту зелень…»
Я к губам подношу эту зелень –
Эту клейкую клятву листов,
Эту клятвопреступную землю:
Мать подснежников, кленов, дубков.
Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням,
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?
А квакуши, как шарики ртути,
Голосами сцепляются в шар,
И становятся ветками прутья
И молочною выдумкой пар.
30 апреля 1937
«Клейкой клятвой липнут почки…»
Клейкой клятвой липнут почки,
Вот звезда скатилась –
Это мать сказала дочке,
Чтоб не торопилась.
– Подожди, – шепнула внятно
Неба половина,
И ответил шелест скатный:
– Мне бы только сына…
Стану я совсем другою
Жизнью величаться.
Будет зыбка под ногою
Легкою качаться.
Будет муж, прямой и дикий,
Кротким и послушным,
Без него, как в черной книге,
Страшно в мире душном…
Подмигнув, на полуслове
Запнулась зарница.
Старший брат нахмурил брови.
Жалится сестрица.
Ветер бархатный, крыластый
Дует в дудку тоже, –
Чтобы мальчик был лобастый,
На двоих похожий.
Спросит гром своих знакомых:
– Вы, грома́, видали,
Чтобы липу до черемух
Замуж выдавали?
Да из свежих одиночеств
Леса – крики пташьи:
Свахи-птицы свищут почесть
Льстивую Наташе.
И к губам такие липнут
Клятвы, что, по чести,
В конском топоте погибнуть
Мчатся очи вместе.
Все ее торопят часто:
– Ясная Наташа,
Выходи, за наше счастье,
За здоровье наше!
2 мая 1937
«На меня нацелилась груша да черемуха…»
На меня нацелилась груша да черемуха –
Силою рассыпчатой бьет в меня без промаха.
Кисти вместе с звездами, звезды вместе
с кистями, –
Что за двоевластье там? В чьем соцветьи истина?
С цвету ли, с размаха ли – бьет
воздушно-целыми
В воздух, убиваемый кистенями белыми.
И двойного запаха сладость неуживчива:
Борется и тянется – смешана, обрывчива.
4 мая 1937
«К пустой земле невольно припадая…»
I
К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идет – чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И, может статься, ясная догадка
В ее походке хочет задержаться –
О том, что эта вешняя погода
Для нас – праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.
II
Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их – гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших – их призванье.
И ласки требовать у них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня – ангел, завтра – червь могильный,
А послезавтра – только очертанье…
Что было – поступь – станет недоступно…
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И всё, что будет, – только обещанье.
4 мая 1937
Последние стихи
Чарли Чаплин
Чарли Чаплин
вышел из кино,
Две подметки,
заячья губа,
Две гляделки,
полные чернил
И прекрасных
удивленных сил.
Чарли Чаплин –
заячья губа,
Две подметки –
жалкая судьба.
Как-то мы живем
неладно все –
чужие,
чужие…
Оловянный
ужас на лице,
Голова не
держится совсем.
Ходит сажа,
вакса семенит,
И тихонько
Чаплин говорит:
«Для чего я
славен и любим
и даже
знаменит», –
И ведет его
шоссе большое
к чужим,
чужим.
Чарли Чаплин,
нажимай педаль,
Чаплин, кролик,
пробивайся в роль.
Чисть корольки,
ролики надень,
А жена твоя –
слепая тень, –
И чудит, чудит
чужая даль
Отчего
у Чаплина тюльпан,
Почему
так ласкова толпа?
Потому
что это ведь Москва!
Чарли, Чарли,
надо рисковать,
Ты совсем
не вовремя раскис,
Котелок твой –
тот же океан,
А Москва
так близко, хоть влюбись
В дорогую
дорогу.
Май (?) 1937
«С примесью ворона голуби…»
С примесью ворона голуби,
Завороненные волосы –
Здравствуй, моя нежнолобая,
Дай мне сказать тебе с голоса,
Как я люблю твои волосы,
Душные, черно-голубые.
В губы горячие вложено
Всё, чем Москва омоложена,
Чем, молодая, расширена,
Чем, мировая, встревожена,
Грозная, утихомирена…
Тени лица восхитительны –
Синие, черные, белые,
И на груди удивительны
Эти две родинки смелые.
В пальцах тепло не мгновенное –
Сила лежит фортепьянная,
Сила приказа желанная
Биться за дело нетленное…
Мчится, летит, с нами едучи,
Сам ноготок холодеющий,
Мчится, о будущем знаючи,
Сам ноготок холодающий.
Славная вся, безусловная,
Здравствуй, моя оживленная
Ночь в рукавах и просторное
Круглое горло упорное.
Слава моя чернобровая,
Бровью вяжи меня вязкою,
К жизни и смерти готовая,
Произносящая ласково
Сталина имя громовое
С клятвенной нежностью, с ласкою.
Начало июня 1937
«Пароходик с петухами…»
Пароходик с петухами
По небу плывет,
И подвода с битюгами
Никуда нейдет.
И звенит будильник сонный,
Хочешь, повтори:
«Полторы воздушных тонны,
Тонны полторы…»
И, паяльных звуков море
В перебои взяв,
Москва слышит, Москва смотрит,
Зорко смотрит в явь.
Только на крапивах пыльных,
Вот чего боюсь,
Не изволил бы в напильник
Шею выжать гусь.
3 июля 1937
«На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь…»
На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь,
Гром, ударь в тесины новые,
Крупный град, по стеклам двинь – грянь и двинь, –
А в Москве ты, чернобровая,
Выше голову закинь.
Чародей мешал тайком с молоком
Розы черные, лиловые
И жемчужным порошком и пушком
Вызвал щеки холодовые,
Вызвал губы шепотком…
Как досталась – расскажи, расскажи –
Красота такая галочья,
От индийского раджи, от раджи –
Алексею что ль Михайлычу, –
Волга, вызнай и скажи.
Против друга – за грехи, за грехи –
Берега стоят неровные,
И летают за верхи, за верхи
Ястреба тяжелокровные –
За коньковых изб верхи –
Ах, я видеть не могу, не могу
Берега серо-зеленые:
Словно ходят по лугу, по лугу
Косари умалишенные,
Косит ливень луг в дугу.
4 июля 1937
Стансы
Необходимо сердцу биться:
Входить в поля, врастать в леса.
Вот «Правды» первая страница,
Вот с приговором полоса.
Дорога к Сталину – не сказка,
Но только – жизнь без укоризн:
Футбол – для молодого баска,
Мадрида пламенная жизнь.
Москва повторится в Париже,
Дозреют новые плоды,
Но я скажу о том, что ближе,
Нужнее хлеба и воды,
О том, как вырвалось однажды:
«Я не отдам его!» – и с ним,
С тобой, дитя высокой жажды,
И мы его обороним,
Непобедимого, прямого,
С могучим смехом в грозный час,
Находкой выхода прямого
Ошеломляющего нас.
И ты прорвешься, может статься,
Сквозь чащу прозвищ и имен
И будешь сталинкою зваться
У самых будущих времен…
Но это ощущенье сдвига,
Происходящего в веках,
И эта сталинская книга
В горячих солнечных руках, –
Да, мне понятно превосходство
И сила женщины – ее
Сознанье, нежность и сиротство
К событьям рвутся – в бытие.
Она и шутит величаво,
И говорит, прощая боль,
И голубая нитка славы
В ее волос пробралась смоль.
И материнская забота
Ее понятна мне – о том,
Чтоб ширилась моя работа
И крепла – на борьбу с врагом.
4–5 июля 1937
Стихи, не вошедшие в основное собрание
Ранние стихи (1906)
«Среди лесов, унылых и заброшенных…»
Среди лесов, унылых и заброшенных,
Пусть остается хлеб в полях нескошенным!
Мы ждем гостей незваных и непрошенных,
Мы ждем гостей!
Пускай гниют колосья перезрелые!
Они придут на нивы пожелтелые,
И не сносить вам, честные и смелые,
Своих голов!
Они растопчут нивы золотистые,
Они разроют кладбище тенистое,
Потом развяжет их уста нечистые
Кровавый хмель!
Они ворвутся в избы почернелые,
Зажгут пожар, хмельные, озверелые…
Не остановят их седины старца белые,
Ни детский плач!..
Среди лесов, унылых и заброшенных,
Мы оставляем хлеб в полях нескошенным.
Мы ждем гостей незваных и непрошенных,
Своих детей!
«Тянется лесом дороженька пыльная…»
Тянется лесом дороженька пыльная,
Тихо и пусто вокруг.
Родина, выплакав слезы обильные,
Спит и во сне, как рабыня бессильная,
Ждет неизведанных мук.
Вот задрожали березы плакучие
И встрепенулися вдруг,
Тени легли на дорогу сыпучую:
Что-то ползет, надвигается тучею,
Что-то наводит испуг…
С гордой осанкою, с лицами сытыми…
Ноги торчат в стременах.
Серую пыль поднимают копытами
И колеи оставляют изрытыми…
Все на холеных конях.
Нет им конца. Заостренными пиками
В солнечном свете пестрят.
Воздух наполнили песней и криками,
И огоньками звериными, дикими
Черные очи горят…
Прочь! Не тревожьте поддельным веселием
Мертвого, рабского сна.
Скоро порадуют вас новоселием,
Хлебом и солью, крестьянским изделием…
Крепче нажать стремена!
Скоро столкнется с звериными силами
Дело великой любви!
Скоро покроется поле могилами,
Синие пики обнимутся с вилами
И обагрятся в крови!
Стихотворения 1908–1937 годов
«О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала…»
О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала,
Колыхала мой челн, челн подвижный, игривый и острый.
В водном плеске душа колыбельную негу слыхала,
И поодаль стояли пустынные скалы, как сестры.
Отовсюду звучала старинная песнь – Калевала:
Песнь железа и камня о скорбном порыве Титана.
И песчаная отмель – добыча вечернего вала –
Как невеста белела на пурпуре водного стана.
Как от пьяного солнца бесшумные падали стрелы,
И на дно опускались, и тихое дно зажигали,
Как с небесного древа клонилось, как плод перезрелый,
Слишком яркое солнце и первые звезды мигали, –
Я причалил и вышел на берег седой и кудрявый;
И не знаю, как долго, не знаю, кому я молился…
Неоглядная Сайма струилась потоками лавы.
Белый пар над водою тихонько вставал и клубился.
<Около 19 апреля 1908, Париж>
«Мой тихий сон, мой сон ежеминутный…»
Мой тихий сон, мой сон ежеминутный –
Невидимый, завороженный лес,
Где носится какой-то шорох смутный,
Как дивный шелест шелковых завес.
В безумных встречах и туманных спорах
На перекрестке удивленных глаз
Невидимый и непонятный шорох
Под пеплом вспыхнул и уже погас.
И как туманом одевает лица,
И слово замирает на устах,
И кажется – испуганная птица
Метнулась в вечереющих кустах.
1908 (1909?)
«В морозном воздухе растаял легкий дым…»
В морозном воздухе растаял легкий дым,
И я, печальною свободою томим,
Хотел бы вознестись в холодном, тихом гимне,
Исчезнуть навсегда… Но суждено идти мне
По снежной улице в вечерний этот час.
Собачий слышен лай, и запад не погас,
И попадаются прохожие навстречу –
Не говори со мной – что я тебе отвечу?
1909
«Истончается тонкий тлен…»
Истончается тонкий тлен –
Фиолетовый гобелен,
К нам – на воды и на леса –
Опускаются небеса.
Нерешительная рука
Эти вывела облака,
И печальный встречает взор
Отуманенный их узор.
Недоволен стою и тих,
Я, создатель миров моих, –
Где искусственны небеса
И хрустальная спит роса.
1909
«Ты улыбаешься кому…»
Ты улыбаешься кому,
О путешественник веселый,
Тебе неведомые долы
Благословляешь почему?
Никто тебя не проведет
По зеленеющим долинам
И рокотаньем соловьиным
Никто тебя не позовет, –
Когда, закутанный плащом,
Несогревающим, но милым,
К повелевающим светилам
Смиренным возлетишь лучом.
<Не позднее 13 августа> 1909
«В просторах сумеречной залы…»
В просторах сумеречной залы
Почтительная тишина.
Как в ожидании вина
Пустые зыблются кристаллы,
Окровавленными в лучах,
Вытягивая безнадежно
Уста, открывшиеся нежно
На целомудренных стеблях:
Смотрите: мы упоены
Вином, которого не влили.
Что может быть слабее лилий
И сладостнее тишины?
<Не позднее 13 августа> 1909
«В холодных переливах лир…»
В холодных переливах лир
Какая замирает осень!
Как сладостен и как несносен
Ее золотострунный клир!
Она поет в церковных хорах
И в монастырских вечерах
И, рассыпая в урны прах,
Печатает вино в амфорах.
Как успокоенный сосуд
С уже отстоенным раствором,
Духовное – доступно взорам,
И очертания живут.
Колосья, так недавно сжаты,
Рядами ровными лежат;
И пальцы тонкие дрожат,
К таким же, как они, прижаты.
1909
«Озарены луной ночевья…»
Озарены луной ночевья
Бесшумной мыши полевой;
Прозрачными стоят деревья,
Овеянные темнотой, –
Когда рябина, развивая
Листы, которые умрут,
Завидует, перебирая
Их выхоленный изумруд, –
Печальной участи скитальцев
И нежной участи детей;
И тысячи зеленых пальцев
Колеблет множество ветвей.
1909
«Твоя веселая нежность…»
Твоя веселая нежность
Смутила меня.
К чему печальные речи,
Когда глаза
Горят, как свечи,
Среди белого дня?
Среди белого дня
И та – далече –
Одна слеза,
Воспоминание встречи;
И, плечи клоня,
Приподымает их нежность.
1909
«Не говорите мне о вечности…»
Не говорите мне о вечности –
Я не могу ее вместить.
Но как же вечность не простить
Моей любви, моей беспечности?
Я слышу, как она растет
И полуночным валом катится,
Но – слишком дорого поплатится,
Кто слишком близко подойдет.
И тихим отголоскам шума я
Издалека бываю рад –
Ее пенящихся громад –
О милом и ничтожном думая.
1909
«На влажный камень возведенный…»
На влажный камень возведенный,
Амур, печальный и нагой,
Своей младенческой ногой
Переступает, удивленный
Тому, что в мире старость есть –
Зеленый мох и влажный камень –
И сердца незаконный пламень –
Его ребяческая месть.
И начинает ветер грубый
В наивные долины дуть;
Нельзя достаточно сомкнуть
Свои страдальческие губы.
1909
«В безветрии моих садов…»
В безветрии моих садов
Искусственная никнет роза;
Над ней не тяготит угроза
Неизрекаемых часов.
В юдоли дольней бытия
Она участвует невольно;
Над нею небо безглагольно
И ясно, – и вокруг нея
Немногое, на чем печать
Моих пугливых вдохновений
И трепетных прикосновений,
Привыкших только отмечать.
«Бесшумное веретено…»
Бесшумное веретено
Отпущено моей рукою.
И – мною ли оживлено –
Переливается оно
Безостановочной волною –
Веретено.
Всё одинаково темно;
Всё в мире переплетено
Моею собственной рукою;
И, непрерывно и одно,
Обуреваемое мною
Остановить мне не дано –
Веретено.
1909
«Если утро зимнее темно…»
Если утро зимнее темно,
То холодное твое окно
Выглядит, как старое панно.
Зеленеет плющ перед окном,
И стоят под ледяным стеклом
Тихие деревья под чехлом –
Ото всех ветров защищены,
Ото всяких бед ограждены
И ветвями переплетены.
Полусвет становится лучист.
Перед самой рамой – шелковист –
Содрогается последний лист.
1909
«Пустует место. Вечер длится…»
Пустует место. Вечер длится,
Твоим отсутствием томим.
Назначенный устам твоим,
Напиток на столе дымится.
Так ворожащими шагами
Пустынницы не подойдешь
И на стекле не проведешь
Узора спящими губами;
Напрасно резвые извивы –
Покуда он еще дымит –
В пустынном воздухе чертит
Напиток долготерпеливый.
1909
«В смиренномудрых высотах…»
В смиренномудрых высотах
Зажглись осенние Плеяды.
И нету никакой отрады,
И нету горечи в мирах.
Во всем однообразный смысл
И совершенная свобода:
Не воплощает ли природа
Гармонию высоких числ?
Но выпал снег – и нагота
Деревьев траурною стала;
Напрасно вечером зияла
Небес златая пустота;
И белый, черный, золотой –
Печальнейшее из созвучий –
Отозвалося неминучей
И окончательной зимой.
1909
«Дыханье вещее в стихах моих…»
Дыханье вещее в стихах моих
Животворящего их духа,
Ты прикасаешься сердец каких –
Какого достигаешь слуха?
Или пустыннее напева ты
Тех раковин, в песке поющих,
Что круг очерченной им красоты
Не разомкнули для живущих?
1909
«Нету иного пути…»
Нету иного пути,
Как через руку твою –
Как же иначе найти
Милую землю мою?
Плыть к дорогим берегам,
Если захочешь помочь:
Руку приблизив к устам,
Не отнимай ее прочь.
Тонкие пальцы дрожат;
Хрупкое тело живет:
Лодка, скользящая над
Тихою бездною вод.
1909
«Что музыка нежных…»
Что музыка нежных
Моих славословий
И волны любови
В напевах мятежных,
Когда мне оттуда
Протянуты руки,
Откуда и звуки
И волны откуда –
И сумерки тканей
Пронизаны телом –
В сиянии белом
Твоих трепетаний?
1909
«На темном небе, как узор…»
На темном небе, как узор,
Деревья траурные вышиты.
Зачем же выше и всё выше ты
Возводишь изумленный взор?
Вверху – такая темнота –
Ты скажешь – время опрокинула
И, словно ночь, на день нахлынула
Холмов холодная черта.
Высоких, неживых дерев
Темнеющее рвется кружево:
О месяц, только ты не суживай
Серпа, внезапно почернев!
1909
«Сквозь восковую занавесь…»
Сквозь восковую занавесь,
Что нежно так сквозит,
Кустарник из тумана весь
Заплаканный глядит.
Простор, канвой окутанный,
Безжизненней кулис,
И месяц, весь опутанный,
Беспомощно повис.
Темнее занавеситься,
Всё небо охватить
И пойманного месяца
Совсем не отпустить.
1909







