полная версия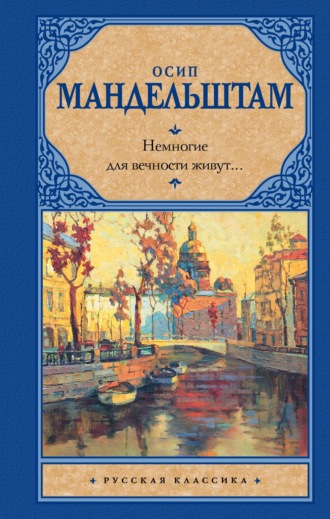
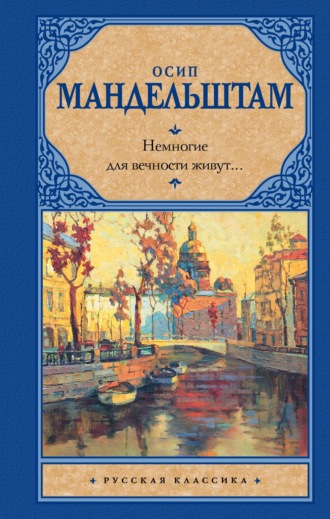
Осип Мандельштам
Немногие для вечности живут… (сборник)
Американка
Американка в двадцать лет
Должна добраться до Египта,
Забыв «Титаника» совет,
Что спит на дне мрачнее крипта.
В Америке гудки поют,
И красных небоскребов трубы
Холодным тучам отдают
Свои прокопченные губы.
И в Лувре океана дочь
Стоит прекрасная, как тополь;
Чтоб мрамор сахарный толочь,
Влезает белкой на Акрополь.
Не понимая ничего,
Читает «Фауста» в вагоне
И сожалеет, отчего
Людовик больше не на троне.
1913
«Отравлен хлеб и воздух выпит…»
Отравлен хлеб и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!
Под звездным небом бедуины,
Закрыв глаза и на коне,
Слагают вольные былины
О смутно пережитом дне.
Немного нужно для наитий:
Кто потерял в песке колчан,
Кто выменял коня – событий
Рассеивается туман;
И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Все исчезает – остается
Пространство, звезды и певец!
1913
Домби и сын
Когда, пронзительнее свиста,
Я слышу английский язык –
Я вижу Оливера Твиста
Над кипами конторских книг.
У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода.
Дожди и слезы. Белокурый
И нежный мальчик Домби-сын.
Веселых клерков каламбуры
Не понимает он один.
В конторе сломанные стулья;
На шиллинги и пенсы счет;
Как пчелы, вылетев из улья,
Роятся цифры круглый год.
А грязных адвокатов жало
Работает в табачной мгле –
И вот, как старая мочала,
Банкрот болтается в петле.
На стороне врагов законы:
Ему ничем нельзя помочь!
И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь.
1913 (1914?)
«От легкой жизни мы сошли с ума…»
От легкой жизни мы сошли с ума:
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о пьяная чума?
В пожатьи рук мучительный обряд,
На улицах ночные поцелуи –
Когда речные тяжелеют струи
И фонари как факелы горят.
Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка.
Ноябрь 1913
«Летают Валькирии, поют смычки…»
Летают Валькирии, поют смычки.
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.
Уж занавес наглухо упасть готов;
Еще рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров.
Карету такого-то! Разъезд. Конец.
1914
«Поговорим о Риме – дивный град!..»
Поговорим о Риме – дивный град!
Он утвердился купола победой.
Послушаем апостольское credo:
Несется пыль и радуги висят.
На Авентине вечно ждут царя –
Двунадесятых праздников кануны –
И строго-канонические луны
Не могут изменить календаря.
На дольный мир бросает пепел бурый
Над Форумом огромная луна,
И голова моя обнажена –
О холод католической тонзуры!
1913
«На луне не растет…»
На луне не растет
Ни одной былинки;
На луне весь народ
Делает корзинки –
Из соломы плетет
Легкие корзинки.
На луне – полутьма
И дома опрятней;
На луне не дома –
Просто голубятни,
Голубые дома –
Чудо-голубятни…
1914
Ахматова
Вполоборота, о, печаль!
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложно-классическая шаль.
Зловещий голос – горький хмель –
Души расковывает недра:
Так – негодующая Федра –
Стояла некогда Рашель.
1914
Перед войной
Ни триумфа, ни войны!
О железные, доколе
Безопасный Капитолий
Мы хранить осуждены?
Или римские перуны –
Гнев народа – обманув,
Отдыхает острый клюв
Той ораторской трибуны;
Или возит кирпичи
Солнца дряхлая повозка
И в руках у недоноска
Рима ржавые ключи?
1914
«О временах простых и грубых…»
О временах простых и грубых
Копыта конские твердят.
И дворники в тяжелых шубах
На деревянных лавках спят.
На стук в железные ворота
Привратник, царственно ленив,
Встал, и звериная зевота
Напомнила твой образ, скиф,
Когда с дряхлеющей любовью
Мешая в песнях Рим и снег,
Овидий пел арбу воловью
В походе варварских телег.
1914
«На площадь выбежав, свободен…»
На площадь выбежав, свободен
Стал колоннады полукруг –
И распластался храм Господень,
Как легкий крестовик-паук.
А зодчий не был итальянец,
Но русский в Риме; ну так что ж!
Ты каждый раз, как иностранец,
Сквозь рощу портиков идешь;
И храма маленькое тело
Одушевленнее стократ
Гиганта, что скалою целой
К земле, беспомощный, прижат!
1914
Равноденствие
Есть иволги в лесах, и гласных долгота
В тонических стихах единственная мера.
Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера.
Как бы цезурою зияет этот день:
Уже с утра покой и трудные длинноты;
Волы на пастбище, и золотая лень
Из тростника извлечь богатство целой ноты.
1914
«„Мороженно!“ Солнце. Воздушный бисквит…»
«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы, мечтанье летит.
Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть –
И в тесной беседке, средь пыльных акаций,
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь…
Подруга шарманка, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка –
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.
И боги не ведают – что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой,
Сверкая на солнце, божественный лед.
1914
«Есть ценностей незыблемая скáла…»
Есть ценностей незыблемая скáла
Над скучными ошибками веков.
Неправильно наложена опала
На автора возвышенных стихов.
И вслед за тем, как жалкий Сумароков
Пролепетал заученную роль,
Как царский посох в скинии пророков,
У нас цвела торжественная боль.
Что делать вам в театре полуслова
И полумаск, герои и цари?
И для меня явленье Озерова –
Последний луч трагической зари.
1914
«Природа – тот же Рим и отразилась в нем…»
Природа – тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.
Природа – тот же Рим, и, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить –
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!
1914
«Пусть имена цветущих городов…»
Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью бренной:
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной!
Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари.
1914
«Я не слыхал рассказов Оссиана…»
Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?
И перекличка ворона и арфы
Мне чудится в зловещей тишине;
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне!
Я получил блаженное наследство –
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.
И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.
1914
Европа
Как средиземный краб или звезда морская
Был выброшен последний материк;
К широкой Азии, к Америке привык,
Слабеет океан, Европу омывая.
Изрезаны ее живые берега,
И полуостровов воздушны изваянья;
Немного женственны заливов очертанья:
Бискайи, Генуи ленивая дуга.
Завоевателей исконная земля,
Европа в рубище Священного союза;
Пята Испании, Италии Медуза
И Польша нежная, где нету короля;
Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних, –
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!
Сентябрь 1914
Encyclyca[2]
Есть обитаемая духом
Свобода – избранных удел.
Орлиным зреньем, дивным слухом
Священник римский уцелел.
И голубь не боится грома,
Которым Церковь говорит;
В апостольском созвучьи: Roma! –
Он только сердце веселит.
Я повторяю это имя
Под вечным куполом небес,
Хоть говоривший мне о Риме
В священном сумраке исчез!
Сентябрь 1914
Посох
Посох мой, моя свобода –
Сердцевина бытия,
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?
Я земле не поклонился
Прежде, чем себя нашел;
Посох взял, развеселился
И в далекий Рим пошел.
А снега на черных пашнях
Не растают никогда,
И печаль моих домашних
Мне по-прежнему чужда.
Снег растает на утесах –
Солнцем истины палим…
Прав народ, вручивший посох
Мне, увидевшему Рим!
1914, 1927
Ода Бетховену
Бывает сердце так сурово,
Что и любя его не тронь!
И в темной комнате глухого
Бетховена горит огонь.
И я не мог твоей, мучитель,
Чрезмерной радости понять:
Уже бросает исполнитель
Испепеленную тетрадь.
Когда земля гудит от грома
И речка бурная ревет
Сильней грозы и бурелома,
Кто этот дивный пешеход?
Он так стремительно ступает
С зеленой шляпою в руке,
И ветер полы развевает
На неуклюжем сюртуке.
С кем можно глубже и полнее
Всю чашу нежности испить;
Кто может, ярче пламенея,
Усилье воли освятить;
Кто по-крестьянски, сын фламандца,
Мир пригласил на ритурнель
И до тех пор не кончил танца,
Пока не вышел буйный хмель?
О, Дионис, как муж, наивный
И благодарный, как дитя,
Ты перенес свой жребий дивный
То негодуя, то шутя!
С каким глухим негодованьем
Ты собирал с князей оброк
Или с рассеянным вниманьем
На фортепьянный шел урок!
Тебе монашеские кельи –
Всемирной радости приют,
Тебе в пророческом весельи
Огнепоклонники поют;
Огонь пылает в человеке,
Его унять никто не мог.
Тебя назвать не смели греки,
Но чтили, неизвестный бог!
О, величавой жертвы пламя!
Полнеба охватил костер –
И царской скинии над нами
Разодран шелковый шатер.
И в промежутке воспаленном –
Где мы не видим ничего –
Ты указал в чертоге тронном
На белой славы торжество!
1914
«Уничтожает пламень…»
Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И ныне я не камень,
А дерево пою.
Оно легко и грубо;
Из одного куска
И сердцевина дуба,
И весла рыбака.
Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки.
1915
Аббат
О, спутник вечного романа,
Аббат Флобера и Золя –
От зноя рыжая сутана
И шляпы круглые поля;
Он все еще проходит мимо,
В тумане полдня, вдоль межи,
Влача остаток власти Рима
Среди колосьев спелой ржи.
Храня молчанье и приличье,
Он с нами должен пить и есть
И прятать в светское обличье
Сияющей тонзуры честь.
Он Цицерона, на перине,
Читает, отходя ко сну:
Так птицы на своей латыни
Молились Богу в старину.
Я поклонился, он ответил
Кивком учтивой головы
И, говоря со мной, заметил:
«Католиком умрете вы!»
Потом вздохнул: «Как нынче жарко!»
И, разговором утомлен,
Направился к каштанам парка,
В тот замок, где обедал он.
1915
«От вторника и до субботы…»
От вторника и до субботы
Одна пустыня пролегла.
О, длительные перелеты!
Семь тысяч верст – одна стрела.
И ласточки когда летели
В Египет водяным путем,
Четыре дня они висели,
Не зачерпнув воды крылом.
1915
«И поныне на Афоне…»
И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поет.
В каждой радуются келье
Имябожцы-мужики:
Слово – чистое веселье,
Исцеленье от тоски!
Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены;
Но от ереси прекрасной
Мы спасаться не должны.
Каждый раз, когда мы любим,
Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим
Вместе с именем любовь.
1915
«Вот дароносица, как солнце золотое…»
Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе – великолепный миг.
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взят в руки целый мир, как яблоко простое.
Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.
И Евхаристия, как вечный полдень длится –
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.
1915
«Обиженно уходят на холмы…»
Обиженно уходят на холмы,
Как Римом недовольные плебеи,
Старухи-овцы – черные халдеи,
Исчадье ночи в капюшонах тьмы.
Их тысячи – передвигают все,
Как жердочки, мохнатые колени,
Трясутся и бегут в курчавой пене,
Как жеребья в огромном колесе.
Им нужен царь и черный Авентин,
Овечий Рим с его семью холмами,
Собачий лай, костер под небесами
И горький дым жилища, и овин.
На них кустарник двинулся стеной,
И побежали воинов палатки,
Они идут в священном беспорядке.
Висит руно тяжелою волной.
1915
«О свободе небывалой…»
О свободе небывалой
Сладко думать у свечи.
– Ты побудь со мной сначала, –
Верность плакала в ночи, –
Только я мою корону
Возлагаю на тебя,
Чтоб свободе, как закону,
Подчинился ты, любя…
– Я свободе, как закону,
Обручен, и потому
Эту легкую корону
Никогда я не сниму.
Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!
1915
Дворцовая площадь
Императорский виссон
И моторов колесницы –
В черном омуте столицы
Столпник-ангел вознесен.
В темной арке, как пловцы,
Исчезают пешеходы,
И на площади, как воды,
Глухо плещутся торцы.
Только там, где твердь светла,
Черно-желтый лоскут злится,
Словно в воздухе струится
Желчь двуглавого орла.
Июнь 1915
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи –
На головах царей божественная пена –
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер – всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
1915
«С веселым ржанием пасутся табуны…»
С веселым ржанием пасутся табуны,
И римской ржавчиной окрасилась долина;
Сухое золото классической весны
Уносит времени прозрачная стремнина.
Топча по осени дубовые листы,
Что густо стелются пустынною тропинкой,
Я вспомню Цезаря прекрасные черты –
Сей профиль женственный с коварною горбинкой!
Здесь, Капитолия и Форума вдали,
Средь увядания спокойного природы,
Я слышу Августа и на краю земли
Державным яблоком катящиеся годы.
Да будет в старости печаль моя светла:
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся;
Мне осень добрая волчицею была,
И – месяц Цезаря – мне август улыбнулся.
Август 1915
Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу, обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:
– Как эти покрывала мне постылы…
Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит.
Спадают с плеч классические шали,
Расплавленный страданьем крепнет голос,
И достигает скорбного закала
Негодованьем раскаленный слог…
Я опоздал на празднество Расина…
Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсинной коркой,
И словно из столетней летаргии
Очнувшийся сосед мне говорит:
– Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира;
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!
Когда бы грек увидел наши игры…
1915
Tristia (1916–1920)
«Как этих покрывал и этого убора…»
– Как этих покрывал и этого убора
Мне пышность тяжела средь моего позора!
– Будет в каменной Трезене
Знаменитая беда,
Царской лестницы ступени
Покраснеют от стыда…
…………………….
…………………….
И для матери влюбленной
Солнце черное взойдет.
– О, если б ненависть в груди моей кипела, –
Но, видите, само признанье с уст слетело.
– Черным пламенем Федра горит
Среди белого дня.
Погребальный факел чадит
Среди белого дня.
Бойся матери ты, Ипполит:
Федра – ночь – тебя сторожит
Среди белого дня.
– Любовью черною я солнце запятнала!
Смерть охладит мой пыл из чистого фиала…
– Мы боимся, мы не смеем
Горю царскому помочь.
Уязвленная Тезеем
На него напала ночь.
Мы же, песнью похоронной
Провожая мертвых в дом,
Страсти дикой и бессонной
Солнце черное уймем.
1915, 1916
Зверинец
Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран – эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом опять
Поют косматые свирели.
Пока ягнята и волы
На тучных пастбищах водились
И дружелюбные садились
На плечи сонных скал орлы, –
Германец выкормил орла,
И лев британцу покорился,
И галльский гребень появился
Из петушиного хохла.
А ныне завладел дикарь
Священной палицей Геракла,
И черная земля иссякла,
Неблагодарная, как встарь.
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пускай уходит в ночь глухую
Мной всполошенное зверье!
Петух и лев, широкохмурый,
Орел и ласковый медведь –
Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры.
А я пою вино времен –
Источник речи италийской,
И, в колыбели праарийской,
Славянский и германский лён!
Италия, тебе не лень
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы
Перелетев через плетень?
И ты, соседка, не взыщи:
Орел топорщится и злится:
Что, если для твоей пращи
Тяжелый камень не годится?
В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей.
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек.
Январь 1916, 1935
«В разноголосице девического хора…»
В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.
И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.
Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное – Флоренция в Москве.
И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.
Февраль 1916
«На розвальнях, уложенных соломой…»
На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.
А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.
Не три свечи горели, а три встречи –
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече –
И никогда он Рима не любил.
Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.
Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело –
И рыжую солому подожгли.
Март 1916
«О, этот воздух, смутой пьяный…»
О, этот воздух, смутой пьяный
На черной площади Кремля!
Качают шаткий «мир» смутьяны,
Тревожно пахнут тополя.
Соборов восковые лики,
Колоколов дремучий лес,
Как бы разбойник безъязыкий
В стропилах каменных исчез.
А в запечатанных соборах,
Где и прохладно, и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.
Успенский, дивно округленный,
Весь удивленье райских дуг,
И Благовещенский – зеленый,
И, мнится, заворкует вдруг,
Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь, –
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь…
Апрель 1916
<Петрополь>
1
Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает.
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки,
Летят стрекозы и жуки стальные,
Мерцают звезд булавки золотые,
Но никакие звезды не убьют
Морской воды тяжелый изумруд.
2
В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.
Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем, –
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.
Май 1916
«Не веря воскресенья чуду…»
Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
– Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы…
…………………….
…………………….
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.
От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелося на юг,
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкою туманной
Остаться – значит, быть беде.
Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой.
Я знаю – он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
Целую кисть, где от браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды пламенное лето
Творит такие чудеса.
Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была.
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.
Июнь 1916
«Эта ночь непоправима…»
Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло.
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.
Солнце желтое страшнее –
Баю-баюшки-баю –
В светлом храме иудеи
Хоронили мать мою.
Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудеи
Отпевали прах жены.
И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели,
Черным солнцем осиян.
1916
«Я потеряла нежную камею…»
– Я потеряла нежную камею,
Не знаю где, на берегу Невы.
Я римлянку прелестную жалею, –
Чуть не в слезах мне говорили вы.
Но для чего, прекрасная грузинка,
Тревожить прах божественных гробниц?
Еще одна пушистая снежинка
Растаяла на веере ресниц.
И кроткую вы наклонили шею.
Камеи нет – нет римлянки, увы.
Я Тинотину смуглую жалею –
Девичий Рим на берегу Невы.
1916
«Собирались эллины войною…»
Собирались эллины войною
На прелестный остров Саламин –
Он, отторгнут вражеской рукою,
Виден был из гавани Афин.
А теперь друзья-островитяне
Снаряжают наши корабли –
Не любили раньше англичане
Европейской сладостной земли.
О, Европа, новая Эллада,
Охраняй Акрополь и Пирей!
Нам подарков с острова не надо –
Целый лес незваных кораблей.
Декабрь 1916
2. Папское послание (лат.).







