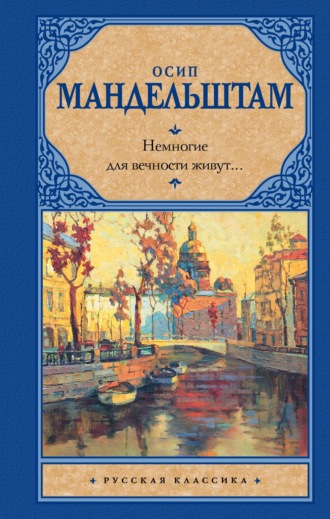
Осип Мандельштам
Немногие для вечности живут… (сборник)
Гуманизм и современность
Бывают эпохи, которые говорят, что им нет дела до человека, что его нужно использовать, как кирпич, как цемент, что из него нужно строить, а не для него. Социальная архитектура измеряется масштабом человека. Иногда она становится враждебной человеку и питает свое величие его унижением и ничтожеством.
Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами огромного царя, воины, олицетворяющие враждебную человеку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне и египетские строители обращаются с человеческой массой, как с материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в любом количестве.
Но есть другая социальная архитектура, ее масштабом, ее мерой тоже является человек, но она строит не из человека, а для человека, не на ничтожестве личности строит она свое величие, а на высшей целесообразности в соответствии с ее потребностями.
Все чувствуют монументальность форм надвигающейся социальной архитектуры. Еще не видно горы, но она уже отбрасывает на нас свою тень, и, отвыкшие от монументальных форм общественной жизни, приученные к государственно-правовой плоскости девятнадцатого века, мы движемся в этой тени со страхом и недоумением, не зная, что это – крыло надвигающейся ночи или тень родного города, куда мы должны вступить.
Простая механическая громадность и голое количество враждебны человеку, и не новая социальная пирамида соблазняет нас, а социальная готика: свободная игра тяжестей и сил, человеческое общество, задуманное как сложный и дремучий архитектурный лес, где все целесообразно, индивидуально и каждая частность аукается с громадой.
Инстинкт социальной архитектуры, то есть устроение жизни в величественных монументальных формах, казалось бы далеко превосходящих прямые потребности человека, глубоко присущ человеческим обществам, и не пустая прихоть диктует его.
Откажитесь от социальной архитектуры, и рухнет самая простая, для всех несомненная и нужная постройка, рухнет дом человека, человеческое жилье.
В странах, угрожаемых землетрясением, люди строят плоские жилища, и стремление к плоскости, отказ от архитектуры, начиная с Французской революции, проходит через всю правовую жизнь девятнадцатого века, который весь прошел в напряженном ожидании подземного толчка, социального удара.
Но землетрясение не пощадило и плоские жилища. Хаотический мир ворвался – и в английский home[53], и в немецкий Gemüt[54], хаос поет в наших русских печках, стучит нашими вьюшками и заслонками.
Как оградить человеческое жилье от грозных потрясений, где застраховать его стены от подземных толчков истории, кто осмелится сказать, что человеческое жилище, свободный дом человека не должен стоять на земле как лучшее ее украшение и самое прочное из всего, что существует?
Правовое творчество последних поколений оказалось бессильным оградить то, ради чего оно возникло, над чем оно билось и бесплодно мудрствовало.
Никакие законы о правах человека, никакие принципы собственности и неприкосновенности больше не страхуют человеческого жилья, дома больше не спасают от катастрофы, не дают ни уверенности, ни обеспечения.
Англичанин больше других лицемерно заботится о правовых гарантиях личности, но он забыл, что понятие home’a возникло много веков назад в его же стране как понятие революционное, как естественное оправдание первой социальной революции в Европе, по типу своему более глубокой и родственной нашему времени, чем французская.
Монументальность надвигающейся социальной архитектуры обусловлена ее призванием организовать мировое хозяйство на принципе всемирной домашности на потребу человеку, расширяя круг его домашней свободы до пределов всемирных, раздувая пламя его индивидуального очага до размеров пламени вселенского.
Грядущее холодно и страшно для тех, кто этого не понимает, но внутреннее тепло грядущего, тепло целесообразности, хозяйственности и телеологии, так же ясно для современного гуманиста, как жар накаленной печки сегодняшнего дня.
Если подлинно гуманистическое оправдание не ляжет в основу грядущей социальной архитектуры, она раздавит человека, как Ассирия и Вавилон.
То, что ценности гуманизма ныне стали редки, как бы изъяты из употребления и подспудны, вовсе не есть дурной знак. Гуманистические ценности только ушли, спрятались, как золотая валюта, но, как золотой запас, они обеспечивают все идейное обращение современной Европы и подспудно управляют им тем более властно.
Переход на золотую валюту дело будущего, и в области культуры предстоит замена временных идей – бумажных выпусков – золотым чеканом европейского гуманистического наследства, и не под заступом археолога звякнут прекрасные флорины гуманизма, а увидят свой день и, как ходячая звонкая монета, пойдут по рукам, когда настанет срок.
1922
Заметки о поэзии
Современная русская поэзия не свалилась с неба, а была предсказана всем поэтическим прошлым нашей страны, – разве щелканьем и цоканьем Языкова не был предсказан Пастернак и разве одного этого примера не достаточно, чтоб показать, как поэтические батареи разговаривают друг с другом перекидным огнем, нимало не смущаясь равнодушием разделяющего их времени? В поэзии всегда война. И только в эпохи общественного идиотизма наступает мир или перемирие. Корневоды, как полководцы, ополчаются друг на друга. Корни слов воюют в темноте, отнимая друг у друга пищу и земные соки. Борьба русской, то есть мирской, бесписьменной речи, домашнего корнесловья, языка мирян, с письменной речью монахов, с церковнославянской, враждебной, византийской грамотой, – сказывается до сих пор.
Первые интеллигенты – византийские монахи – навязали языку чужой дух и чужое обличье. Чернецы, то есть интеллигенты, и миряне всегда говорили в России на разных языках. Славянщина Кирилла и Мефодия для своего времени была тем же, чем воляпюк газеты для нашего времени. Разговорная речь любит приспособление. Из враждебных кусков она создает сплав. Разговорная речь всегда находит удобный путь. По отношению ко всей истории языка она настроена примиренчески и определяется расплывчатым благодушием, то есть оппортунизмом. Поэтическая речь никогда не бывает достаточно «замирена», и в ней через много столетий открываются старые нелады, – это янтарь, в котором жужжит муха, давным-давно затянутая смолой, живое чужеродное тело продолжает жить и в окаменелости. Все, что работает в русской поэзии на пользу чужой, монашеской, словесности, всякая интеллигентская словесность, то есть «Византия», – реакционна. Все, что клонится к обмирщению поэтической речи, то есть к изгнанию из нее монашествующей интеллигенции, Византии, – несет языку добро, то есть долговечность, и помогает ему совершить подвиг самостоятельного существования в семье других наречий.
В русской поэзии первостепенное дело делали только те работники, какие непосредственно участвовали в великом обмирщении языка, его секуляризации. Это – Тредьяковский, Ломоносов, Батюшков, Языков, Пушкин и, наконец, Хлебников и Пастернак.
Рискуя показаться чрезвычайно элементарным, донельзя упростить предмет, я изобразил бы отрицательный и положительный полюсы в состоянии поэтического языка как буйное морфологическое цветение и отвердение морфологической лавы под смысловой корой. Поэтическую речь живит блуждающий, многосмысленный корень.
Множитель корня – согласный звук – показатель его живучести. Слово размножается не гласными, а согласными. Согласные – семя и залог потомства языка. Пониженное языковое сознание – отмиранье чувства согласной.
Русский стих насыщен согласными и цокает, и щелкает, и свистит ими. Настоящая мирская речь. Монашеская речь – литания гласных.
Благодаря тому, что борьба с монашески-интеллигентской Византией на военном поле поэзии после Языкова заглохла и на этом славном поприще долго не являлось нового героя, русские поэты один за другим стали глохнуть к шуму языка, становились тугими на ухо к прибою звуковых волн и только через слуховую трубку различали в шуме словаря свой собственный малый словарь. Так глухому старцу в «Горе от ума» кричат: «Князь, князь, назад!» Небольшой словарь еще не грех и не порочный круг. Он замыкает иногда говорящего и пламенным кругом, но он есть признак того, что говорящий не доверяет родной почве и не всюду может поставить свою ногу. Воистину русские символисты были столпниками стиля: на всех вместе не больше пятисот слов – словарь полинезийца.
У Пушкина есть два выражения для новаторов в поэзии, одно: «чтоб, возмутив бескрылое желанье в нас, чадах праха, снова улететь!», а другое: «когда великий Глюк явился и открыл нам новы тайны». Всякий, кто поманит родную поэзию звуком и образом чужой речи, будет новатором первого толка, то есть соблазнителем.
Неверно, что в русской речи спит латынь, неверно, что спит в ней Эллада. С тем же правом можно расколдовать в музыке русской речи негритянские барабаны и односложные словоизъявления кафров. В русской речи спит она сама, и только она сама. Российскому стихотворцу не похвала, а прямая обида, если стихи его звучат как латынь. А как же Глюк? – Глубокие, пленительные тайны? – Для российской поэтической судьбы глубокие, пленительные глюковские тайны не в санскрите и не в эллинизме, а в последовательном обмирщении поэтической речи. – Давайте нам «Библию для мирян»!
Когда я читаю «Сестру мою – жизнь» Пастернака – я испытываю ту самую чистую радость освобожденной от внешних влияний мирской речи, черной поденной речи Лютера. Так радовались немцы в своих черепичных домах, впервые открывая свеженькие, типографской краской пахнущие, свои готические Библии.
Чтение же Хлебникова может сравниться с еще более величественным и поучительным зрелищем: так мог бы и должен был бы развиваться язык-праведник, не обремененный и не оскверненный историческими невзгодами и насилиями. Речь Хлебникова до того обмирщена, как если бы никогда не существовало ни монахов, ни Византии, ни интеллигентской письменности. Это абсолютно светская и мирская русская речь, впервые прозвучавшая за все время существования русской книжной грамоты. Если принять такой взгляд, отпадает необходимость считать Хлебникова каким-то колдуном и шаманом. Он наметил пути развития языка.
Когда явился Фет, русскую поэзию взбудоражило
серебро и колыханье сонного ручья, –
а уходя, Фет сказал:
и горящею солью нетленных речей.
Эта горящая соль каких-то речей, этот посвист, щелканье, шелестение, сверкание, плеск, полнота звука, полнота жизни, половодье образов и чувств с неслыханной силой воспрянули в поэзии Пастернака. Перед нами значительное патриархальное явление русской поэзии Фета.
Величественная домашняя русская поэзия Пастернака уже старомодна. Она безвкусна потому, что бессмертна; она бесстильна потому, что захлебывается от банальности классическим восторгом цокающего соловья. Да, поэзия Пастернака прямое токованье (глухарь на току, соловей по весне), прямое следствие особого физиологического устройства горла, такая же родовая примета, как оперенье, как птичий хохолок.
Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок…
Стихи Пастернака почитать – горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие: такие стихи должны быть целебны для туберкулеза. У нас сейчас нет более здоровой поэзии. Это – кумыс после американского молока.
Книга Пастернака «Сестра моя – жизнь» представляется мне сборником прекрасных упражнений дыханья: каждый раз голос становится по-новому, каждый раз иначе регулируется мощный дыхательный аппарат.
У Пастернака синтаксис убежденного собеседника, который горячо и взволнованно что-то доказывает, а что он доказывает?
Разве просит арум
У болота милостыни?
Ночи дышат даром
Тропиками гнилостными.
Так, размахивая руками, бормоча, плетется поэзия, пошатываясь, головокружа, блаженно очумелая и все-таки единственная трезвая, единственная проснувшаяся из всего, что есть в мире.
Конечно, Герцен и Огарев, когда стояли на Воробьевых горах мальчиками, испытывали физиологически священный восторг пространства и птичьего полета. Поэзия Пастернака рассказала нам об этих минутах: это – блестящая Нике, перемещенная с Акрополя на Воробьевы горы.
Выпад
1
В поэзии нужен классицизм, в поэзии нужен эллинизм, в поэзии нужно повышенное чувство образности, машинный ритм, городской коллективизм, крестьянский фольклор… Бедная поэзия шарахается под множеством наведенных на нее револьверных дул неукоснительных требований. Какой должна быть поэзия? Да, может, она совсем не должна, никому она не должна, кредиторы у нее все фальшивые! Нет ничего легче, как говорить о том, что нужно, необходимо в искусстве: во-первых, это всегда произвольно и ни к чему не обязывает; во-вторых, это неиссякаемая тема для философствования; в-третьих, это избавляет от очень неприятной вещи, на которую далеко не все способны, а именно – благодарности к тому, что в данное время является поэзией.
О, чудовищная неблагодарность: Кузмину, Маяковскому, Хлебникову, Асееву, Вячеславу Иванову, Сологубу, Ахматовой, Пастернаку, Гумилеву, Ходасевичу, Вагинову – уж на что они не похожи друг на друга, из разной глины. Ведь это все русские поэты не на вчера, не на сегодня, а навсегда. Такими нас обидел Бог. Народ не выбирает своих поэтов, точно так же, как никто не выбирает своих родителей. Народ, который не умеет чтить своих поэтов, заслуживает… Да ничего он не заслуживает, – пожалуй, просто ему не до них, но какая разница между чистым незнанием народа и полузнанием невежественного щеголя. Готтентоты, испытывая своих стариков, заставляют их карабкаться на дерево и потом трясут дерево: если старик настолько одряхлел, что свалится, значит, нужно его убить. Сноб копирует готтентота, его излюбленный критический прием напоминает только что описанный. Я думаю, что на это занятие нужно ответить презрением. Кому – поэзия, кому – готтентотская забава.
Ничто так не способствует укреплению снобизма, как частая смена поэтических поколений при одном и том же поколении читателей. Читатель приучается чувствовать себя зрителем в партере; перед ним дефилируют сменяющиеся школы. Он морщится, гримасничает, привередничает. Наконец у него появляется совсем уже необоснованное сознание превосходства – постоянного перед переменным, неподвижного – перед движущимся. Бурная смена поэтических школ в России, от символистов до наших дней, свалилась на голову одного и того же читателя.
Читательское поколение девяностых годов выпадает, как несостоятельное, совершенно некомпетентное в поэзии. Поэтому символисты долго ждали своего читателя и силою вещей по уму, образованию и зрелости оказались гораздо старше той зеленой молодежи, к которой они обращались. Девятисотые годы, по упадочности общественного вкуса, были немного выше девяностых, и наряду с «Весами», боевой цитаделью новой школы, – существовала безграмотная традиция «Шиповников», чудовищная по аляповатости и невежественной претенциозности альманашная литература.
Когда из широкого лона символизма вышли индивидуально законченные поэтические явления, когда род распался и наступило царство личности, поэтической особи, читатель, воспитанный на родовой поэзии, каковым был символизм, лоно всей новой русской поэзии, – читатель растерялся в мире цветущего разнообразия, где все уже не было покрыто шапкой рода, а каждая особь стояла отдельно с обнаженной головой. После родовой эпохи, влившей новую кровь, провозгласившей канон необычайной емкости, после густой смеси, торжествовавшей в густом благовесте Вячеслава Иванова, наступило время особи, личности. Но вся современная русская поэзия вышла из родового символического лона. У читателя короткая память – он этого не хочет знать. О, жолуди, жолуди, зачем дуб, когда есть жолуди!
2
Однажды удалось сфотографировать глаз рыбы. Снимок запечатлел железнодорожный мост и некоторые детали пейзажа, но оптический закон рыбьего зрения показал все это в невероятно искаженном виде. Если бы удалось сфотографировать поэтический глаз академика Овсянико-Куликовского или среднего русского интеллигента, как они видят, например, своего Пушкина, получилась бы картина не менее неожиданная, нежели зрительный мир рыбы.
Искажение поэтического произведения в восприятии читателя – совершенно необходимое социальное явление, бороться с ним трудно и бесполезно: легче провести в России электрификацию, чем научить всех грамотных читателей читать Пушкина так, как он написан, а не так, как того требуют их душевные потребности и позволяют их умственные способности.
В отличие от грамоты музыкальной, от нотного письма, например, поэтическое письмо в значительной степени представляет большой пробел, зияющее отсутствие множества знаков, указателей, подразумеваемых, единственно делающих текст понятным и закономерным. Но все эти знаки не менее точны, нежели нотные знаки или иероглифы танца; поэтически грамотный читатель ставит их от себя, как бы извлекая их из самого текста.
Поэтическая грамотность ни в коем случае не совпадает ни с грамотностью обычной, то есть читать буквы, ни даже с литературной начитанностью. Если процент обычной и литературной неграмотности в России очень велик, то поэтическая неграмотность уже просто чудовищна, и тем хуже, что ее смешивают с обычной и всякий умеющий читать считается поэтически грамотным. Сказанное сугубо относится к полуобразованной интеллигентской массе, зараженной снобизмом, потерявшей коренное чувство языка, в сущности уже безъязычной, аморфной в отношении языка, щекочущей давно притупившиеся языковые нервы легкими и дешевыми возбудителями, сомнительными лиризмами и неологизмами, нередко чуждыми и враждебными русской речевой стихии.
Вот потребности этой деклассированной в языковом отношении среды должна удовлетворять текущая русская поэзия.
Слово, рожденное в глубочайших недрах речевого сознания, обслуживает глухонемых и косноязычных – кретинов и дегенератов слова.
Великая заслуга символизма, его правильная позиция в отношении к русскому читательскому обществу была в его учительстве, в его врожденной авторитетности, в патриархальной вескости и законодательной тяжести, которой он воспитывал читателя. Читателя нужно поставить на место, а вместе с ним и вскормленного им критика. Критики как произвольного истолкования поэзии не должно существовать, она должна уступить объективному научному исследованию, науке о поэзии.
Быть может, самое утешительное во всем положении русской поэзии – это глубокое и чистое неведение, незнание народа о своей поэзии.
Массы, сохранившие здоровое филологическое чутье, те слои, где произрастает, крепнет и развивается морфология языка, просто-напросто еще не вошли в соприкосновение с индивидуалистической русской поэзией. Она еще не дошла до своих читателей и, может быть, дойдет до них только тогда, когда погаснут поэтические светила, пославшие свои лучи к этой отдаленной и пока недостижимой цели.
1924
Разговор о Данте
Cosi gridai colla faccia levata…[55]
(Inf., XVI, 76)
I
Поэтическая речь есть скрещенный процесс, и складывается она из двух звучаний: первое из этих звучаний – это слышимое и ощущаемое нами изменение самих орудий поэтической речи, возникающих на ходу в ее порыве; второе звучание есть собственно речь, то есть интонационная и фонетическая работа, выполняемая упомянутыми орудиями.
В таком понимании поэзия не является частью природы – хотя бы самой лучшей, отборной – и еще меньше является ее отображением, что привело бы к издевательству над законом тождества, но с потрясающей независимостью водворяется на новом, внепространственном поле действия, не столько рассказывая, сколько разыгрывая природу при помощи орудийных средств, в просторечье именуемых образами.
Поэтическая речь, или мысль, лишь чрезвычайно условно может быть названа звучащей, потому что мы слышим в ней лишь скрещиванье двух линий, из которых одна, взятая сама по себе, абсолютно немая, а другая, взятая вне орудийной метаморфозы, лишена всякой значительности и всякого интереса и поддается пересказу, что, на мой взгляд, вернейший признак отсутствия поэзии: ибо там, где обнаружена соизмеримость вещи с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала.
Дант – орудийный мастер поэзии, а не изготовитель образов. Он стратег превращений и скрещиваний, и меньше всего он поэт в «общеевропейском» и внешнекультурном значении этого слова.
Борцы, свивающиеся в клубок на арене, могут быть рассматриваемы как орудийное превращение и созвучие.
«…Эти обнаженные и лоснящиеся борцы, которые прохаживаются, кичась своими телесными доблестями, прежде чем сцепиться в решительной схватке…»
Между тем современное кино с его метаморфозой ленточного глиста оборачивается злейшей пародией на орудийность поэтической речи, потому что кадры движутся в нем без борьбы и только сменяют друг друга.
Вообразите нечто понятое, схваченное, вырванное из мрака, на языке, добровольно и охотно забытом тотчас после того, как совершился проясняющий акт понимания-исполнения…
В поэзии важно только исполняющее понимание – отнюдь не пассивное, не воспроизводящее и не пересказывающее. Семантическая удовлетворенность равна чувству исполненного приказа.
Смысловые волны-сигналы исчезают, исполнив свою работу: чем они сильнее, тем уступчивее, тем менее склонны задерживаться.
Иначе неизбежен долбеж, вколачиванье готовых гвоздей, именуемых «культурно-поэтическими» образами.
Внешняя, поясняющая образность несовместима с орудийностью.
Качество поэзии определяется быстротой и решимостью, с которой она внедряет свои исполнительские замыслы-приказы в безорудийную, словарную, чисто количественную природу словообразования. Надо перебежать через всю ширину реки, загроможденной подвижными и разноустремленными китайскими джонками, – так создается смысл поэтической речи. Его, как маршрут, нельзя восстановить при помощи опроса лодочников: они не расскажут, как и почему мы перепрыгивали с джонки на джонку.
Поэтическая речь есть ковровая ткань, имеющая множество текстильных основ, отличающихся друг от друга только в исполнительской окраске, только в партитуре постоянно изменяющегося приказа орудийной сигнализации.
Она прочнейший ковер, сотканный из влаги, – ковер, в котором струи Ганга, взятые как текстильная тема, не смешиваются с пробами Нила или Евфрата, но пребывают разноцветны – в жгутах, фигурах, орнаментах, но только не в узорах, ибо узор есть тот же пересказ. Орнамент тем и хорош, что сохраняет следы своего происхождения, как разыгранный кусок природы. Животный, растительный, степной, скифский, египетский – какой угодно, национальный или варварский, – он всегда говорящ, видящ, деятелен.
Орнамент строфичен.
Узор строчковат.
Великолепен стихотворный голод итальянских стариков, их зверский юношеский аппетит к гармонии, их чувственное вожделение к рифме – il disio![56]
Уста работают, улыбка движет стих, умно и весело алеют губы, язык доверчиво прижимается к нёбу.
Внутренний образ стиха неразлучим с бесчисленной сменой выражений, мелькающих на лице говорящего и волнующегося сказителя.
Искусство речи именно искажает наше лицо, взрывает его покой, нарушает его маску…
Когда я начал учиться итальянскому языку и чуть-чуть познакомился с его фонетикой и просодией, я вдруг понял, что центр тяжести речевой работы переместился: ближе к губам, к наружным устам. Кончик языка внезапно оказался в почете. Звук ринулся к затвору зубов. Еще что меня поразило – это инфантильность итальянской фонетики, ее прекрасная детскость, близость к младенческому лепету, какой-то извечный дадаизм.
Е consolando usava l’idioma
Che prima i padri e le madri trastulla;
…………………………………………………………
Favoleggiava con la sua famiglia
De Troiani, di Fiesole, e di Roma[57].
(Par., XV, 122–123, 125–126)
Угодно ли вам познакомиться со словарем итальянских рифм? Возьмите весь словарь итальянский и листайте его как хотите… Здесь все рифмует друг с другом. Каждое слово просится в concordanza[58].
Чудесно здесь обилие брачующихся окончаний. Итальянский глагол усиливается к концу и только в окончании живет. Каждое слово спешит взорваться, слететь с губ, уйти, очистить место другим.
Когда понадобилось начертать окружность времени, для которого тысячелетие меньше, чем мигание ресницы, Дант вводит детскую заумь в свой астрономический, концертный, глубоко публичный, проповеднический словарь.
Творенье Данта есть прежде всего выход на мировую арену современной ему итальянской речи – как целого, как системы.
Самый дадаистический из романских языков выдвигается на международное первое место.







