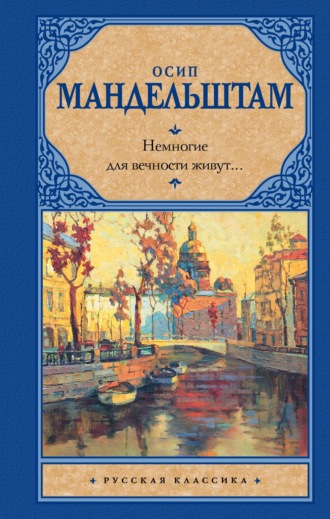
Осип Мандельштам
Немногие для вечности живут… (сборник)
Мадригал
Нет, не поднять волшебного фрегата:
Вся комната в табачной синеве –
И пред людьми русалка виновата –
Зеленоглазая, в морской траве!
Она курить, конечно, не умеет,
Горячим пеплом губы обожгла
И не заметила, что платья тлеет
Зеленый шелк и на полу зола…
Так моряки в прохладе изумрудной
Ни чубуков, ни трубок не нашли,
Ведь и дышать им научиться трудно
Сухим и горьким воздухом земли!
1913
«Черты лица искажены…»
Черты лица искажены
Какой-то старческой улыбкой:
Кто скажет, что гитане гибкой
Все муки Данта суждены?
1913
Автопортрет
В поднятьи головы крылатый
Намек – но мешковат сюртук;
В закрытьи глаз, в покое рук –
Тайник движенья непочатый;
Так вот кому летать и петь
И слова пламенная ковкость –
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть!
1914 (1913?)
Спорт
Румяный шкипер бросил мяч тяжелый,
И черни он понравился вполне.
Потомки толстокожего футбола:
Крокет на льду и поло на коне.
Средь юношей теперь – по старине –
Цветет прыжок и выпад дискобола,
Когда сойдутся, в легком полотне,
Оксфорд и Кембридж – две приречных школы!
Но только тот действительно спортсмен –
Кто разорвал печальной жизни плен:
Он знает мир, где дышит радость, пенясь…
И детского крокета молотки,
И северные наши городки,
И дар богов – великолепный теннис!
1913–1914
«Как овцы, жалкою толпой…»
Как овцы, жалкою толпой
Бежали старцы Еврипида.
Иду змеиною тропой,
И в сердце темная обида.
Но этот час уж недалек:
Я отряхну мои печали,
Как мальчик вечером песок
Вытряхивает из сандалий.
1914
Реймс и Кельн
…Но в старом Кельне тоже есть собор,
Неконченный и все-таки прекрасный,
И хоть один священник беспристрастный,
И в дивной целости стрельчатый бор!
Он потрясен чудовищным набатом,
И в грозный час, когда густеет мгла,
Немецкие поют колокола:
«Что сотворили вы над реймским братом!»
Сентябрь 1914
Немецкая каска
Немецкая каска, священный трофей,
Лежит на камине в гостиной твоей.
Дотронься, она, как игрушка, легка;
Пронизана воздухом медь шишака…
В Познани и в Польше не всем воевать –
Своими глазами врага увидать;
И, слушая ядер губительный хор,
Сорвать с неприятеля гордый убор!
Нам только взглянуть на блестящую медь
И вспомнить о тех, кто готов умереть!
1914
Polacy!
Поляки! Я не вижу смысла
В безумном подвиге стрелков!
Иль ворон заклюет орлов?
Иль потечет обратно Висла?
Или снега не будут больше
Зимою покрывать ковыль?
Или о Габсбургов костыль
Пристало опираться Польше?
И ты, славянская комета,
В своем блужданьи вековом,
Рассыпалась чужим огнем,
Сообщница чужого света!
1914
«В белом раю лежит богатырь…»
В белом раю лежит богатырь:
Пахарь войны, пожилой мужик.
В серых глазах мировая ширь:
Великорусский державный лик.
Только святые умеют так
В благоуханном гробу лежать,
Выпростав руки, блаженства в знак,
Славу свою и покой вкушать.
Разве Россия не белый рай
И не веселые наши сны?
Радуйся, ратник, не умирай:
Внуки и правнуки спасены!
Декабрь 1914
«Негодованье старческой кифары…»
Негодованье старческой кифары…
Еще жива несправедливость Рима,
И воют псы, и бедные татары
В глухих деревнях каменного Крыма.
О Цезарь, Цезарь, слышишь ли блеянье
Овечьих стад и смутных волн движенье?
Что понапрасну льешь свое сиянье,
Луна – без Рима жалкое явленье?
Не та, что ночью смотрит в Капитолий
И озаряет лес столпов холодных,
А деревенская луна, не боле,
Луна – возлюбленная псов голодных.
1915
«Какая вещая Кассандра…»
Какая вещая Кассандра
Тебе пророчила беду?
О будь, Россия Александра,
Благословенна и в аду!
Рукопожатье роковое
На шатком неманском плоту
…………………….
1915
«Не фонари сияли нам, а свечи…»
Не фонари сияли нам, а свечи
Александрийских стройных тополей.
Вы сняли черный мех с груди своей
И на мои переложили плечи.
Смущенная величием Невы,
Ваш чудный мех мне подарили вы!
Май 1916
Мадригал
Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!
Помоги мне в эту ночь
Солнце выручить из плена,
Помоги мне пышность тлена
Стройной песнью превозмочь,
Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!
1916
«Когда октябрьский нам готовил временщик…»
Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы
И ощетинился убийца-броневик
И пулеметчик низколобый –
Керенского распять потребовал солдат,
И злая чернь рукоплескала:
Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,
Чтоб сердце биться перестало!
И укоризненно мелькает эта тень,
Где зданий красная подкова,
Как будто слышу я в октябрьский тусклый день:
Вязать его, щенка Петрова!
Среди гражданских бурь и яростных личин,
Тончайшим гневом пламенея,
Ты шел бестрепетно, свободный гражданин,
Куда вела тебя Психея.
И если для других восторженный народ
Венки свивает золотые –
Благословить тебя в глубокий ад сойдет
Стопою легкою Россия!
Ноябрь 1917
«Кто знает? Может быть, не хватит мне свечи…»
Кто знает? Может быть, не хватит мне свечи –
И среди бела дня останусь я в ночи;
И, зернами дыша рассыпанного мака,
На голову мою надену митру мрака,
Как поздний патриарх в разрушенной Москве,
Неосвященный мир неся на голове –
Чреватый слепотой и муками раздора, –
Как Тихон – ставленник последнего собора!
Ноябрь 1917
Телефон
На этом диком страшном свете
Ты, друг полночных похорон,
В высоком строгом кабинете
Самоубийцы – телефон!
Асфальта черные озера
Изрыты яростью копыт,
И скоро будет солнце: скоро
Безумный петел прокричит.
А там дубовая Валгалла
И старый пиршественный сон;
Судьба велела, ночь решала,
Когда проснулся телефон.
Весь воздух выпили тяжелые портьеры,
На Театральной площади темно.
Звонок – и закружились сферы:
Самоубийство решено.
Куда бежать от жизни гулкой,
От этой каменной уйти?
Молчи, проклятая шкатулка!
На дне морском цветет: прости!
И только голос, голос-птица
Летит на пиршественный сон.
Ты – избавленье и зарница
Самоубийства, телефон!
Июнь 1918
«Всё чуждо нам в столице непотребной…»
Всё чуждо нам в столице непотребной:
Ее сухая черствая земля,
И буйный торг на Сухаревке хлебной,
И страшный вид разбойного Кремля.
Она, дремучая, всем миром правит,
Мильонами скрипучих арб она
Качнулась в путь – и полвселенной давит
Ее базаров бабья ширина.
Ее церквей благоуханных соты –
Как дикий мед, заброшенный в леса,
И птичьих стай густые перелеты
Угрюмые волнуют небеса.
Она в торговле хитрая лисица,
А перед князем – жалкая раба.
Удельной речки мутная водица
Течет, как встарь, в сухие желоба.
1918
«Где ночь бросает якоря…»
Где ночь бросает якоря
В глухих созвездьях Зодиака,
Сухие листья октября,
Глухие вскормленники мрака,
Куда летите вы? Зачем
От древа жизни вы отпали?
Вам чужд и странен Вифлеем,
И яслей вы не увидали.
Для вас потомства нет – увы,
Бесполая владеет вами злоба,
Бездетными сойдете вы
В свои повапленные гробы.
И на пороге тишины
Среди беспамятства природы
Не вам, не вам обручены,
А звездам вечные народы.
1918
Дом актера
Здесь, на твердой площадке яхт-клуба,
Где высокая мачта и спасательный круг,
У южного моря, под небом Юга,
Деревянный, пахучий строится сруб.
Это игра воздвигла стены.
Разве работать – не значит играть?
По свежим доскам широкой сцены
Какая радость впервые ступать!
Актер – корабельщик на палубе мира, –
И Дом актера – на волнах…
Никогда, никогда не боялась лира
Тяжелого молота в братских руках.
Кто сказал: художник – сказал: работник,
Воистину, правда у нас одна!
Единым духом жив и плотник,
И поэт, вкусивший святого вина.
А вам спасибо! И дни и ночи
Мы строили вместе, наш дом готов.
Под маской суровости скрывает рабочий
Высокую нежность грядущих веков.
Веселые стружки пахнут морем,
Корабль оснащен – в добрый путь!
Плывите же вместе к грядущим зорям,
Актер и рабочий, вам нельзя отдохнуть.
1920
Сыновья Аймона[13]
Пришли четыре брата, несхожие лицом,
В большой дворец-скворешник с высоким потолком.
Так сухи и поджары, что ворон им каркнет: брысь.
От удивленья брови у дамы поднялись:
«Вы, господа бароны, рыцари-друзья,
Из кающейся братьи, предполагаю я.
Возьмите что хотите из наших кладовых –
Из мяса или рыбы иль платьев шерстяных.
На радостях устрою для вас большой прием:
Мы милостыню Богу, не людям подаем.
Да хранит Он детей моих от капканов и ям,
В феврале будет десять лет, как я томлюсь по сыновьям». –
«Как это могло случиться?» – сказал Ричард с крутым лбом. –
«Я сама не знаю, сударь, как я затмилась умом.
Я отправила их в Париж, где льется вежливая молвь,
Им обрадовался Карл, почуяв рыцарскую кровь.
Королевский племянник сам по себе хорош,
Но бледнеет от злости, когда хвалят молодежь.
Должно быть, просто зависть к нему закралась в грудь,
Затеял с ними в шахматы нечистую игру.
Они погорячились, и беда стряслась –
Учили его, учили, пока не умер князь.
Потом коней пришпорили и скрылись в зеленях,
И с ними семьсот рыцарей, что толпились в сенях.
Спаслись через Меузу в Арденнской земле,
Выстроили замок, укрепленный на скале.
На все четыре стороны их выгнал из Франции Карл,
Аймон от них отрекся, сам себя обкорнал.
Он присягнул так твердо, как алмаз режет стекло,
Что у него останется одно ремесло –
Пока дням его жизни Господь позволит течь,
Четырем негодяям головы отсечь».
Когда Рено услышал, он вздрогнул и поник,
Княгиня прикусила свой розовый язык,
И вся в лицо ей бросилась, как муравейник, кровь.
Княгиня слышит крови старинный переплеск –
Лицо Рено меняется, как растопленный воск.
Тавро, что им получено в потешный турнир,
Ребяческая метка от молодых рапир.
У матери от радости в боку колотье:
«Ты – Рено, если не обманывает меня чутье.
Заклинаю тебя Искупителем по числу гвоздильных ран,
Если ты – Рено, не скрывай от меня иль продлить дай обман».
Когда Рено услышал, он стал совсем горбат,
Княгиня его узнала от головы до пят,
Узнала его голос, как пенье соловья, –
И остальные трое с ним тоже сыновья,
Ждут – словно три березки, чтоб ветер поднялся.
Она заговорила, забормотала вся:
«Дети, вы обнищали, до рубища дошли,
Вряд ли есть у вас слуги, чтоб вам помогли». –
«У нас четыре друга, горячие в делах, –
Все в яблоках железных, на четырех ногах».
Княгиня понимает по своему чутью
И зовет к себе конюха, мальчика Илью:
«Там стреножена лошадь Рено и три других,
Поставьте их в конюшнях светлых и больших
И дайте им отборных овсов золотых».
Илья почуял лошадь, кубарем летит,
Мигом срезал лестницы зеленый малахит.
Не жалеет горла, как в трубле Роланд,
И кричит баронам маленький горлан:
«Делать вам тут нечего, бароны, вчетвером,
Для ваших лошадей у нас найдется корм».
Как ласковая лайка на слепых щенят,
Глядит княгиня Айя на четырех княжат.
Хрустит душистый рябчик и голубиный хрящ –
Рвут крылышки на части так, что трещит в ушах;
Пьют мед душистых пасек и яблочный кларет
И темное густое вино – ублюдок старых лет.
Тем временем Аймона надвинулась гроза
И связанных ремнями борзых ведут назад,
Прокушенных оленей на кухню понесли
И слезящихся лосей в крови и пыли.
Гремя дубовой палкой, Аймон вернулся в дом
И видит у себя своих детей за столом.
Плоть нищих золотится, как золото святых,
Бог выдубил их кожу и в мир пустил нагих.
Каленые орехи не так смуглы на вид,
Сукно, как паутина, на плечах у них висит,
Где пятнышко, где родинка мережит и сквозит.
Начало «Федры»
(Расин)
– Решенье принято, час перемены пробил,
Узор Трезенских стен всегда меня коробил,
В смертельной праздности, на медленном огне,
Я до корней волос краснею в тишине:
Шесть месяцев терплю отцовское безвестье,
И дальше для меня тревога и бесчестье –
Не знать урочища, где он окончил путь.
– Куда же, государь, намерены взглянуть?
Я первый поспешил унять ваш страх законный
И переплыл залив, Коринфом рассеченный.
Тезея требовал у жителей холмов,
Где глохнет Ахерон в жилище мертвецов.
Эвлиду посетил, не мешкал на Тенаре,
Мне рассказала зыбь о рухнувшем Икаре.
Надежды ль новой луч укажет вам тропы
В блаженный край, куда направил он стопы?
Быть может, государь свое решенье взвесил
И с умыслом уход свой тайной занавесил,
И между тем как мы следим его побег,
Сей хладнокровный муж, искатель новых нег,
Ждет лишь любовницы, что, тая и робея…
– Довольно, Терамен, не оскорбляй Тезея…
«Опять войны разноголосица…»
Опять войны разноголосица
На древних плоскогорьях мира,
И лопастью пропеллер лоснится,
Как кость точеная тапира.
Крыла и смерти уравнение,
С алгебраических пирушек
Слетев, он помнит измерение
Других эбеновых игрушек,
Врагиню-ночь, рассадник вражеский
Существ коротких, ластоногих
И молодую силу тяжести:
Так начиналась власть немногих…
Итак, готовьтесь жить во времени,
Где нет ни волка, ни тапира,
А небо будущим беременно –
Пшеницей сытого эфира.
А то сегодня победители
Кладбище лёта обходили,
Ломали крылья стрекозиные
И молоточками казнили.
Давайте слушать грома проповедь,
Как внуки Себастьяна Баха,
И на востоке и на западе
Органные поставим крылья!
Давайте бросим бури яблоко
На стол пирующим землянам
И на стеклянном блюде облако
Поставим яств посередине.
Давайте всё покроем заново
Камчатной скатертью пространства,
Переговариваясь, радуясь,
Друг другу подавая брашна.
На круговом, на грозном судьбище
Зарею кровь оледенится,
В беременном глубоком будущем
Жужжит большая медуница.
А вам, в безвременьи летающим
Под хлыст войны за власть немногих –
Хотя бы честь млекопитающих,
Хотя бы совесть – ластоногих!
И тем печальнее, тем горше нам,
Что люди-птицы – хуже зверя
И что стервятникам и коршунам
Мы поневоле больше верим.
Как шапка холода альпийского,
Из года в год, в жару и в лето,
На лбу высоком человечества
Войны холодные ладони.
А ты, глубокое и сытое,
Забременевшее лазурью,
Как чешуя, многоочитое,
И альфа и омега бури, –
Тебе, чужое и безбровое,
Из поколенья в поколенье
Всегда высокое и новое
Передается удивленье.
«Жизнь упала, как зарница…»
Жизнь упала, как зарница,
Как в стакан воды ресница,
Изолгавшись на корню,
Никого я не виню…
Хочешь яблока ночного,
Сбитню свежего, крутого,
Хочешь, валенки сниму,
Как пушинку, подниму.
Ангел в светлой паутине
В золотой стоит овчине,
Свет фонарного луча
До высокого плеча.
Разве кошка, встрепенувшись,
Черным зайцем обернувшись,
Вдруг простегивает путь,
Исчезая где-нибудь…
Как дрожала губ малина,
Как поила чаем сына,
Говорила наугад,
Ни к чему и невпопад.
Как нечаянно запнулась,
Изолгалась, улыбнулась
Так, что вспыхнули черты
Неуклюжей красоты.
Есть за куколем дворцовым
И за кипенем садовым
Заресничная страна:
Там ты будешь мне жена.
Выбрав валенки сухие
И тулупы золотые,
Взявшись за руки, вдвоем
Той же улицей пойдем
Без оглядки, без помехи
На сияющие вехи –
От зари и до зари
Налитые фонари.
1925
«Мне кажется, мы говорить должны…»
Мне кажется, мы говорить должны
О будущем советской старины,
Что ленинское-сталинское слово –
Воздушно-океанская подкова,
И лучше бросить тысячу поэзий,
Чем захлебнуться в родовом железе,
И пращуры нам больше не страшны:
Они у нас в крови растворены.
Апрель – май 1925
«Мир начинался страшен и велик…»
Мир начинался страшен и велик:
Зеленой ночью папоротник черный –
Пластами боли поднят большевик –
Единый, продолжающий, бесспорный,
Упорствующий, дышащий в стене:
Привет тебе, скрепитель дальнозоркий
Трудящихся! Твой угольный, твой горький,
Могучий мозг – гори, гори стране!
Апрель – май 1925
«Ты должен мной повелевать…»
Ты должен мной повелевать,
А я обязан быть послушным.
На честь, на имя наплевать,
Я рос больным и стал тщедушным.
Так пробуй выдуманный метод
Напропалую, напрямик:
Я – беспартийный большевик,
Как все друзья, как недруг этот!
Май(?) 1935
Железо
Идут года железными полками,
И воздух полн железными шарами.
Оно бесцветное – в воде железясь,
И розовое, на подушке грезясь.
Железная правда – живой на зависть,
Железен пестик и железна завязь.
И железой поэзия в железе,
Слезящаяся в родовом разрезе.
22 мая 1935
«Мир должно в черном теле брать…»
Мир должно в черном теле брать:
Ему жестокий нужен брат.
От семиюродных уродов
Он не получит ясных всходов.
Июнь 1935
«Тянули жилы, жили-были…»
Тянули жилы, жили-были,
Не жили, не были нигде,
Бетховен и Воронеж – или
Один или другой – злодей.
На базе мелких отношений
Производили глухоту
Семидесяти стульев тени
На первомайском холоду.
В театре публики лежало
Не больше трех карандашей,
И дирижер, стараясь мало,
Казался чертом средь людей.
<Апрель> – май 1935
«Когда б я уголь взял для высшей похвалы…»
Когда б я уголь взял для высшей похвалы –
Для радости рисунка непреложной, –
Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно и тревожно.
Чтоб настоящее в чертах отозвалось,
В искусстве с дерзостью гранича,
Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось,
Ста сорока народов чтя обычай.
Я б поднял брови малый уголок,
И поднял вновь, и разрешил иначе:
Знать, Прометей разжег мой уголек, –
Гляди, Эсхил, как я рисуя плачу!
Я б несколько гремучих линий взял,
Всё моложавое его тысячелетье
И мужество улыбкою связал
И развязал в ненапряженном свете.
И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,
Какого, не скажу, то выраженье, близясь
К которому, к нему, – вдруг узнаешь отца
И задыхаешься, почуяв мира близость.
И я хочу благодарить холмы,
Что эту кость и эту кисть развили:
Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.
Хочу назвать его – не Сталин, – Джугашвили!
Художник, береги и охраняй бойца:
В рост окружи его сырым и синим бором
Вниманья влажного. Не огорчить отца
Недобрым образом иль мыслей недобором,
Художник, помоги тому, кто весь с тобой,
Кто мыслит, чувствует и строит.
Не я и не другой – ему народ родной –
Народ-Гомер хвалу утроит.
Художник, береги и охраняй бойца,
Лес человечества за ним идет, густея,
Само грядущее – дружина мудреца,
И слушает его всё чаще, всё смелее.
Он свесился с трибуны, как с горы, –
В бугры голов. Должник сильнее иска.
Могучие глаза решительно добры,
Густая бровь кому-то светит близко.
И я хотел бы стрелкой указать
На твердость рта – отца речей упрямых.
Лепное, сложное, крутое веко, знать,
Работает из миллиона рамок.
Весь – откровенность, весь – признанья медь
И зоркий слух, не терпящий сурдинки, –
На всех готовых жить и умереть
Бегут, играя, хмурые морщинки.
Сжимая уголек, в котором всё сошлось,
Рукою жадною одно лишь сходство клича,
Рукою хищною – ловить лишь сходства ось, –
Я уголь искрошу, ища его обличья.
Я у него учусь – не для себя учась,
Я у него учусь – к себе не знать пощады,
Несчастья скроют ли большого плана часть?
Я разыщу его в случайностях их чада…
Пусть недостоин я еще иметь друзей,
Пусть не насыщен я и желчью, и слезами,
Он всё мне чудится в шинели, в картузе,
На чудной площади с счастливыми глазами.
Глазами Сталина раздвинута гора
И вдаль прищурилась равнина.
Как море без морщин, как завтра из вчера –
До солнца борозды от плуга-исполина.
Он улыбается улыбкою жнеца
Рукопожатий в разговоре,
Который начался и длится без конца
На шестиклятвенном просторе.
И каждое гумно, и каждая копна
Сильна, убориста, умна – добро живое –
Чудо народное! Да будет жизнь крупна!
Ворочается счастье стержневое!
И шестикратно я в сознаньи берегу –
Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы –
Его огромный путь – через тайгу
И ленинский Октябрь – до выполненной клятвы.
Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там. Меня уж не заметят.
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, как солнце светит.
Правдивей правды нет, чем искренность бойца.
Для чести и любви, для воздуха и стали –
Есть имя славное для сильных губ чтеца,
Его мы слышали, и мы его застали.
1937
Проза
Шум времени
Музыка в Павловске
Я помню хорошо глухие годы России – девяностые годы, их медленное оползанье, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм – тихую заводь: последнее убежище умирающего века. За утренним чаем разговоры о Дрейфусе, имена полковников Эстергази и Пикара, туманные споры о какой-то «Крейцеровой сонате» и смену дирижеров за высоким пультом стеклянного Павловского вокзала, казавшуюся мне сменой династий. Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего, и, одно к одному, – девяностые годы слагаются в моем представлении из картин разорванных, но внутренне связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни.
Широкие буфы дамских рукавов, пышно взбитые плечи и обтянутые локти, перетянутые осиные талии, усы, эспаньолки, холеные бороды: мужские лица и прически, какие сейчас можно встретить разве только в портретной галерее какого-нибудь захудалого парикмахера, изображающей капули и «а-ля кок».
В двух словах – в чем девяностые годы. Буфы дамских рукавов и музыка в Павловске; шары дамских буфов и все прочее вращаются вокруг стеклянного Павловского вокзала, и дирижер Галкин в центре мира.
В середине девяностых годов в Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры двенадцатого года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царил Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз и навстречу ему тяжелые испарения буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы.
Вышло так, что мы сделались павловскими зимогорами, то есть круглый год на зимней даче жили в старушечьем городе, в российском полу-Версале, городе дворцовых лакеев, действительных статских вдов, рыжих приставов, чахоточных педагогов (жить в Павловске считалось здоровее) – и взяточников, скопивших на дачу-особняк. О, эти годы, когда Фигнер терял голос и по рукам ходили двойные его карточки: на одной половинке поет, а на другой затыкает уши, когда «Нива», «Всемирная новь» и «Вестники иностранной литературы», бережно переплетаемые, проламывали этажерки и ломберные столики, составляя надолго фундаментальный фонд мещанских библиотек!
Сейчас нет таких энциклопедий науки и техники, как эти переплетенные чудовища. Но эти «Всемирные панорамы» и «Нови» были настоящим источником познавания мира. Я любил «смесь» о страусовых яйцах, двуголовых телятах и праздниках в Бомбее и Калькутте, и особенно картины, большие, во весь лист: малайские пловцы, скользящие по волнам величиной с трехэтажный дом, привязанные к доскам; таинственный опыт господина Фуко: металлический шар и огромный маятник, скользящий вокруг шара, и толпящиеся кругом серьезные господа в галстуках и с бородками. Мне сдается, взрослые читали то же самое, что и я, то есть главным образом приложения, необъятную, расплодившуюся тогда литературу приложений к «Ниве» и проч. Интересы наши вообще были одинаковы, и я семи-восьми лет шел в уровень с веком. Все чаще и чаще слышал я выражение «fin de siècle», «конец века», повторявшееся с легкомысленной гордостью и кокетливой меланхолией. Как будто, оправдав Дрейфуса и расквитавшись с чертовым островом, этот странный век потерял свой смысл.
У меня впечатленье, что мужчины исключительно были поглощены делом Дрейфуса, денно и нощно, а женщины, то есть дамы с буфами, нанимали и рассчитывали прислуг, что подавало неисчерпаемую пищу приятным и оживленным разговорам.
На Невском, в здании костела Екатерины, жил почтенный старичок – père Лагранж. На обязанности этого преподобия лежала рекомендация бедных молодых французских девушек боннами к детям в порядочные дома. К père Лагранжу дамы приходили за советом прямо с покупками из Гостиного двора. Он выходил старенький, в затрапезной ряске, ласково шутил с детьми елейными католическими шутками, приправленными французским остроумием. Рекомендация père Лангранжа ценилась очень высоко.
Знаменитая контора по найму кухарок, бонн и гувернанток, на Владимирской улице, куда меня частенько прихватывали, походила на настоящий рынок невольников. Чаявших получить место выводили по очереди. Дамы их обнюхивали и требовали аттестаций. Аттестация совершенно незнакомой дамы, особенно генеральши, считалась достаточно веской, иногда же случалось, что выведенное на продажу существо, присмотревшись к покупательнице, фыркало ей в лицо и отворачивалось. Тогда выбегала посредница по торговле этими рабынями, извинялась и говорила об упадке нравов.
Еще раз оглядываюсь на Павловск и обхожу по утрам дорожки и паркеты вокзала, где за ночь намело на пол-аршина конфетти и серпантина, – следы бури, которая называлась «gala» или «бенефис». Керосиновые лампы переделывались на электрические. По петербургским улицам все еще бегали конки и спотыкались донкихотовские коночные клячи. По Гороховой до Александровского сада ходила «каретка» – самый древний вид петербургского общественного экипажа; только по Невскому, гремя звонками, носились новые, в отличие от грязно-бордовых, курьерские конки на крупных и сытых конях.







