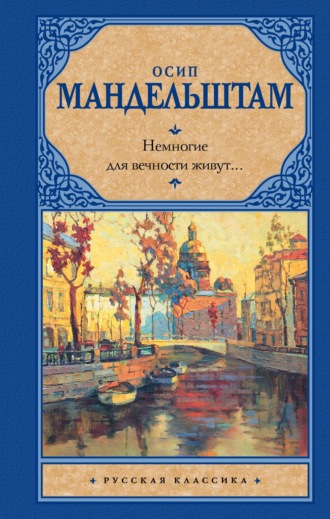
Осип Мандельштам
Немногие для вечности живут… (сборник)
Сергей Иваныч
Тысяча девятьсот пятый год – химера русской Революции, с жандармскими рысьими глазками и в голубом студенческом блине! Уже издалека петербуржцы тебя чуяли, улавливали цоканье твоих коней и ежились от твоих сквозняков в проспиртованных аудиториях Военно-медицинской или в длиннейшем «jeu de paume»[17] меншиковского университета, когда рявкнет, бывало, как рассерженный лев, будущий оратор-армянин на тщедушного с.-р. или с.-д. и вытянут птичьи шеи те, кому слушать надлежит. Память любит ловить во тьме, и в самой гуще мрака ты родился, миг, когда – раз, два, три – моргнул Невский длинными электрическими ресницами, погрузился в кромешную ночь и в самом конце перспективы из густого косматого мрака показалась химера с рысьими жандармскими глазками, в приплюснутой студенческой фуражке.
Для меня девятьсот пятый год в Сергее Иваныче. Много их было, репетиторов революции. Один из моих друзей, человек высокомерный, не без основания говорил: «Есть люди-книги и люди-газеты». Бедный Сергей Иваныч остался бы ни при чем при такой разбивке, для него пришлось бы создать третий раздел: есть люди-подстрочники. Подстрочники революции сыпались на него, шелестели папиросной бумагой в простуженной его голове, он вытряхивал эфирно-легкую нелегальщину из обшлагов кавалерийской своей, цвета морской воды, тужурки, и запрещенным дымком курилась его папироса, словно гильза ее была свернута из нелегальной бумаги.
Я не знаю, где и как Сергей Иваныч усваивал. Эта сторона его жизни для меня, по молодости лет, была закрыта. Но однажды он затащил меня к себе, и я увидел его рабочий кабинет, его спальню и лабораторию. Об эту пору мы с ним делали большую и величаво бесплодную работу: писали реферат о причинах паденья Римской империи. Сергей Иваныч залпами в одну неделю надиктовал мне сто тридцать пять убористых страниц клеенчатой тетрадки. Он не задумывался, не справлялся с источниками, он выпрядал, как паук, – из дымка папиросы, что ли, – липкую пряжу научной фразеологии, раскидывая периоды и завязывая узелки социальных и экономических моментов. Он был клиентом нашего дома, как и многих других. Не так ли римляне нанимали рабов-греков, чтобы блеснуть за ужином дощечкой с ученым трактатом? В разгаре означенной работы Сергей Иваныч привел меня к себе. Он проживал в сотых номерах Невского, за Николаевским вокзалом, где, откинув всякое щегольство, все дома, как кошки, серы. Я содрогнулся от густого и едкого запаха жилища Сергея Иваныча. Комната, надышанная и накуренная годами, вмещала в себе уже не воздух, а какое-то новое, неизвестное вещество, с другим удельным весом и химическими свойствами. И невольно пришла мне на память неаполитанская собачья пещера из физики. За все время, что он здесь жил, хозяин, очевидно, ничего не поднял и не переставил, как истинный дервиш относясь к расположению вещей, сбрасывая на пол навеки то, что ему оказалось ненужным. Дома Сергей Иваныч признавал лишь лежачее положение. Покуда Сергей Иваныч диктовал, я косился на каменноугольное его белье; каково же я удивился, когда Сергей Иваныч объявил перерыв и сварил два стакана великолепнейшего густого и ароматного шоколада. Оказалось, у него страсть к шоколаду. Варил он его мастерски и гораздо крепче, чем это принято. Какой отсюда вывод? Был ли Сергей Иваныч сибарит, или шоколадный бес завелся при нем, прилепившись к аскету и нигилисту? О, мрачный авторитет Сергея Иваныча, о, нелегальная его глубина, кавалерийская его куртка и штаны жандармского сукна! Его походка напоминала походку человека, которого только что схватили и ведут за плечо перед лицо грозного сатрапа, а он старается делать равнодушный вид. Ходить с ним по улице было одно удовольствие, потому что он показывал гороховых шпиков и нисколько их не боялся.
Я думаю, что сам он был похож на шпика – от постоянных ли размышлений об этом предмете, по закону ли мимикрии, коим птицы и бабочки получают от скалы свой цвет и оперенье. Да, в Сергее Иваныче было нечто жандармское. Он был брезглив, он был брюзга, рассказывал, хрипя, генеральские анекдоты, со вкусом и отвращением выговаривал гражданские и военные звания первых пяти степеней. Невыспавшееся и помятое, как студенческий блин, лицо Сергея Иваныча выражало чисто жандармскую брюзгливость. Ткнуть лицом в грязь генерала или действительного статского советника было для него высшим счастьем, полагая счастье математическим, несколько отвлеченным пределом.
Так, анекдот звучал в его устах почти теоремой. Генерал бракует по карточке все кушанья и заключает: «Какая гадость!» Студент, подслушав генерала, выспрашивает у него все его чины и, получив ответ, заключает: «И только? – Какая гадость!»
Где-то в Седлеце или в Ровно Сергей Иваныч, должно быть нежным мальчиком, откололся от административно-полицейской скалы. Мелкие губернаторы западного края были у него в родне, и сам он, уже революционный репетитор и одержимый шоколадным бесом, сватался к губернаторской дочке, очевидно тоже безвозвратно отколовшейся. Конечно, Сергей Иваныч не был революционер. Да останется за ним кличка: репетитор революции. Как химера, он рассыпался при свете исторического дня. По мере приближенья девятьсот пятого года и часа сгущалась его таинственность и нарастал мрачный авторитет. Он должен был выявиться, должен был во что-нибудь разрешиться – ну хоть показать револьвер из боевой дружины или дать другое вещественное доказательство своего посвящения в революцию.
И вот, в самые тревожные девятьсот пятые дни, Сергей Иваныч становится опекуном сладко и безопасно перепуганных обывателей и, зажмурившись, как кот, от удовольствия, приносит достоверные сведения о неминуемом в такой-то день погроме петербургской интеллигенции. Как член дружины, он обещает прийти с браунингом, гарантируя полную безопасность.
Мне довелось его встретить много позже девятьсот пятого года: он вылинял окончательно, на нем не было лица, до того стерлись и обесцветились его черты. Слабая тень прежней брюзгливости и авторитета. Оказалось, он устроился и служит ассистентом на Пулковской вышке в астрономической обсерватории.
Если бы Сергей Иваныч превратился в чистый логарифм звездных скоростей или функцию пространства, я бы не удивился: он должен был уйти из жизни, до того он был химера.
Юлий Матвеич
Пока Юлий Матвеич поднимался на пятый этаж, можно было несколько раз сбегать к швейцару и обратно. Его вели под руку с расстановками на площадках; в прихожей он останавливался и ждал, чтоб с него сняли шубу. Маленький, коротконогий, в стариковской шубе до пят, в тяжелой шапке, он пыхтел, пока его не освобождали от жарких бобров, и тогда садился на диван, протянув ножки, как ребенок. Появление его в доме означало или семейный совет, или замирение какой-нибудь домашней бучи. В конце концов, всякая семья государство. Он любил семейные неурядицы, как настоящий государственный человек любит политические затруднения; своей семьи у него не было, и нашу он выбрал для своей деятельности как чрезвычайно трудную и запутанную.
Буйная радость охватывала нас, детей, всякий раз, когда показывалась его министерская голова, до смешного напоминающая Бисмарка, нежно безволосая, как у младенца, не считая трех волосков на макушке.
На вопрос Юлий Матвеич издавал странный грудного тембра неопределенный звук, как бы извлеченный из трубы неумелым музыкантом, и лишь издав свой предварительный звук, начинал речь неизменным своим оборотом: «Я же вам говорил» – или: «Я вам всегда говорил».
Бездетный, беспомощно-ластоногий Бисмарк чужой семьи, Юлий Матвеич внушал мне глубокое сострадание.
Он вырос среди южных помещиков-дельцов, между Бессарабией, Одессой и Ростовом.
Сколько подрядов исполнено, сколько виноградных имений и конских заводов продано с участием грека-нотариуса в паршивых номерах кишиневских и ростовских гостиниц!
Все они, и нотариус-грек, и помещик-жох, и губернский секретарь – молдаванин, накинув белые балахоны, тряслись в холерную жару в бричках, на линейках с балдахином по трактам, по губернским мостовым. Там росла многоопытность и округлялся капитал, а с ним вместе и эпикурейство. Уже ручки и ножки отказывались служить и превращались в коротенькие ласты, и Юлий Матвеич, обедая с предводителем и подрядчиком в кишиневских и ростовских гостиницах, подзывал полового тем самым неопределенным трубным звуком, о котором упоминалось выше. Понемногу он превратился в настоящего еврейского генерала. Вылитый из чугуна, он мог бы служить памятником, но где и когда чугун передаст три бисмарковских волоска? Мировоззрение Юлия Матвеича сложилось в нечто мудрое и убедительное. Излюбленным его чтением были Меньшиков и Ренан. Странное на первый взгляд сочетание, но, если вдуматься, даже для члена Государственного совета нельзя было придумать лучшего чтения. О Меньшикове он говорил «умная голова» и подымал сенаторскую ручку, а с Ренаном был согласен решительно во всем, что касалось христианства. Юлий Матвеич презирал смерть, ненавидел докторов и в назиданье любил рассказывать, как он вышел невредимым из холеры. В молодости он ездил в Париж, а лет через тридцать после первой поездки, очутившись в Париже, ни за что не хотел идти ни в какой ресторан, а все искал какой-то «Кок-д’Ор», где его некогда хорошо накормили. Но «Кок-д’Ора» уже не было, оказался «Кок», да не тот, и нашли его еле-еле. Кушанье на карточке Юлий Матвеич принимался выбирать с видом гурмана, лакей не дышал в ожидании сложного и тонкого заказа, и тогда Юлий Матвеич разрешался чашкой бульона. Получить у Юлия Матвеича десять – пятнадцать рублей было дело нелегкое: он более часа проповедовал мудрость, эпикурейство и – «Я же вам говорил». Потом долго семенил по комнате, отыскивая ключи, хрипел и тыкался в потайные ящички.
Смерть Юлия Матвеича была ужасна. Он умер, как бальзаковский старик, почти выгнанный на улицу хитрой и крепкой гостинодворской семьей, куда перенес под старость свою деятельность домашнего Бисмарка и позволил прибрать себя к рукам.
Умирающего Юлия Матвеича выгнали из купеческого кабинета на Разъезжей и сняли ему комнатку в Лесном на маленькой дачке.
Небритый и страшный, он сидел с плевательницей и «Новым временем». Мертвые, синие щеки поросли грязной щетиной, в трясущейся руке он держал лупу и водил ею по строчкам газеты. Смертный страх отражался в пораженных катарактой темных зрачках. Прислуга поставила перед ним тарелку и сейчас же ушла, не спросив, чего ему нужно.
На похороны Юлия Матвеича съехалось чрезвычайно много почтенных и не знакомых друг с другом родственников, и племянник из Азовско-Донского банка семенил коротенькими ножками и покачивал тяжелой бисмаркской головой.
Эрфуртская программа
«Чего ты читаешь брошюры? Ну какой в них толк? – звучит у меня над ухом голос умнейшего В. В. Г. – Хочешь познакомиться с марксизмом? Возьми «Капитал» Маркса». Ну и взял, и обжегся, и бросил – вернулся опять к брошюрам. Ох, не слукавил ли мой прекрасный тенишевский наставник? «Капитал» Маркса – что «Физика» Краевича. Разве Краевич оплодотворяет? Брошюра кладет личинку – вот в этом ее назначенье. Из личинки же родится мысль.
Какая смесь, какая правдивая историческая разноголосица жила в нашей школе, где география, попыхивая трубкой «кэпстен», превращалась в анекдоты об американских трестах, как много истории билось и трепыхалось возле тенишевской оранжереи на курьих ножках и пещерного футбола!
Нет, русские мальчики не англичане, их не возьмешь ни спортом, ни кипяченой водой самодеятельности. В самую тепличную, в самую выкипяченную русскую школу ворвется жизнь с неожиданными интересами и буйными умственными забавами, как однажды она ворвалась в пушкинский Лицей.
Книжка «Весов» под партой, а рядом шлак и стальные стружки с Обуховского завода, ни слова, ни звука, как по уговору, о Белинском, Добролюбове, Писареве, зато Бальмонт в почете и недурные у него подражатели, и социал-демократ перегрызает горло народнику и пьет его эсеровскую кровь, напрасно тот призывает на помощь своих святителей – Чернова, Михайловского и даже… «Исторические письма» Лаврова. Все, что было мироощущеньем, жадно впитывалось. Повторяю: Белинского мои товарищи терпеть не могли за расплывчатость мироощущенья, а Каутского уважали, и наряду с ним протопопа Аввакума, чье «Житие» в павленковском изданьи входило в нашу российскую словесность.
Конечно, тут не без В. В. Г., формовщика душ и учителя для замечательных людей (только таких под рукой не оказалось). Но об этом впереди, а пока здравствуй и прощай Каутский, красная полоска марксистской зари!
Эрфуртская программа, марксистские Пропилеи, рано, слишком рано приучили вы дух к стройности, но мне и многим другим дали ощущенье жизни в предысторические годы, когда мысль жаждет единства и стройности, когда выпрямляется позвоночник века, когда сердцу нужнее всего красная кровь аорты! Разве Каутский Тютчев? Разве дано ему вызывать космические ощущенья («и паутинки тонкий волос дрожит на праздной борозде»)? А представьте, что для известного возраста и мгновенья Каутский (я называю его, конечно, к примеру, не он, так Маркс, Плеханов, с гораздо большим правом) тот же Тютчев, то есть источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущенья, мыслящий тростник и покров, накинутый над бездной.
В тот год в Зегевольде, на курляндской реке Аа стояла ясная осень, с паутинкой на ячменных полях. Только что пожгли баронов, и жестокая тишина после усмиренья поднималась от спаленных кирпичных служб. Изредка протараторит по твердой немецкой дороге двуколка с управляющим и стражником и снимет шапку грубиян латыш. В кирпично-красных, изрытых пещерами слоистых берегах германской ундиной текла романтическая речка, и бурги по самые уши увязли в зелени. Жители хранят смутную память о недавно утонувшем в речке Коневском. То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому не читаемый русской молодежью: он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень. И вот в Зегевольде, с Эрфуртской программой в руках, я, по духу, был ближе к Коневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков, потому что зримый мир с ячменями, проселочными дорогами, замками и солнечной паутиной я сумел населить, социализировать, рассекая схемами, подставляя под голубую твердь далеко не библейские лестницы, по которым всходили и опускались не ангелы Иакова, а мелкие и крупные собственники, проходя через стадии капиталистического хозяйства.
Что может быть сильнее, что может быть органичнее: я весь мир почувствовал хозяйством, человеческим хозяйством, – и умолкшие сто лет назад веретена английской домашней промышленности еще звучали в звонком осеннем воздухе! Да, я слышал с живостью настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталистический мир набухает, чтобы упасть!
Семья Синани
Когда я пришел в класс совершенно готовым и законченным марксистом, меня ожидал очень серьезный противник. Прислушавшись к самоуверенным моим речам, подошел ко мне мальчик, опоясанный тонким ремешком, почти рыжеволосый и весь какой-то узкий, узкий в плечах, с узким мужественным и нежным лицом, кистями рук и маленькой ступней. Выше губы, как огненная метка, у него был красный лишай. Костюм его мало походил на англосаксонский тенишевский стиль, а словно взяли старые-старые брючки и рубашонку, крепко-крепко с мылом постирали их в холодной речке, высушили на солнце и, не поутюжив, дали надеть. Посмотрев на него, всякий сказал бы: какая легкая кость! Но взглянув на лоб, скромно-высокий, подивился бы чуть раскосым, с зеленоватой усмешкой глазам и задержался бы на выраженьи маленького, горько-самолюбивого рта. Движенья его, когда нужно, были крупны и размашисты, как у мальчика, играющего в бабки, в скульптуре Федора Толстого, но он избегал резких движений, сохраняя меткость и легкость для игры; походка его, удивительно легкая, была босой походкой. Ему подошла бы овчарка у ног и длинная жердь: на щеках и на подбородке золотистый звериный пушок. Не то русский мальчик, играющий в свайку, не то итальянский Иоанн Креститель с чуть заметной горбинкой на тонком носу.
Он вызвался быть моим учителем, и я не покидал его, покуда он был жив, и ходил вслед за ним, восхищенный ясностью его ума, бодростью и присутствием духа. Он умер накануне прихода исторических дней, к которым он себя готовил, к которым готовила его природа, как раз тогда, когда овчарка готова была улечься у его ног и тонкая жердь предтечи должна была смениться жезлом пастуха. Звали его Борис Синани. Произношу это имя с нежностью и уваженьем. Он был сыном известного петербургского врача, лечившего внушеньем, – Бориса Наумовича Синани. Мать была русской, а Синани – караимы-крымчаки. Не отсюда ли двойственность его облика: и новгородский русский мальчик, и нерусская горбинка, и золотистый пушок кожи крымского чабана с Яйлы. Борис Синани, с первых же дней своего сознательного существования и по традициям крепкой и чрезвычайно интересной семьи, считал себя избранным сосудом русского народничества. Мне кажется, в народничестве его прельщала не теория, а скорее душевный строй. В нем чувствовался реалист, готовый в нужную минуту отбросить все рассужденья ради действия, но пока что его юношеский реализм, не заключавший в себе ничего плоского и мертвящего, был пленителен и дышал врожденной духовностью и благородством. Борис Синани умелой рукой снял с моих глаз катаракту, скрывавшую, по его мнению, от меня аграрный вопрос. Синани жили на Пушкинской улице, против гостиницы «Пале-Рояль». Это была могучая по силе интеллектуального характера, переходящего в выразительную примитивность, семья. На Пушкинской доктор Борис Наумович Синани жил, очевидно, уже давно. Седой швейцар питал безграничное уважение ко всему семейству, начиная от свирепого психиатра Бориса Наумовича, кончая маленькой горбуньей Леночкой. Никто без трепета не переступал порог этого жилища, так как Борис Наумович сохранял за собой право выгнать человека, который ему не понравится, будь то пациент или просто гость, который скажет глупость. Борис Наумович Синани был врач и душеприказчик Глеба Успенского, друг Николая Константиновича Михайловского, впрочем далеко не всегда ослепленный его личностью, и советник и наперсник тогдашних эсеровских цекистов.
С виду он был коренастый караим, сохраняя даже караимскую шапочку, с жестким и необычайно тяжелым лицом. Не всякий мог выдержать его зверский, умный взгляд сквозь очки, зато, когда он улыбался в курчавую редкую бороду, улыбка его была совсем детская и очаровательная. Кабинет Бориса Наумовича был под строжайшим запретом. Там, между прочим, висела его эмблема и эмблема всего дома, портрет Щедрина, глядящий исподлобья, нахмурив густые губернаторские брови и грозя детям страшной лопатой косматой бороды. Этот Щедрин глядел вием и губернатором и был страшен, особенно в темноте. Борис Наумович был вдов упрямым волчьим вдовством. Жил он с сыном и двумя дочерьми, старшей, косоглазой, как японка, Женей, очень миниатюрной и изящной, и маленькой горбатой Леной. Пациентов у него было немного, но он держал их в рабьем страхе, особенно пациенток. Несмотря на грубость его обхожденья, они дарили ему вышитые лодочки и туфли. Он жил, как лесник в сторожке, в кожаном кабинете под щедринской бородой, и со всех сторон его окружали враги: мистика, глупость, истерия и хамство: с волками жить – по-волчьи выть.
Авторитет Михайловского, в кругу даже значительных людей того времени, был очевидно громаден, и Борис Наумович вряд ли с этим легко мирился. Как ярый рационалист, в силу рокового противоречия, он сам нуждался в авторитете и невольно чтил авторитеты и мучился этим. Когда случались неожиданные крутые повороты политической или общественной жизни, в доме всегда подымался вопрос, что скажет Николай Константинович: через некоторое время у Михайловского действительно собирался сенат «Русского богатства» и Николай Константинович изрекал. Старик Синани в Михайловском ценил именно эти изречения. Вот как располагалась скала его уваженья к деятелям тогдашнего народничества. Михайловский хорош как оракул, но публицистика его – вода, и человек он не почтенный. Михайловского он, в конце концов, не любил. За Черновым признавал сметку и мужицкий аграрный ум. Пешехонова считал тряпкой. К Мякотину питал нежность, как к Вениамину. Ни с кем из этих он не считался серьезно. По-настоящему он уважал эсеровского цекиста, старика Натансона. Два-три раза седой и лысый Натансон, похожий на старого доктора, открыто для нас, детей, приходил беседовать к Борису Наумовичу. Восторженный трепет и гордая радость не имели границ: в доме был цекист.
Порядок домоводства, несмотря на отсутствие хозяйки, был строг и прост, как в купеческой семье. Чуть-чуть хозяйничала горбатенькая девочка Лена; но такова была стройная воля в доме, что дом сам собой держался.
Я знал, что делал у себя в кабинете Борис Наумович: он сплошь читал вредные ерундовые книги, исполненные мистики, истерии и всяческой патологии; он боролся с ними, разделывался, но не мог от них оторваться и возвращался к ним опять. Посади его на чистый позитивистский корм – и старик Синани сразу бы осунулся. Позитивизм хорош для рантье, он приносит свои пять процентов прогресса ежегодно. Борису Наумовичу нужны были жертвы во славу позитивизма. Он был Авраамом позитивизма и, не задумываясь, пожертвовал бы ему собственным сыном.
Однажды за чайным столом кто-то упомянул о состояньи после смерти, и Борис Наумович удивленно поднял брови: «Что такое? Помню я, что было до рожденья? Ничего не помню, ничего не было. Ну и после смерти ничего не будет».
Его базаровщина переходила в древнегреческую простоту. И даже одноглазая кухарка заражена была общим строем.
Главной особенностью дома Синани было то, что я назвал бы эстетикой ума. Обычно позитивизму чуждо эстетическое любованье, бескорыстная гордость и радость умственных движений. Для этих же людей ум был одновременно радостью, здоровьем, спортом и почти религией. Между тем круг умственных интересов был весьма ограничен, поле зрения сужено, и, в сущности, жадный ум глодал скудную пищу: вечные споры с.-д. и с.-р., роль личности в истории, пресловутая гармоническая личность Михайловского, аграрная травля с.-д., – вот и весь небогатый круг. Скучая этой домашней мыслью, Борис зачитывался судебными речами Лассаля, чудесно построенными, прелестными и живыми, – это была уже чистая эстетика ума и настоящий спорт. И вот, в подражание Лассалю, мы увлеклись спортом красноречия, ораторской импровизацией ad hoc. Особенно в ходу были аграрные филиппики по предполагаемой эсдековской мишени. Некоторые из них, произнесенные в пустоту, были прямо блестящи. Я сейчас помню, как Борис, мальчиком, на одной сходке забил и вогнал в пот старого опытного меньшевика Клейнборта, сотрудника толстых журналов. Клейнборт только отдувался и вопросительно оглядывался: умственное изящество спорщика, видимо, казалось ему неожиданным и новым орудием спора. Разумеется, все это лишь было демосфеновым камушком, но не дай бог никакой молодежи таких учителей, как Н. К. Михайловский! Что это за водолей! Что это за маниловщина! Пустопорожняя, раздутая трюизмами и арифметическими выкладками болтовня о гармонической личности, как сорная трава, лезла отовсюду и занимала место живых и плодотворных мыслей.
По конституции дома тяжелый старик Синани не смел заглядывать в комнату молодежи, называвшуюся розовой комнатой. Розовая комната соответствовала диванной из «Войны и мира». Из посетителей розовой комнаты – их было очень немного – мне запомнилась некая Наташа, нелепое и милое созданье. Борис Наумович терпел ее как домашнюю дуру. Наташа была по очереди эсдечкой, эсеркой, православной, католичкой, эллинисткой, теософкой с разными перебоями. От частой перемены убеждений она преждевременно поседела. Будучи эллинисткой, она напечатала роман из жизни Юлия Цезаря на римском курорте Байи, причем Байи поразительно смахивали на Сестрорецк. (Наташа была здорово богата.)
В розовой комнате, как во всякой диванной, происходил сумбур. Из чего составлялся сумбур означенной диванной начала текущего века? Скверные открытки – аллегории Штука и Жукова, «открытка-сказка», словно выскочившая из Надсона, простоволосая, с закрученными руками, увеличенная углем на большом картоне. «Чтецы-декламаторы», всякие «Русские музы» с П. Я. Михайловым и Тарасовым, где мы добросовестно искали поэзии и все-таки иногда смущались. Очень много внимания Марку Твену и Джерому (самое лучшее и здоровое из всего нашего чтенья). Дребедень разных «Анатэм», «Шиповников» и сборников «Знания». Все вечера загрунтованы смутной памятью об усадьбе в Луге, где гости опять на полукруглых диванчиках в гостиной и орудуют сразу шесть бедных теток. Затем еще дневники, автобиографические романы: не достаточно ли сумбура?
Родным человеком в доме Синани был покойный Семен Акимыч Анский, то пропадавший по еврейским делам в Могилеве, то заезжавший в Петербург, ночуя под Щедриным, без права жительства. Семен Акимыч Анский совмещал в себе еврейского фольклориста с Глебом Успенским и Чеховым. В нем одном помещалась тысяча местечковых раввинов – по числу преподанных им советов, утешений, рассказанных в виде притч, анекдотов и т. д. В жизни Семену Акимычу нужен был только ночлег и крепкий чай. Слушатели за ним бегали. Русско-еврейский фольклор Семена Акимыча в неторопливых, чудесных рассказах лился густой медовой струей. Семен Акимыч, еще не старик, дедовски состарился и сутулился от избытка еврейства и народничества: губернаторы, торы, погромы, человеческие несчастья, встречи, лукавейшие узоры общественной деятельности в невероятной обстановке минских и могилевских сатрапий, начертанные как бы искусной гравировальной иглой. Все сохранил, все запомнил Семен Акимыч – Глеб Успенский из талмуд-торы. За скромным чайным столом, с мягкими библейскими движениями, склонив голову набок, он сидел, как еврейский апостол Петр на вечере. В доме, где все тыкались в истукана Михайловского и щелкали аграрный орех-крепкотук, Семен Акимыч казался нежной геморроидальной психеей.
В ту пору в моей голове как-то уживались модернизм и символизм с самой свирепой надсоновщиной и стишками из «Русского богатства». Блок уже был прочтен, включая «Балаганчик», и отлично уживался с гражданскими мотивами и всей этой тарабарской поэзией. Он не был ей враждебен, ведь он сам из нее вышел. Толстые журналы разводили такую поэзию, что от нее уши вяли, а для чудаков, неудачников, молодых самоубийц, для поэтических подпольщиков, очень мало разнившихся от домашних лириков «Русского богатства» и «Вестника Европы», сохранялись преинтереснейшие лазейки.
На Пушкинской, в очень приличной квартире, жил бывший немецкий банкир, по фамилии Гольдберг, редактор-издатель журнальчика «Поэт».
Гольдберг, обрюзглый буржуа, считал себя немецким поэтом и вступал со своими клиентами в следующее соглашение: он печатал их стихи безвозмездно в журнале «Поэт», а за это они должны были выслушивать его, Гольдберга, сочинения немецкую философскую поэму под названием «Парламент насекомых» – по-немецки, а в случае незнания языка – в русском переводе.
Всем своим клиентам Гольдберг говорил: «Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше». Особенно он дорожил одним мрачным поэтом, которого считал самоубийцей. Составлять номера Гольдбергу помогал наемный юноша, небесно-поэтической наружности. Этот старый банкир-неудачник с шиллерообразным своим помощником (он же переводчик «Парламента насекомых» на русский язык) бескорыстно трудился над милым уродливым журналом. Толстым пальцем Гольдберга водила странная банкирская муза. Состоявший при нем Шиллер, видимо, его морочил. Впрочем, в Германии в хорошие времена Гольдберг отпечатал полное собрание своих сочинений и сам мне его показывал.
Как глубоко понимал Борис Синани сущность эсерства и до чего он его, внутренне, еще мальчиком перерос, доказывает одна пущенная им кличка: особый вид людей эсеровской масти мы называли «христосиками» – согласитесь, очень злая ирония. «Христосики» были русачки с нежными лицами, носители «идеи личности в истории», – и в самом деле многие из них походили на нестеровских Иисусов. Женщины их очень любили, и сами они легко воспламенялись. На политехнических балах в Лесном такой «христосик» отдувался и за Чайльд-Гарольда, и за Онегина, и за Печорина. Вообще революционная накипь времен моей молодости, невинная «периферия», вся кишела романами. Мальчики девятьсот пятого года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары: то был вопрос влюбленности и чести. И тем, и другим казалось невозможным жить не согретыми славой своего века, и те, и другие считали невозможным дышать без доблести. «Война и мир» продолжалась, – только слава переехала. Ведь не с семеновским же полковником Мином и не с свитскими же генералами в лакированных сапогах бутылками была слава! Слава была в ц. к., слава была в б. о., и подвиг начинался с пропагандистского искуса.
Поздняя осень в Финляндии, глухая дача в Райволе. Все заколочено, калитки забиты, псы волкодавы ворчат возле пустых дач. Осенние пальто и старенькие пледы. Жар керосиновой лампы на холодном балконе. Лисья мордочка молодого Т., живущего отраженной славой отца-цекиста. Не хозяйка, а робкое, чахоточное существо, которому даже не позволено глядеть в лицо гостям. По одному из дачной темени подходят в английских пальто и котелках. Смирно сидеть, наверх не ходить. Проходя через кухню, приметил большую стриженую голову Гершуни.
«Война и мир» продолжается. Намокшие крылья славы бьются в стекло: и честолюбие, и та же жажда чести! Ночное солнце в ослепшей от дождя Финляндии, конспиративное солнце нового Аустерлица! Умирая, Борис бредил Финляндией, переездом в Райволу и какими-то веревками для упаковки клади. Здесь мы играли в городки, и, лежа на финских покосах, он любил глядеть на простые небеса холодно удивленными глазами князя Андрея.
Мне было смутно и беспокойно. Все волненье века передавалось мне. Кругом перебегали странные токи – от жажды самоубийства до чаяния всемирного конца. Только что мрачным зловонным походом прошла литература проблем и невежественных мировых вопросов, и грязные, волосатые руки торговцев жизнью и смертью делали противным самое имя жизни и смерти. То была воистину невежественная ночь! Литераторы в косоворотках и черных блузах торговали, как лабазники, и богом, и дьяволом, и не было дома, где бы не бренчали одним пальцем тупую польку из «Жизни человека», сделавшуюся символом мерзкого, уличного символизма. Слишком долго интеллигенция кормилась студенческими песнями. Теперь ее тошнило мировыми вопросами: та же самая философия от пивной бутылки!







