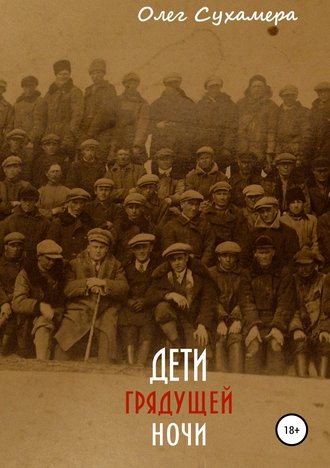
Олег Сухамера
Дети грядущей ночи
Глава третья
Стась
(1942)
Командирская землянка ничем не отличалась от прочих: та же самодельная печь «буржуйка» в углу, стены, обшитые худыми болотными сосенками, под настилом потолочных бревен – керосиновая германская лампа с летучей мышью на изогнутом стекле. Импровизированный стол, сделанный отрядными умельцами из тонкого березняка, перевязанного стальной проволокой, отжатой у немца в одной из коротких, но обидных для оккупанта стычек.
В темном углу скудно освещенного спартанского жилища среди многочисленных теней от пляшущих печных огоньков с трудом можно было различить фигуру человека, внимательно разглядывающего разрисованную цветными карандашами самодельную карту.
Фигура сама напоминала тень: сплошные острые углы. И перемещения ее в тесном пространстве, плавные, без лишнего шума и суеты, присущи были скорее бесплотному духу, чем человеку из мяса и костей. Эти спокойные движения наводили на мысль, что человек вполне уверен в себе, и его обманчивая плавность – это мягкость тигра, готового в любой момент взвиться пружиной и в доли секунды нанести один, но точный смертельный удар.
Человек щурился, поправляя круглые очки-велосипед. Волевое лицо его было бесстрастно, лишь по шевелению поджатых тонких губ и редким задумчивым почесываниям гладко выбритого черепа, можно было сделать вывод, что он напряженно думает, и от дум его зависит, как сложится судьба очень и очень многих людей.
За укутавшим двери шинельным сукном, не дающим теплу землянки выскользнуть на морозную стужу, кто-то неуверенно поскребся, затопал, сметая остатки снега с валенок березовым веником, тактично, давая время хозяину подготовиться к визиту. Гость даже слегка покашлял, как бы испрашивая разрешения войти, но мялся, все еще не решаясь постучать в дверь.
– Заходи, Войцех, – человек в землянке бесшумно, по-кошачьи, переместился изугла за стол.
Двери приоткрылись, в облаках морозного пара нарисовался поджарый мужичок лет сорока. Он привычно поправил модные довоенные усики, сощурил хитрые глазки, пытаясь скрыть смущение. На лице его было написано, что он безмерно уважает и слегка побаивается командира, хотя сам – парень лихой и не робкого десятка.
– Батька Булат, вот всегда удивляюсь, откуда ты знаешь, кто там за дверями, – Войцех улыбнулся, как ему казалось, широко и открыто. На самом деле на лице деревенского хитрована читалось все что угодно, кроме простоты. Чертики в глазах выдавали и крестьянскую смекалку, и веками воспитанную хитрость, и житейскую мудрость, решительность, и готовность к риску – все те качества, которые необходимы толковому партизану. К слову, в послужном списке «простачка» были блестящие тактические операции, слухи о которых обросли такими подробностями в отрядной среде, что давно превратились в легенды.
– Ты правой ногой загребаешь при ходьбе, – командир снял очки и прицелился цепким взглядом прямо в переносье Войцеха. – И не называй меня батька, за глаза – терплю, а для тебя я Станислав Янович или господин генерал, как больше нравится.
– Ну, дык… – смущенно загреб в затылке матерый диверсант, окончательно утратив дар речи.
– Ладно. Не заморачивайся, присядь. Знаю, не чаи пришел гонять. Докладывай.
Войцех засопел, устраиваясь на неудобной лавке, бросил рядом с собой заиндевелые рукавицы и заговорил распевными интонациями жителей Западной Беларуси.
– Станислав Янович, такое дело, выследили мы этих махновцев, что в нашей зоне крестьян грабят. Банда – двенадцать человек, уголовнички еще с царских времен. Народу порешили, твари, мама не горюй. Схрон у них на полуострове, пятнадцать кэмэ по болоту. Хорошо, что зима, и Лешка Тропейко все ходы знает, иначе потопли бы.
– Понял. Молодцы. Эта сволочь мирных людей терроризировала, из-за них и наш отряд в бандиты зачислили. А мы, считай, ополчение. Ни немцы сюда не сунутся, ни красные, ни прочая какая сволочь. Если крестьянин в нас разбойника будет видеть, помрем тут с голодухи, а если защитника – поддержит чем сможет. Чувствуешь разницу?
– Угу. Я ребятам разъясняю. Мне не надо за идеи разжевывать. Мы за то, чтоб шею на чужого дядю не гнуть, чтоб по справедливости было, и свобода была наша, а не сверху дозволенная. Мы, как репей, каждой суке – награда. Так вот. Пошинковали мы этих гавриков в капусту, больше людей жечь и скотину у одиноких уводить не будут.
– Хорошая новость. Но ведь не все у тебя? Правильно понимаю?
– Ну… – замялся Войцех. – Тут до нас новость дошла. Из самого Минска. Короче, не буду задом крутить, Станислав Янович, немцы твоим именем улицу назвали. Ребята растерялись. Вот просили разжевать, за какие такие заслуги, когда мы их пачками тут лупим?
Суровое лицо генерала разгладилось, в стальном взгляде заплясали веселые искорки.
– Ну, вот! По вкусу, видимо, наши гостинцы пришлись. Dobre daleko słychać, a złe jeszcze dalej. Это признание, Войцех, – командир широко улыбнулся и привычно потянулся за кисетом с ароматным самосадом, прятавшимся где-то изнутри серого армейского камзола со следами споротых нашивок. Тонкие пальцы быстро замелькали, сооружая две самокрутки. – Немцы меня в тридцать девятом в битве под Кутно похоронили, вот и создают из покойника удобную им икону. Только улицу им еще раз переименовывать придется. Слухи, увы, как ворона падаль, нужные уши находят быстро. Так что передай парням, чтоб не огорчались, а фашистам устроим хорошую взбучку за самодеятельность, вот и вся недолга. Посыл их нехитрый, – Стас пустил к низкому потолку густую струю дыма, – показать, что они, вроде как тоже за независимость народной республики. Только мы такой «незалежности» и при коммуняках, и при Николашке вдоволь нахлебались. Поэтому сами как-нибудь за свою свободу повоюем, это наше святое дело. Как думаешь?
– Думаю, что зерно между двух жерновов в муку перемелется. Под Богом ходим, – хмуро заметил Войцех.
– А мы не зерно. Мы, Войцех, тот камень, который эти жернова сломать может. Или так, или никак. Сами такой путь выбрали. Чего горевать? Ты же говоришь, только Господь знает, что будет завтра. Dla chcącego nic trudnego.
– Все правильно. Я так парням и растасую, – Войцех тяжело поднялся с лавки, на мгновение замер, делая вид, что собирается выходить, хитро прищурился в предвкушении эффекта оставленного им на закуску разговора. Рассеянно, будто походя, обронил, – а, это… Мы ж главного этих урок в плен взяли. Матерый гад, у него в схроне персональный потайной лаз был. Только на хитрую задницу всегда есть хитрый гвоздь в лавке! Взяли теплым, сволочь! Посмотреть не желаете?
– Отчего ж нет. А то я сижу и думаю, кого там Мироныч и Курдеко на морозе рядом с землянкой маринуют?
Лицо Войцеха удивленно вытянулось. Нервно погладил холеные усики:
– Перекреститься иногда хочется, батька… ой, господин генерал. Откуда?!
– Мне по чину положено сквозь стены видеть, так и считай, – Стас, удовлетворенный произведенным впечатлением, вскинул бритую голову кверху и сказал требовательно, громко, чтобы слышно было за дверями жилища. – Введите пленного!
В низенький проем втолкнули тело изможденного бледного человека. Обессиленный, тот упал на колени, да так и остался полусидеть на земляном полу, опустив долу седую косматую голову.
Стас внимательно рассматривал безвольный куль тела. Ничто в этой куче тряпья не выдавало кровососа и жуткого убийцу, запугавшего местных бессмысленной и беспощадной жестокостью. Вот он, тот самый Призрак, описать которого могли лишь те, кто по случайности остался в живых после его ночных налетов и грабежей. Банда Призрака не жалела ни старого, ни малого. Насиловала, жгла, глумилась, обирая всех подчистую, пользуясь военным безвластием и безнаказанностью.
Бойцы сопели, переминаясь с ноги на ногу, ждали, что скажет батька. Стас же рассматривал безвольно обвисшего мужика и думал, что в мутной воде чрезвычайных обстоятельств обязательно заводятся вот такие, легкие на расправу, жадные до издевательств, быстрые, хватающие судьбу за мелькающий подол и бесстыдно насилующие ее сообразно своей извращенной фантазии, не имеющей ничего общего с чем-то человеческим. Как вши из грязи выводятся такие существа, чтобы пить кровь и делать и без того нелегкую жизнь военного времени хуже, страшнее, отвратительнее.
– Поднимите.
Коренастый Курдеко с ловкостью бывшего ветеринара, привычного к обращению с бессловесной скотиной, вздернул Призрака за шиворот кверху, будто невесомую тряпичную куклу.
Призрак был бледен и красив. Руки гладкие, никогда не знавшие труда, покрытые рыжим пушком волос, серый волчий позирк из-под кустистых бровей.
– Стоп. Взгляд! – внутри батьки Булата сработала какая-то пружина, заставившая биться сердце в ускоренном темпе, точно так же, как на Висле в четырнадцатом или в битве под Оршей в восемнадцатом, и под Мозырем, когда шансы выйти из окружения были мизерными.
Стас никак не показал своих чувств, но где-то глубоко внутри садануло холодом, злорадно зашевелился проснувшийся бес: лицо страшного Призрака не должно, не могло быть таким, но…
Пленник затравленно зыркнул на Станислава, видимо, тоже признав, презрительно сплюнул на пол:
– Вот и свиделись, Марута. Привет, брат.
– Свиделись. Факт… – Станислав медленно подошел к избитому человеку и, неожиданно для всех, обнял его. Призрак, нервно сглотнул, он ожидал всего чего угодно – побоев или даже пыток, а тут…
– Серега. Что ж ты… Как же так? – горько шепнул на ухо пленному батька Булат. – Почти рад тебя видеть. Что сейчас? Хочешь, что б отпустил тебя, родную кровь?
– Не стоит… Ты ж Призрака поймал, не брата. Это совсем другой расклад, – Призрак слегка улыбнулся разбитыми губами.
Станислав, почуял, как жгучая боль в сердце ядом разливается по всему телу. В отчаянии сжал могучие объятия так, будто хотел выдавить весь воздух из высокой фигуры пленника.
– Гаси. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Самому надоело, – без интонаций, мертвецки прохрипел Сергей.
– Как скажешь, – Станислав разжал руки и отвернулся к бревенчатой стене, чтобы бойцы не смогли увидеть охватившее его смятение. Нарочито буднично, без эмоций, бросил через плечо: – а повесьте-ка его, парни, где-нибудь на краю той деревни, где эта сволочь покуражилась.
– То дело! Ты извини, батька, но его счастье, что не узнал я командира своего бывшего. За один только лагерь, что мы с Булатом в восемнадцатом вляпались, на куски порвал бы. – прошипел в ухо пленнику Войцех.
Ноги у Призрака подкосились, но он не упал на пол, а лишь чуть крутнулся, испытывая силу цепких рук Курдеко.
– Вот как… Только, знай, Стась. Нет на мне чистой крови. За свои дела отвечу. Чужое не потяну.
Стас брезгливо поморщился.
– Я, может, и поверю. Ты им объясни, как ты, такой хороший, над бабами да детишками лютовал.
– Не я. Долгая песня. Все равно не поверишь. …А, ладно! Все равно помирать. Почему б не сейчас… Мерзкая погода – самое время сдохнуть. Только… Ты. Брат! Как жить с этим будешь?
– Мои проблемы, Сергей. Стася еще в гражданскую три раза убило. Нет его. Только батька Булат остался. ОН сейчас решает, – Стас холодно, словно речь шла о хозяйственном мусоре, приказал: – «это» утром вздернуть. Собрать местных, чтоб видели. Всех!
Призрак неожиданно, с видимым облегчением, не то рассмеялся, не то зарыдал, выпрямился во весь немаленький рост и – вдруг – подмигнул брату совершенно по-детски, озорно и задорно:
– Зрелище надо… Урок. Отличная идея. Значит, расстрелять слабо? Может, по-родственному? А, Стась?
Батька демонстративно отвернулся, всем видом давая понять, что с покойниками переговоры не ведутся.
– Чего встали? Мне два раза повторять?!
– Есть! – Войцех довольно вздернул вверх связанные руки пленника, да так, что хрустнули кости.
Больной, пронзительный взгляд командира вышвырнул визитеров наружу. Озадаченные странной сценой, бойцы суетливо выпихнули Призрака из лесного жилища и поволокли в яму, вырытую специально для подобных случаев.
Станислав Вашкевич, Стась, ныне батька Булат, остался один на один с невидимым для всех личным врагом. Воспоминания прошлого ручьем боли неожиданно просочились сквозь глыбы и нагромождения памяти, размывая пласты более поздних и более серьезных событий. Водоворот забытого, исполняя смертельное фуэте, все быстрее и быстрее завертелся картинками и мгновенно усилился до бурного мутного потока, сдирая мозоли на очерствевшей по войнам душе.
Толстый лед разумного взломался под натиском эмоций, позабытое выстрелило наверх мутным гейзером, и память понеслась в тартарары, оставляя после себя только смятение и хаос, буравя в сознании парящие кровью болезненные борозды, в которых, беспомощно захлебываясь, тонул полуживой младенчик совести.
Батька Булат сгорбился, вмиг став старше на пару десятков лет, тяжело подошел к мерцающей керосиновой лампе. Пытаясь отогнать наваждение физической болью, поднес ладонь к струящемуся из стекла горячему воздуху. Держал ладонь долго, пока не завоняло паленым мясом.
Еще мгновение Стас бессмысленным взглядом смотрел на вздувающийся на ладони лиловый волдырь, и тут же, будто марионетка, из которой вынули железный стержень, резко, кулем свалился на узкое ложе.
Редкие блики синеватого света выхватывали из темноты полубезумное лицо человека, который, заткнув рукавом искривленный в страдании рот, глухо, жутко, почти по-звериному, выл.
* * *
Либо охранник ничего не передал следователю Мичуличу, либо у того не было времени на глупости от строптивого арестанта, или по насмешке судьбы, но в этот день Стась каким-то шестым чувством почуял, что судьба его уже решена и развязка будет сегодня.
Что-то такое чувствовалось во взглядах приближенной Рыжему кодлы: смотрели как на обреченного, как на ходивший по недоразумению по земле мертвый кусок мяса. В глазах хищников читалось неукротимое желание наконец-то расправиться с этим отчего-то брыкающимся и царапающимся зайчонком.
Надо было что-то предпринимать. Ясно же, что от заточенной о стену ложки, ловко брошенной прямо в сонную артерию, можно как-то уклониться, но когда их пять или шесть… Да и способов умертвить себе подобного, отработанных веками и поколениями упырей, у этой братии более чем достаточно. Навыков опробованных, надежных. Петля из скрученной простыни, ловкая подножка и куча навалившихся тел, неожиданный удар по поднесенной ко рту ложке с кашей и еще тысяча рецептов, как у хорошей хозяйки на кухне… В камере сидели люди с надиктованной дьяволом фантазией, выдержанные и промаринованные долгими страданиями в душном ограниченном пространстве.
Можно было бы постучать в дверь, только вызов охранника воспримется как сигнал к нападению, это понятно. Стась холодно рассудил, что неплохо было б ввести разлад и сумбур в ряды противника. Только так можно выиграть какую-то каплю времени. А там будь, что будет. Смерть одна, пусть она будет яркой.
Уже принятое решение набухало гноем гнева. Стась почти физически ощущал боль у сердца, ту, что вспухла огромным фиолетовым нарывом. Боль пульсировала, обдавая то жаром ярости, то холодными волнами ненависти. Терзания неопределенности были хуже близкой гибели.
Стась встал с нар и подчеркнуто нерешительно направился в сторону полога, отделяющего логово Рыжего от остального мира. Дорогу тут же перекрыли две массивных фигуры мокрушников Фимы и Еремы, которым, по слухам, убить что человека, что курицу, было без разницы.
– Чего тебе? – набычился гориллоподобный Фима, слегка ошалев от наглости практически трупа.
– К Рыжему. Прощения просить пришел.
– Пшел на… – апатично процедил сквозь гнилые зубы Ерема.
Но тут из-за полога вынырнула рыжая головенка.
– Парни, вы чо? Такой гость… сам к нам. Иди сюды, моя хорошая, – осклабился нехорошей улыбкой Рыжий, и два амбала расступились.
Четыре шага до лежбища Рыжего стали, пожалуй, самыми трудными за все двадцать лет Стасевой жизни. Шел как на эшафот, прокручивая еще и еще раз шаги к отступлению.
Раз.
Два.
Три.
Четыре!
Марута в одном броске, словно кобра, выбросил все тело с вытянутым кулаком в сторону ненавистной рыжей физиономии. Время вдруг встало. Стас недоуменно смотрел, как побелевшие костяшки пальцев очень медленно, словно увязнув в густом сиропе воздуха, тянутся, тянутся, тянутся, отражаясь в удивленных зрачках Рыжего.
Хруст. Почти эйфорическая боль в кисти, проламывающей, сплющивающей носовую перегородку, вминающей конопатый хищный клюв внутрь, к покатому лбу. Волна от соприкосновения прошла через все тело Стася. Рыжий откинулся назад, резко, будто собираясь пробить черепом крашеную тюремную стену. Глаза его превратились в плоские бессмысленные пуговки, и Стас понял, что черная свеча жестокого и неправедного ума пусть на время, но погашена.
Не успели кровавые сопли Рыжего упасть на серые доски пола, как Марута чуть ли не по головам удивленных и опешивших бандюков белкой юркнул прямо к стальным дверям, понимая, что они сейчас – единственная защита. Единственные товарищи, которые прикроют спину и от заточки, и от удавки, и от навалившихся грудой тел, стремящихся подавить не вписывающуюся в их первобытные понятия личность, чтоб потом, чуть позже, раздавить ее, уничтожить.
Стась влился вспотевшей спиной в двери, выставил гвоздь, выменянный по случаю на одной из прогулок на мамину серебряную ладанку, ощерился раненым зверем и приготовился продать свою жизнь подороже.
Серая масса разъяренных урок ринулась было к нему, но вдруг встала, словно перед невидимым барьером между дерзким мальчишкой и сворой волчар.
Тертые жизнью урки остро почуяли, что парень готов умереть, но хочет сделать это на кураже, уведя с собой в холодную неизвестность кого-то из них.
Фима, Ерема, Зуб, Матэля, отпетые и дерзкие мокрушники, стояли, нерешительно переминаясь, ожидая команды «фас», но подать ее, увы, было некому…
Первым отвел взгляд попробовавший жесткой руки Стася Мормыш. Молча отвернулся и посунулся вглубь помещения, чтобы спрятать в тени неожиданно нахлынувший испуг. Понял, что костлявая смотрела сегодня ему в глаза, выбрав для себя натянутую струной мальчишечью фигурку с жутким гвоздем в побелевшем от напряжения кулаке.
* * *
Пили в северо-западном крае все. Как не пить, когда горе ходит по пятам и печалью погоняет?
Поминки, крестины, гостины, свадьбы, не говоря о Пасхе и Рождестве, – поводов было достаточно. Мужики особым шиком считали проваляться в беспамятстве всю ночь возле костела или церкви. Величественные католические и православные храмы в каждой деревне стояли почти друг напротив друга, оспаривая право на паству, соревнуясь в помпезности архитектуры и щедрости прихожан. Поэтому понять, католик там валяется в канаве или православный храпит в шапку, не было решительно никакой возможности. И не факт, что босые ноги без пропитых сапог не принадлежали староверу-беспоповцу, коих тут тоже как блох – каждый третий.
По этой причине и по уму жили все конфессии дружно, выпивали и с евреями, и с татарами, мудро рассуждая, что боженька один, и коли он создал людей другой веры, то ему известнее, зачем.
Староверы, правда, гнали в основном свою водку, по идеологическим соображениям не покупая казенную, чтоб царю-батюшке не было сладко от их заработанных тяжким трудом грошей. Все остальное население северо-западного края империи исправно относило свои кровные в шинки и трактиры, коих торчало множество – на каждом постоялом дворе, на каждом людном перекрестке.
Вот и неслось по темным трактам каждые выходные и праздничные дни ночное-пьяное: «Йе-э-хал на ярмарку ухарь ку-у-у-у-пец, ухарь купец, у-у-у-удалой молодец!», – перемежаемое: «Hej, hej, hej sokoły. Omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku. Mój stepowy skowroneczku!» Мужики-белорусы, вдоволь прооравшись на русском языке и польской мове, на закуску вспоминая о своем глубинном, либо лезли в драку, либо требовали «дзядоускую». И завершался нестройный ночной хор обычно полюбовно: «К-а-а-а-сенька ты мая, напаi каня. Я каня паiць не буду, бо я жонка не твая!»
И поляк, и русский, и белорус не находили ничего странного в том, что свободно понимают и разговаривают на языке друг друга без каких бы то ни было трудностей. Вот с литовским и латышским были мелкие затыки. Но, бодро мешая польский с белорусским, особых проблем в торге и при делах – особенно после выпитого традиционного литра – никто из многонационального холопьего братства не испытывал.
Ушлый и деловой люд выкупал лицензии на винокурение и жил себе кум королю, строя каменные дома, жертвуя на костелы и церкви, разумно благодаря боженьку за то, что вразумил, чем заниматься.
Пан Болеслав Мурашкевич, отставной поручик, когда-то давно был изгнан офицерским собранием за растрату казенного имущества. От той поры молодости сохранил служивую стать и лихо закрученные гусарские усики, отрастив для солидности бакенбарды. Он разумно заносил и пану Езусу, и Господу Иисусу. Пан отставной поручик справедливо полагал, что там, наверху, разбираются, в какую копилку попадает его жертва, ибо дела его винокуренного заводика шли, как лынтуповский коняка: мерной уверенной поступью, но все – в гору.
Тринадцатилетнего работника Мишку Маруту пан Болеслав принял без особых раздумий. Вашкевичи славились тем, что по местным понятиям не пили. Нет, конечно, и отец Мишки Иван, и пани Софья, дай Бог ей здоровья, могли опрокинуть килишек на большой праздник, но тем дело и ограничивалось.
– Кого еще брать, коли не Вашкевичей, – рассуждал заводчик, потягивая ароматный дымок из длинной австрийской трубки, – спиваются на дармовой водке, не уследишь.
И этот сопьется, конечно, но лет пять юный организм будет работать исправно, таская тяжелые тюки с хмелем, мешки с сахарными головами и солодом, ворочая тяжелые металлические бидоны с пивом и спиртами, настоянными на ароматных лесных травах. Оплату положил небольшую, мал еще получать настоящие деньги.
И впрягся Мишка в работу по-серьезному, некогда было чесать языком с мужиками-грузчиками, надо было зарабатывать копейку.
Решение бросить учебу возникло спонтанно: подсмотрел случайно ночью, как Софья плакала, вытрясая из тугого платочного узелка скромные грошики. Понял, что бедность закончилась, а на ее месте поселилась постная нищета. Тем же утром заявил решительно:
– Учиться буду сам, по ночам. Учебников хватает, если что, учитель Иозеф Макушка подскажет. Пойду к Мурашкевичу, где Стась работал, небось, возьмет, ему руки нужны.
Софья молча кивнула, потом не выдержала, резким движением прижала к себе Мишкину голову, зарылась носом в отросшую шевелюру, шепнула дрожащим голосом:
– Спасибо, сынок. Ты совсем взрослый стал.
Винокурня Мурашкевича располагалась на самом берегу речки Храбровки, под деревянным, неизвестно когда построенном мостом, у самого Двинского тракта. Место паном поручиком было выбрано с расчетом: проходная дорога – серьезное подспорье в поиске оптовых клиентов и слава о продукте по тракту разносится в разы быстрее.
Ушлый фабрикант не прогадал. Целыми днями грузились подводы трактирщиков и лавочников бутылями с пивом «Граф Мурашкевич» (титул поручик присвоил себе сам, для коммерческой солидности), хлебным вином «Мурашкевич № 1» и сладкими наливками для дам «Мурашовка» на бруснике, чернике, вишне и землянике.
Дело кипело в три смены. Мишка поначалу шалел от постоянных окриков.
– Эй, неси мешки сюды!
– Чего встал? Сахар в чан я сыпать буду?!
– Малой! Ящики с пивом грузи! Уплочено!
– Едрит твою раз! Тару куды?! Я те, дурню, не показывал, что ль?
Бегал по всему двору, таскал, грузил, сыпал, мешал длинным медным черпаком, лил в огромные чаны ароматную эссенцию. И снова таскал липкие мешки с себя весом, невольно вздрагивая от мысли, что кишки вот-вот вывалятся через рот, жадно глотающий свежий озерный воздух.
Но скоро втянулся. Быстро понял Мишка, что тяжеленные мешки не стоит брать на пуп, достаточно ловко подсесть, пока кто-то не взгромоздит куль на плечи, а там уже ноги тащат мех, а все тело расслаблено. Особая грузчицкая наука состояла в том, чтобы основная тяжесть падала на мышцы ног, но никак не на поясницу.
Летели дни, шли недели. Ничто так не крадет время, как монотонный однообразный труд. Чтобы как-то отвлекаться от однообразной работы, Мишка включал недюжинную свою фантазию, живо представляя свое тело в разрезе, с сокращающимся сердцем, ускоренно доставляющим кровь с растворенным кислородом в нагруженное место, по распоряжению серого мозга, мерцающего синеватыми импульсами слабых токов, – все, точно как в толстенном анатомическом атласе, взятом на неделю у пана Адама.
– Куда прешь?! – рядом с ухом звонко щелкнул здоровенный хлыст. Согнутый в три погибели, ничего не видящий под мешком и, по правде сказать, пребывающий в своих фантазиях, Мишка не заметил, как долбанулся лбом в элегантную голубую бричку с плетеными лозовыми стенками и откинутым кожаным верхом, непонятно как оказавшуюся посреди заводского дворика.
– Ха-ха-ха… – откуда-то сверху, с небес, разлились озорные колокольчики девичьего смеха.
– Не извольте беспокоиться, барыня! Дурень-с! Пшел вон, быдло! – Мишка чудом увернул тощую задницу от жесткого сапога управляющего Зеленского, которым тот любил награждать неловких работников.
– Стойте, пан Зеленский! Мальчик, мальчик! Подойди! Иди же! – вроде бы мягко, но с повелительными интонациями приказал ангельский голос.
«Будь, что будет, интересно же!» – Мишка сбросил мешок на землю и даже задрал козырек драповой кепки повыше, чтобы получше рассмотреть обладательницу чудного голоса.
И остолбенел в прямом смысле слова. Сверху вниз, в голубом сиянии кружев и шелка, на него смотрела изящная головка самой настоящей Девы Марии, точно как в Браславском костеле слева от кафедры. Те же миндалевидные глаза, тонкий прямой нос, пунцовые губы, будто нарисованные тонкой кистью, длинная шея, совершенная линия подбородка…
Мишке захотелось даже покрутить головой, чтобы стряхнуть морок. Шутка ли, фантазия проникла в реальную жизнь! В самом деле, ну не может же быть, чтобы это хрупкое, неземное существо было на грешной земле – вот тут, рядом, на расстоянии вытянутой руки.
– Да-да, галлюцинации от физического перенапряжения, – услужливо подсказывал мозг, – мешок на плечи, и работать! Но Мишка ничего не мог с собой поделать: рассматривал чудо, как произведение искусства, стараясь быстрее впитать яркие подробности, пока морок не растворился в прозрачном воздухе.
– Смешной мальчик, – в голосе видения появились нотки растерянности.
– Мишка Вашкевич, подсобный-с! Толковый малец, только задумчивый! – елейно зашептал Зеленский. – Прошу ручку, пани Ядвига, вот так-с, ножкой на ступенечку! Осторожно-с… Кепку сними, елупень! Не видишь, сама пани Мурашкевич изволили-с к нам! – И вновь медоточиво: – Болеслав Львович, муж ваш, в конторе-с, просим пожаловать наверх-с!
Пани Ядвига, не обращая внимания на услужливо протянутую руку управляющего, сама оперлась на обтянутый голубым бархатом поручень брички и, поставив высокий шнурованный ботильон на кованую ступеньку, протянула тонкую ладонь в сторону Мишки.
– Мальчик! – фарфоровая головка требовательно вздернула плавную линию подбородка.
Мишка, сам ошалев от собственной наглости, подставил руку, и хрупкая кисть пани Ядвиги уверенно и властно на нее оперлась. Мгновение, и изящно скроенная женская фигурка ловко спрыгнула на землю.
– А вы, Михаил, джентльмен! – улыбнулась Ядвига, показав крупные, перламутровые, будто речной жемчуг, зубы. – Это так трогательно, такая редкость, я бы сказала, это неожиданно от юноши вашего сословия.
– Вашкевичи – древний шляхетский род! – как-то по-петушиному, тоненько, выпалил Мишка и почувствовал, как предательский жар стыда краской заливает лицо.
– Ха-ха-ха! – солнечные зайчики смеха словно рассыпались по двору винокурни. – В таком случае, дзенькуе бардзо, пан Михал. Неожиданно, грациозно склонив головку на тонкой шее, красавица представилась замухрышке-грузчику по всем правилам шляхетного общения:
– Ядвига Мурашкевич! Бардзо пшыемное знакомство! – и вновь, совершенно по-детски, засмеялась.
Мишка отметил про себя, что не было в этом смехе ни капли иронии.
Лицо пани осветилось той радостью, которая может быть лишь у юной особы, без груза прошлого, осознающей, что жизнь прекрасна и удивительна, а впереди – целая вечность.
Пани кивнула Мишке на прощанье кукольной головкой, развернулась, как бы ненароком продемонстрировав тончайшую талию, и грациозно последовала за Зеленским в сторону конторы, где отставной поручик, «граф» Мурашкевич в ожидании юной супруги изучал пухлые тома бухгалтерии.
Мишка вдруг ощутил щемящую тоску. Так хотелось смотреть всегда на это чудо, на эту заморскую птицу, невесть откуда залетевшую в холодный приозерный край; бесконечно вдыхать ее тонкий аромат, будоражащий что-то неясное, глубинное, непознанное в еще детской душе.
Вспышка озарения накрыла, обдала жаром, и Мишка прояснившимся сердцем понял вдруг, что эта встреча взорвала коричневую скорлупу будней, по которой гусеницей он полз всю предыдущую жизнь. В тот же миг его юная душа расправила невесть откуда взявшиеся яркие красочные крылья и, замирая от запретного восторга, полетела смело, упиваясь палитрой нового горизонта, не осознавая пока, что любовь – это не только полет, но и неизбежное падение.
* * *
Мичулич откинулся на потрескавшуюся от времени кожаную спинку казенного стула, выпустил в потолок тонкую струйку дыма, изучающе и бесстыдно уставился прямо в глаза Стася. Так смотрят на диковинную рептилию, внезапно оказавшуюся в приличном обществе за накрытым для гостей столом. Во взгляде были и брезгливость, и удивление.
Весь этот коктейль был взбрызнут капельками восхищения и страха, отчего Стасю было чуть не по себе. Понял он, что сейчас происходит нечто важное. Что холеный человечек, по-хозяйски развалившийся за столом, вертит в своих наманикюренных коготках его судьбу, гадая, в какую корзину определить, светлую ли, черную ли.
Стась миллион раз прокручивал в голове эту встречу. Прикидывал, каким образом выторговать свободу. Чем он, Стас Вашкевич, может быть интересен; что нужно этой холодной выскобленной сущности, спрятавшей все человеческое за формальным и придуманным не им даже, мыслящей законодательными актами и статьями, инструкциями и формулярами.
По первым беседам, по построению фраз и вопросов, Стас уже догадался, что следователю не чужды серьезные служебные амбиции. Он должен показать окружающим свой ум и необычность, стремление к большему, не тому, чем занят на данный момент. Такие низменные страсти обуревают людей недалеких, заставляя их рисковать, прыгая через ступени карьерной лестницы, совершая головокружительные кульбиты в погоне за начальственным вниманием и одобрением. «Вечный мальчик» – так окрестил про себя этот типаж Стась. А мальчикам нужны подвиги и награды. Их интересует внешняя сторона власти, они не способны вращать мироустройство. По недоразумению или по прихоти судьбы, даже став генералами, к ним намертво прилепляется презрительное «паркетные»: не нюхавшие пороха, не рвавшие зубами соперников, а выбившиеся послушностью, исполнительностью, наушничеством и клеветой.


