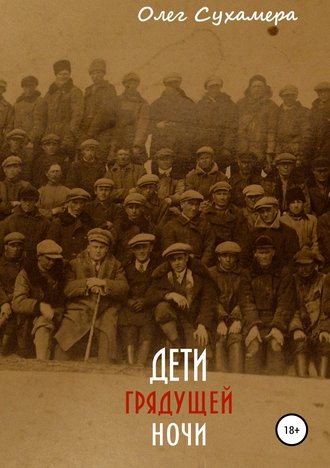
Олег Сухамера
Дети грядущей ночи
Глава четвертая
Затмение
(1918)
Холодно. Мороз проникал в каждую пору тела, мышцы дрожали мелко-мелко, пытаясь хоть как-то выработать благословенное тепло и отдать насквозь промерзшему организму. Ганна куталась в дырявую конскую попону, найденную под стрехой сарая, но толку от заиндевевшей тряпки было немного. Прижимала к себе пылающего жаром Владика, сходя с ума от того, что не может согреть провалившегося в лихорадку ребенка.
«Сейчас бы в дом. Вон он, рядом, перейди двор, и мы там – возле родной теплой печи. Отец смеялся: «Положил всем печам печку, в четыре обвода, жара еще и нашим внукам хватит. Залезай, Ганка, – твое с Мишкой место, козырное, полати, самое тепло там живет». И точно, стоит печь десятилетия и после его смерти, хоть бы что ей треклятой. Ни трещины, ни сколов. Немцы нарадоваться не могут. «Гуд, зеер гуд». Сволочи. Принесла нелегкая. Тяжкий выдался восемнадцатый год. Из родного дома выгнали.
Ну как выгнали? Сама ушла. Попробуй не уйди, когда семеро мужиков в трех комнатах. Так и норовят под юбку залезть. Сказала офицерику ихнему: «Не уймутся твои, спалю ночью всех к чертям собачьим. Пусть сами себе полы моют потом. На том свете». Как он их чихвостил на языке своем собачьем! Любо-дорого было смотреть. Дал разнос. Дисциплина у них. Слава Богу, поутихли, озабоченные. Только что с того? Новая беда. Только укачала Влада, глядь, а господин унтер-офицер прется в выделенный закуток с шоколадкой и шнапсом. Схватила сыночка, и ходу. Лучше уж в сарае, чем быть чужой подстилкой.
Они ж под осень войском зашли. Оккупация. Тепло еще в сарае было, черт с ней с этой хатой.
Но знала же, что будут бедовать. Соорудила буржуйку из жестяной бочки. Только толку с нее. Через дыры в крыше сарая небо видно. Вот Влад и прихворал. Хрипит во сне. А такой веселый младенчик был. Как Ленин, что на фото в красном углу. Владлен. Владимир Ленин. Имя дурацкое мальчонке Васька выбрал, потому как сам идиот. А для меня мальчик, сынок мой названный – Владик, Владислав. И пусть не родной по крови, усыновленный, так то и хорошо, что нет в нем крови приглумного Васьки. Глазки у сыночка точь-в-точь, как у отца Яна Граховского, которого Васька со свету сжил, но по цвету серые, не отличишь от нашей родни. Даст Бог, еще один Марута вырастет. И родители его хорошие были люди. Не дворняжки, как муженек.
Может, все это горе нам из-за него, Васьки. Говорил матери, что крещеный. А иконы святые, что предки наши из века век берегли, выбросил на улицу. Повесил вместо них улыбку лысого. Владимира, тьфу, Ильича. Только что не крестился на него: «Мировая революция не горами». Долбень. В жизнь бы не глянула на сморчка. Ни внешности, ни мозгов, ни пожитков. Посмешище. Если б не мама.
«Надо, дочка. Председатель комитета бедноты. Все зерно в округе отобрал. Отсеяться нечем. Сдохнем с голодухи. Зачем мертвым гордость шляхетская. Сучьи времена. По-сучьи и будем выть. Не покоришься, все равно поймает, а там прикопает в лесу, чтоб никто не нашел. Не до жиру. Выжить бы…».
Топтался по иконам при мне, при маме сапожищами, что у Мурашкевича отобрал. Что ни вечер – пьяный. Скотина. И все законы новые, что в Перебродье принес, скотские, как и он сам.
Такая судьба, что у беды – все одно к одному. Братья разбрелись по свету. Стась рубится за правду свою. Раненый-перераненный. Сгинул? Жив ли? Хоть бы весточку прислал. Поинтересовался, как мы тут. Про Сергея и вспоминать не хочется. Мать его прокляла. Деньги по первости пересылал какие-то. Мать – в печку их. Ни к чему, говорила, кровушка на них людская. Так и не простила его. Как так вышло? Наш Сергей, веселый, озорной, каждому встречному – приятель и свой в доску. А нынче при одном его имени люди бледнеют и глаза отворачивают. Будто прокаженный или урод какой.
Мишка? А что Мишка? Своя столичная жизнь у него. Сегодня густо, завтра – пусто. И сколько б ни писал, как у него все радостно. Я ж чую.
Холодно как. Господи, как холодно. Быстрей бы рассвет».
* * *
Васька Каплицын лежал в трясущейся подводе, жевал соломинку, смотрел в бездонное мартовское небо и мечтал. Мечты его не отличались разнообразием. Хотелось набить брюхо вареной требухой, ароматной, такой, как умела готовить Любаша при заводском трактире. Из говяжьего рубца вперемешку со свиными ушами и мясной обрезью. С чесночком и отпластованным от огромного кругляша черного подового хлеба краюхой.
Мечталось о бабе, жопастой, с большими титьками. Лицо бабы никак не вырисовывалось в воображении, а фигура с плавными женскими обводами представлялась вполне себе ярко и аппетитно. Да, баба в мечтах была справная. Подоткнув подол суконного платья, оголив белые ляхи, переходящие в круглые окорока, мыла она полы Васькиной большой избы, которую он непременно сладит сразу после того, как вернется с фронтов мировой революции.
– А вы откедова? Яким макаром да нас у дярэуню? По делу или як? Но! Пайшла! Воучы корм! – без особого интереса, просто чтоб скрасить путь, прервал грезы возничий.
Васька, заметив дыры в кацавейке старика и решив, что тот из такой же, как он сам, голытьбы, не стал крутить задом.
– Я, дед, с Полоцка. Еду к вам буржуев щемить. Чтоб восторжествовала народная справедливость.
– Ага. Ясненько. Добра. Только, прости Господи, чаго один-то? Одному могеть и не получыцца.
– Получится. Не боись, дед. У меня бумага от самого наркомпрода. На ней – печать, и черным по белому сказано: «Предъявителю сего оказывать всемерное содействие по распределению продовольствия и предметов первой необходимости».
– Угу. Начальство, значить. Ясненько. Добра. Это чаго делать с бумагой сваёй будзешь?
– Будем с тобой, дед, все поровну делить.
– Во як. А чаго со мной дялить? У мяне конь. Стары, як я. Тялега. Больш багацця не скапиу.
– А мы, дед, возьмем твою телегу и поедем на ней к пану. Кто там у вас зажиточный имеется?
– Ого! К пану Мурашкевичу, что ль?
– К нему! Заберем весь хлеб, что у него в амбарах. А дальше – по необходимости. Отправим питерским рабочим, например. Они нуждаются.
– Ты, паря, глупой, али как? Так тебе сам пан Болеслав Мурашкевич до свойских пуней и дапустиy! Яму твая бумажка тьху! Подтярэцца можа, а можа, и на тое не годная! – старик ухнул испуганной совой, что, должно быть, означало у него смех.
– Посмотрим. Наган мне тоже не просто так выдали. Не захочет разговаривать по-хорошему… У нашей власти разговор короткий. К стенке! И точка!
– Ох ты. Чалавечая кроу не вадица. Энтое дело не каждый смогет.
– Я на фронте столько немцев ухайдокал мама не горюй. На наших богатеев рука давно чешется. Потому как, дед, – мироеды. Меня, рабочего человека, угнетали. Ща, все по справедливости, моя очередь настала.
– Вона как… Угу. Ясненько, – старик задумчиво пожевал залезший в рот рыжий ус и неожиданно натянул поводья. – Тпррру! Каб цябе пранцы заели! Знаешь что, паря, а давай-ка ты, таго… – слазь.
– Дед, ты чего? Не понял.
– Слазь. Далей пехом это… самое. Тут близка. Верст сем, не болей.
– Долбанулся, дед? Мы ж договорились! Тебе по дороге! Сам же говорил!
– Слазь! Я с бандюками век дзялоу не маю. Што вочы свае бясстыжыя вылупиу?! Слазий, пакуль пугай рожу тваю паскудную не перакрасциу!
Васька презрительно посмотрел на придурочного старикана и с досадой выплюнул былинку на пыльную дорогу. Слезал медленно, в надежде, что возничий одумается. Старик же делал вид, что не замечает «военной хитрости». Васька в расстроенных чувствах процедил едко:
– Эх ты! Темный ты, дед. Для тебя ж революция. Для таких, как ты.
– Ага! Хлеб свойский непанятна каму отдавать? Ты сам-то какой, паря, светлый? Тьфу! Нам ваша революция як другая дырка у жопе. Я-то думау… Па виду так чалавек, як чалавек… А ты… Быдлота! Но! Пайшла!
Старик с оттяжкой перетянул клячу кнутом, та, взбрыкнув, бойко замолотила разбитыми копытами по тракту, унося сердитого ездока в поднимающиеся клубы дорожной пыли.
Васька хмыкнул, зло сплюнул, улыбнулся недобро и, вскинув поудобней заплечный солдатский мешок, бодро зашагал вперед, в светлое будущее.
… Вечер подкрался тихо, как конокрад в хозяйское подворье. Над озером тенями проскользнули первые стайки уток, бесшумно, стараясь не потревожить общую благодать и спокойствие. В маленьких окошках зажигались желтые огоньки керосиновых ламп да скрипели двери сараев, заботливо прикрываемые жителями на ночь. Мало ли – зверь или лихой человек.
Васька, приморившись, триста тридцать три раза прокляв темного подкулачника старика и свою болтливую натуру, кое-как дочапал до крайних хат. Куда определиться на ночлег, особо не задумывался, все ж он тут теперь власть. К тому же всесильный мандат давал неограниченную ничем, кроме природной наглости, свободу. Расчет был простой – нахрапистость вывезет, а этого товара у Васьки было много, всем на зависть.
Шел по узкой улочке, и сладкие мысли медовыми ручейками растекались по кривым закоулкам забродившего под революционными дрожжами разума.
«Тут мельницу поставим, чтоб крестьяне себе сами мололи. А может, она уже стоит? Тогда обратим в общий доход. Бричку надо экспроприировать, желательно на рессорах с каучуковыми колесами. Сапоги яловые тоже не помешали б».
В радужных мыслях, по темноте, чуть не влетел в стайку сидящей на лавке молодежи.
– Э, дядя, матри, куды прэшь! – прогудел потревоженный неожиданным вторжением юнец.
– Чесик, перестань. Не видишь, человек не местный. Здравствуйте. Вы к кому будете?
Васька шустро чиркнул спичкой, чтобы получше рассмотреть, кому принадлежит такой приятный девичий голос. Огонек выхватил из темноты худенькую фигурку девушки, обеззоруживающе улыбнувшейся незнакомцу, что свойственно лишь юности, украшенной неопытностью и доверчивостью.
«Не в моем вкусе. Худовата. Но в целом – очень даже ничего. Третий сорт не брак», – подумал Васька и нарочито официально ответил:
– Я, товарищи, ни к кому. Я сам к себе. Прошу любить и жаловать. Зовут меня Василий Петрович, фамилия Каплицын. Уполномоченный наркомпрода из Полоцка.
– Нар, кому, чего? – одна из девушек дерзко сплюнула шелуху от семечек чуть ли не на Васькины обмотки.
– Да угомонись, Маня, не стыдно? Пан на работу к нам приехал, – вступилась за Ваську худенькая.
– Паном сроду не был. А вот вашим господам-кровососам от меня горько будет. Так и передайте. А вас, товарищ девушка, как кличут?
– Меня не кличут, я сама прихожу. А зовут меня Ганна, Вашкевичей дочка, – сморщила носик худышка.
– Отлично, товарищ Ганна. Вот вы мне и подскажете, где тут можно стать на постой? На первое время.
– Так к Микитихе идите. К бабке. Она одна лет тридцать живет. Дров поколете, воды там поможете принести, и денег не возьмет. Хорошая бабуля, и чисто у нее. Слабая только. Вот и будете, Василий, не лишними руками. Соседний дом.
– Добро. Только… Нам, товарищи, по хозяйству некогда, увы. Мы тут продовольственную диктатуру с вами делать будем. Да, мне нужны будут помощники, между прочим. Вы, Ганна, сами к какому классу относитесь? Бедняки, середняки, буржуазия?
Долговязый юнец, неприлично гоготнув, выдавил:
– Мы, дядя, тута все – середняки. Как грузди в бочке: посередке – самый смак!
– Шутки шутить после будем. Подкулачники, значит. Не повезло вам, граждане. Но не расстраивайтесь. Не важно. Перекуем! А вам, девушка, за наводку, спасибо! Встретимся еще, товарищ Ганна.
– Может, и так. Деревня у нас небольшая.
– Что ж. Прощевайте!
Васька нырнул в темноту в направлении мигающего огонька низенькой хатенки.
– Угу. И вам не хворать. Эй, начальник! Семечек не желаете? Нашенских! Подкулачных! – загоготал вслед кто-то из наглецов.
«Я тебе, падла, эти семечки в уши засыплю. Дай время», – хмыкнул про себя Васька и решительно направился к калитке, ведущей во двор бабки Микитихи.
* * *
Пусть и было Перебродье забытой Богом глухоманью, но тяжкая военная доля не обошла и ее. Вдовы в черных платках перестали быть редкостью. С десяток семей получили желтые уведомления о том, что их кормильцы «пали смертью храбрых в боях за веру, царя и Отечество». Бабы искренне радовались, когда мужья возвращались из смертельной мясорубки с оторванной конечностью, главное, что живые. А без руки или ноги можно и притерпеться. Голова цела, и слава Богу.
Обовшивевшие, тощие инвалиды собирались у сельской лавки, стреляли друг у друга махорку и по фронтовой привычке делили на троих-четверых купленный в складчину шкалик водки, перетирали за жизнь.
После второго глотка из братской бутылки образовывался ежедневный спор: дойдет немец до Перебродья или остановится где-нибудь под Двинском. Фронтовики, хлебнувшие солдатского счастья по самое не хочу, резонно предполагали, что немцы не в пример лучше обеспечены боеприпасами и продовольствием, а потому приход их в родные места – дело времени.
Была у калек и любимая забава. Когда водки оставалось совсем чуток, Егор Пильский водружал на подслеповатые глазки очки-велосипед, лез за пазуху серой, повидавшей германского плена шинели и доставал аккуратно сложенную газетку. Бесконечно долго хмурил брови, слюнявил газетку пальцами, шевелил губами и кивал головой, безмолвно соглашаясь с тем, что там написано. Собутыльники, зная слабость Егора на лесть и уважительное обращение, с придыханием начинали ныть:
– Чегой пишуть, а, Егор Ляксеич?
– Хорошо, когда есть грамотные люди. Голова не устает? Все читаете, читаете.
– Бывает… – степенно отвечал Пильский. – Тута мало чтению уметь. Тута соображение главное. Вот, к примеру…
– Ну-ну? – подвыпившие мужички дышали перегаром чуть ли в ухо чтецу.
– Но-но! Куды прешь! Погодь! – притворно возмущался Егор и важно начинал. – Сообщение о том, что Ленин, Ганецкий и компания командированы в Россию немцами, оплачено их деньгами – оф-фициально! Сообщение приведено в Бюро Печати, основанного и существующего при Временном правительстве, и разослано во все газеты.
– Не пойдеть! Эт про что? Ты, Егор, не темни, ты растолкуй, чего такое написано? – первым не выдерживал психованный Митяй Лозовский. Он махал культей перед носом Егора, в который раз намереваясь смахнуть очки с длинного носа умника.
– Табе ж написано. Заслали немцы шпиона. И не одного. Какого-то Ленина с компанией диверсантов до кучи.
– И что цяпер?
– Небось, гадить будуть. В колодцы отраву ложить. Сараи палить. Телеграфные столбы подпилють и на железку бревны – херак. Паровозу – хана. Мандрыкнется, и все – под откос! Не поднимешь. Мне энта публика с фронта известная. Так и развалють матушку нашу Россию. – Как обычно, в момент серьезных выводов Пильский трагически вытягивал губы и вздыхал так, что слышен был свист из пробитых шальным осколком легких.
– От едрить! А чего ж они эту компашку не заарестують? «Ахфициально»!
– Так бздять! Слабо!
– Николашку было не слабо? А немцев-лениных забздели? Не, мужики, тут, думаю, измена! На асударственном уровне! Вона як! Жопа надвигается серьезная!
– Что за сыр-бор, братья?
Гомонившие инвалиды затихли от неожиданного влезшего в культурную беседу незнакомца. Был он не велик ростом, прыщав и худосочен. Жиденькая рыжая бороденка никак не придавала ему солидности, скорее наоборот, вызывала нечто среднее между жалостью и омерзением.
– Во! Ты кто такой? Не признаю. Не местный же? – Егор не скрывал раздражения от наглости мужичка, перебившего его мыслю на самом интересном месте.
– Разрешите представиться, товарищи. Каплицын. Василий, Петров сын. Продуполномоченный. Прибыл к вам из самого Полоцка.
– И что нам с того? Сухо подходишь, Василий, – ляпнул в своей манере Лозовский.
– Приятно иметь дела с умными людьми. Этот вопрос решаем, мужики, – улыбнулся Васька и, как заправский фокусник, вытащил из-за спины руку с бутылкой беленькой. – Позвольте угостить уважаемое общество! Ну, что, братцы. По-нашему, по-фронтовому, по глотку из горла!
* * *
Вечерело. По кривой дороге, ведущей к поместью Мурашкевичей, выписывала кренделя компашка пьяных инвалидов-фронтовиков под предводительством разухарившегося от собственной важности Васьки. После поваленной пятой бутылки передвигаться ранеными ногами удавалось слабо, и если бы не настойчивость нового вожака, все давно бы разбрелись по хатам.
К новоявленному начальству прибились самые стойкие: грамотей Егор, которому Васька пообещал высокую должность своего заместителя; псих Митяй (ему просто хотелось еще поколобродить) да прибившийся к компании на последней поллитре пастух Юзик, в котором Васька рассмотрел ту самую «угнетаемую буржуазным элементом бедноту».
По предложению Васьки шли к усадьбе Болеслава Львовича, чтобы прямо сейчас, вечером, объявить мироеду, что его время кончилось и пришла пора делиться награбленным.
Для придания предстоящему грабежу солидности нахватавшийся по верхам политической грамоты Каплицын предупредил новых товарищей, что отныне они не просто деревенская босота и лодыри, а серьезная контора – комитет бедноты.
Слово «комитет» компашке очень понравилось. А вот по поводу «бедноты» чуть было не разгорелся спор, который Васька подавил в зародыше, сказав, что право грабить имеет только пролетарий, у которого, как у латыша, – босый хрен да душа, и кроме цепей да оков нету ни шиша.
– Тады няхай! – подытожил Егор. – Чур, мне бричку с конем!
– И баб, можа, делить будем? – исподволь поинтересовался Юзик. – А чаго я такого спросил? Мало ли… Ядвига – добрая сучка. Гладкая. Не? Чаго уставилися? Добра, шутю я, шутю.
Комитет, почуяв, что пахнет барышами, сразу же зашевелился. Дело чуть не дошло до мордобоя, поскольку богатую бричку пана Мурашкевича знали все, а что там у него за забором есть еще, можно было только предполагать.
Подрались бы, факт, если бы Васька не вскарабкался на каменный фундамент придорожного креста и, бабахнув в воздух из нагана, не предупредил соратников, что за самоуправство по законам революционного времени полагается распыл и всеобщее презрение товарищей.
Доходчивую речь Каплицын подытожил просто: чтобы не было пустых споров на ровном месте, бричка реквизируется на весь комитет, и ездить на ней будет председатель, то есть он. И не ссать, принадлежать она будет всем понемножку, так как коллектив всегда прав.
Мужики почесали затылки и порешили, что да, наверное, так будет справедливо. Товарищей, не имевших даже захудалого поросенка, грело чувство, что вот-вот, и у каждого будет «немного» коня с бричкой и чего-то еще, чем можно поживиться у зажиточного буржуя.
Грамотный Егор попробовал, правда, пикнуть, что он тоже хотел бы быть председателем, но Васька тыкнул ему в нос наганом и напомнил о мандате из Полоцка, которого нет ни у кого, а у него – вона он!
Егор было надулся, но Каплицын утешил грамотея, сказав, что отныне дележ в пользу трудящихся будет проводиться ежедневно. Приятная новость пролила бальзам на душу Пильского, тут же прикинувшего, что мечтать о большем – гневить Бога.
… К усадьбе Мурашкевича комитет подошел в бодром расположении духа, горланя на всю округу: «Мы смело в бой пойдем! За Русь святую! И как один прольем, кровь молодую!»
Стучали в кованые ворота долго. Кулаками, пятками, палкой. Хорошо, Юзик догадался выковырять на дороге увесистый булыжник. От ударов идиота железо загудело так, что в хозяйских хоромах сквозь плотные шпалеры засочились лучики света.
Через пару минут шумового террора из-за ворот донеслось недовольное старческое ворчание. Видимо, проснулся кто-то из обслуги:
– Э, паря! Шли б своей дорогой. Пока из берданки не угостил.
– А вот оружие придется сдать, дядя, – невозмутимо изрек Васька. – Или…
– Что или? – язвительно поинтересовался старик.
– Или расстрел. По законам военного времени. У нас все просто. Правда, товарищи?
– Верно! Дело говорит! Открывай, падла!
– А вы кто? Бандиты али как? – голос дрогнул.
– Мы, товарищ, комитет. У нас и бумага есть! С печатью! В случае неповиновения вынуждены будем применить силу.
– Чо, не понял? Новая власть пришла. Открывай, сссука!
Ворота завыли протяжно, словно злые дворовые псы, которым не дали спуску, и открылись, обнажив блеклый силуэт старика в исподней рубахе с керосинкой в подагрических ладонях. Он поклонился и степенно произнес:
– Добро пожаловать, панове. Сказать по правде, надеялись, что минует чаша сия. Да, видать, не судьба!
* * *
Дел было невпроворот. Васька и компания, почуяв вкус первых удачных экспроприаций, чуть ли не весь световой день ездили по подворьям хозяев и хозяйчиков, оценивая, что и сколько можно взять. Стоптали бы ноги, если б не реквизированная у пана Мурашкевича бричка. Там же разжились парой немецких охотничьих карабинов и фирменной гладкостволкой «JamesPurdey& Sons», которую Митяй быстро приспособил под одну рабочую руку, отпилив ножовкой тяжелые стволы чуть ли не под корень.
Не встречая отлупа, ветераны матерели день ото дня. Если поначалу с особо наглыми и горластыми старались не связываться, то теперь, стоило дуре-бабе или жадному мужичине раззявить хайло, протестуя против грабежа, как «комбеды» тут же многозначительно лязгали затворами – «уймись, дядя, было ваше, стало наше».
Изъятое свозили на мельницу в Иказнь, а оттуда еженедельно отправляли обозы с провиантом на станцию Шарковщина, где Ваське или посыльному выдавалась бумажка, что принято, и доводился новый план изъятия.
Одна беда, с каждым новым обозом аппетиты голодающих питерских рабочих росли, а вместе с ними и требования районного начальства. Соратникам это дело было как-то до звезды, но ушлый Каплицын быстро скумекал, что, отдавая весь хабар и зерно без остатка, сам себе роет могилу. За невыполнение революционных требований вполне можно было схлопотать не только строгий выговор, а вполне себе ощутимую свинцовую пломбу в лоб.
На очередной попойке по случаю удачного грабежа решено было впредь пуп не рвать, но брать все, что смогут, а вот в обозе отправлять чуть меньше, чем требовало начальство.
Таким макаром у комитета начали появляться излишки зерна и провизии, которые с молчаливого Васькиного согласия менялись на водку и нужные в хозяйстве вещи.
Хоть Васька и просил подельников не форсить обновками, но идиоту Юзику все было ни по чем. Каждые полчаса, с точностью курьерского поезда, в его красных атласных шароварах играла мелодия «Ах, мой милый Августин». Юзик, важно нахмурив брови на узенькой полоске лба, кряхтя и как бы нехотя, извлекал из недр ярких штанов золотую луковицу часов «Лангезон». Вздыхал, долго смотрел на циферблат, поворачивая откинутую полированную крышку, чтобы поймать на нее солнечного зайчика. Насладившись эффектом, дурень резко захлопывал чудо механики и, победоносно оглядывая ребятню с удивленно открытыми ртами, изрекал:
– Оне ишо и время показывають! Такие дела, малята… Да. И левольвер у мяне ёсть. Но не покажу. Потому как – служба!
* * *
В ворота Граховских стучать не стали. Юзик ловко отжал фомкой кованые петли, и крепкая на вид конструкция одним махом брякнулась в дорожную пыль, освобождая въезд телеге с гнедым битюгом, изъятым, по смутным воспоминаниям Васьки, где-то тут рядом.
Яна Граховского в деревне уважали. Все у него ладилось и было справно. Несмотря на юные лета, в неполные двадцать пять он успел построить избу, обзавестись скотиной и выкупить пару добрых делянок пахотной земли. Ценили парня за то, что руки тот имел золотые, любой механизм мог собрать и разобрать с закрытыми глазами. По этой причине имел заработки такие, что многим местным жучкам не снились. От часов до мельницы – во всем разбирался Ян. Бабки поговаривали, что за такой талант к механике наверняка продал парень душу дьяблу, и не будет ему царствия небесного, а рукастый малец лишь посмеивался, крутя и ковыряя очередную вставшую колом, но такую нужную в хозяйстве приспособу.
Чего греха таить, чтоб земля не простаивала, нанимал кого победнее на вспашку, обработку и уборку. Платил как все, по принятым в этих краях расценкам. Сам из многодетной семьи, погоревавший на чужих огородах, работников Ян не обижал, есть за стол садились все вместе.
… Так повелось на земле, что в красивых местах и люди красивые, и живут красиво. Жаль вот только, что времена приходят разные. И то, к чему раньше стремились, с новым поворотом истории иногда оборачивалось боком, принося горе и разочарование.
С раздраем в стране пришла и в головы пыль да блажь. Перестали удивляться, что в дом Яна и его молодой жены Люции чуть ли не раз в полгода стали прилетать из-за забора горящие веники, обмотанные промасленной ветошью. Когда сгорела пуня, Ян, не выдержав, обнес двор высоченным забором. А что делать, когда у каждого третьего от чужого достатка по всему телу прыщи, изжога и бессонница?
– Вы что творите, сволочи? Неделю назад все поотбирали. Совесть у вас есть? – чуть не расплакалась Люция, глядя на поваленные ворота.
– Тамака, дзе была совесть, вырос хрен! – загоготал Юзик и принялся сшибать прикладом дорогого немецкого карабина замок с ледника.
На шум из сарая вышел перемазанный сажей и машинным маслом Ян. Взглянув на троицу грабителей с омерзением, как на слипшихся в болотной жиже лягух, присел на чурбак, степенно достал кисет с табаком и начал мастерить самокрутку. Чиркнув спичкой, как бы между прочим заметил:
– Ключ есть. Спросить умишки не хватило?
– Твое дело пятое! Панская гнида! Где зерно? – Ваське очень не понравилось, что хозяйчик не стал, как все пресмыкаться и лебезить, пробуя снять с говна пенки.
– Так на Великий пост все вывезли. Отсеяться не дали. А зимой? Как? Снег жрать будем с вами разом, не иначе. Стратеги, мать вашу! Какое зерно? Попей рассолу, полегчает.
Внутри у Васьки закипело. Надавил подкулачник на больное место. Факт, в самом деле, вроде были тут, по пьяни, да разве все упомнишь?
– А я вот те покажу, где у кого головка! – Васька со всей дури пыром засадил Яну прямо в причинное место, между широко расставленных ног.
Ян свалился с чурбака, побелел, скорчился, пуская пузыри с посиневших губ и постанывая. Как будто по заказу в красных юзиковых шароварах заиграла мелодия, так «вовремя», что Васька искренне и заразительно заржал, аж слезы брызнули из глаз.
Люция птицей слетела с крыльца, упала на колени перед мужем, всем телом накрывая кормильца, пытаясь спрятать от дальнейшей расправы.
Озабоченный половым вопросом Юзик обхватил бабу сзади и, сжав ладонями выпуклые груди молодки, начал глумливо мять их.
– Ото доброе вымя! А что, паненка, бросай ты хиляка, со мной не загорюешь!
Люция извернулась из липких объятий и, как кошка, одним взмахом расцарапала щеку придурка от уха до рта.
– Ах ты, ссучка! – Юзик зашипел от досады, разглядывая красную от собственной крови ладонь. Вскипев, с дури дал прикладом по подбородку Люции, та и упала рядом с задыхающимся от бессильной ненависти мужем. Обиженный Юзик размахнулся сапогом, чтобы наподдать неподвижно лежащей обидчице, но Васька схватил его за шиворот и оттащил от лежащей парочки.
– Досыть!
Привыкший к проделкам Юзика Митяй, переступил через бабу и нырнул в ледник, где, простучав пол фомкой, обнаружил тайник с припрятанными закатками и соленьями, которые тут же начал таскать на подводу.
Ян обхватил голову, качался из стороны в сторону, трясся. Не понятно было, то ли он плакал над закатившей глаза, едва дышащей женой, то ли рычал от ненависти, рот его искривился и дрожал.
– Кровью умоетесь, твари. Лучше сейчас убейте или достану вас, блядей! Передушу сук по одному!
Митяй поежился и, делая вид, что не при делах, ловко запрыгнул на седушку брички. Юзик, прикрывая расцарапанную щеку рукой, виновато отбрехивался:
– А чаго яна? Ня сахарная ж! У мяне вона тожа ранение!
– Недальновидно, гражданин, – только и нашел, что сказать слегка струхнувший от лютости в секунду озверевшего мужика, Васька. – Голодные рабочие, это не вам тут… вот… Понимание надо иметь, это самое. Сами виноваты. Мы ж по-хорошему хотели. Поехали, ребята!
* * *
Все было б хорошо для Васьки, и даже отлично, если бы не его загульный характер. Еще на дегтярном полоцком заводике приучили его такие же босяки, как сам, что коли завелся грош в кармане, пропей, чтоб не думать, куда его девать. И так как пойла было столько, что при желании в нем можно было купаться, то руководство «мероприятиями» происходило в таком чаду и помутнении разума, что вспомнить, у кого делили, а у кого еще нет, не было никакой возможности.
Возвращаясь в дом Микитихи почти под утро, то и дело выпадая из богатой панской брички, Васька каждую божью ночь давал себе зарок не злоупотреблять, но… Уже под следующий вечер, насмотревшаяся вдовьих и сиротских слез, душа так требовала обмыться, что бороться было совершенно бесполезно.
… Ближе к лету новая власть начала набирать силу.
При виде комитета люди похитрее и постарше снимали шапки, а за Васькой закрепилось почтительное «Василь Петрович».
Испокон веку на этой земле повелось так, что особо строптивых захватчики вырезали первыми. Вот и выжили те, кто явно не кипешил, а, наоборот, старался всемерно подчеркнуть покорность новым нагрянувшим бедам. В глубине души плевались и ненавидели, а ночью, когда Бог спит, вымещали кипящую внутри ненависть, насаживая особо жестоких пришельцев на вилы, поджигая их награбленное имущество, тихонько притапливая иродов в трясинах и пуская под лед. А утром, выплеснув злость, вновь становились тихими, забитыми жизнью, прячущими взгляд полутенями.
Из халупы Микитихи Каплицын перебрался в пустующую усадьбу Еленских. Не потому, что тянуло к роскоши, тем более что замок изрядно отсырел за долгие годы без ухода, а из-за того, что окружен он был огромными, еще екатериненских времен хозяйскими постройками. Амбары, пуни, ледники и конюшня на двадцать голов могли вместить в себя изъятое за полгода. Сюда все свозилось, отсюда уезжало на железнодорожную станцию.
В своих глазах Васька стал солидней в разы, когда выбил у Полоцкого управления разрешение на собственный телеграф.
Не было б такой радости, если б не прибор, который изъяли по случаю у браславского полицмейстера товарищи из района. Каплицын, очарованный механизмом, выклянчил машинку у комиссара за пару ящиков мурашовки.
Монтеры справились быстро. Дней через пять в бывшем кабинете пана Еленского заблестела бронзовыми колесиками чудесная фиговина – предмет Васькиной личной гордости. Раз в неделю она выстукивала по тоненькой бумажной полоске привычное «СОВ ТЧК СЕК ТЧК ТОВ ТЧК КАПЛИЦЫН ЗПТ ОБОЗ С ПРОВИАНТОМ ПРИНЯТ ПО ОПИСИ ТЧК».
Мечты сбылись, все стало лучше, чем могло бы. Не хата, а дворец. Почтение, почет, уважение – все было тут, при Ваське.
Одна беда: с бабами как-то не задалось. Пробовал пару раз по пьяни подкатить к вдовушкам, но, получив изрядную дозу колкостей от злющих на язык перебродских кумушек, как-то быстро увял.


