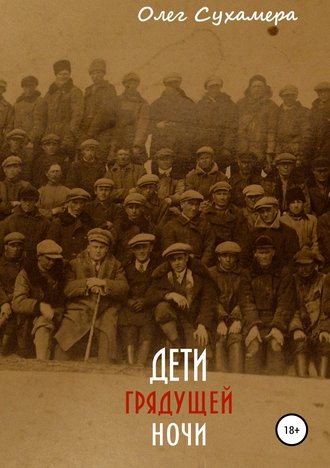
Олег Сухамера
Дети грядущей ночи
И тут же, с осознанием простой истины, забурлила в крови радость. И сразу тело стало гибким, ловким и сильным, будто древний зверь проснулся внутри, рванулся и выпрыгнул наружу, навстречу привычной для него кровавой бане, по-животному радуясь чужой агонии, вторя крикам умирающих врагов своим яростным рычанием.
И понеслось! Что с того, что пика сломалась в грудной клетке очередного пронзенного пруссака? Шашка сама прыгнула в руку, а через секунду она развалила чью-то бедовую голову в остроконечном пикельхейме пополам, как мягкую подмороженную тыкву. Каким-то седьмым чувством Стас почуял, что откуда-то сзади птицей мелькнула разящая чужая сабля. Сам не понял, какая неведомая сила выбросила тело вниз и влево, наклонив его почти параллельно земле. Свистнул над грудью рассекаемый воздух, а крепкий всадник в чужой форме с позолоченными пуговицами по инерции чуть не вылетел из седла. Опытный вояка, пытаясь исправить оплошность, тут же рубанул в противоположном направлении, пытаясь достать этого юркого русского, но было поздно. Стас жестко, с оттяжкой полоснул по ненавистному вражескому мундиру, и из живота соперника вывалилась синяя требуха. Мощный немецкий битюг, почуяв страшное, вздыбился, захрипел, вытаращил безумные глаза и понес умирающего хозяина прочь, прямо по шевелящимся телам раненых и убитых. За всадником потерянным грязным бельем тянулись его собственные кишки.
Стас хохотал вслед ускакавшему покойнику: картина показалась ему забавной. Но тут же смолк, понимая, что, наверное, сходит с ума.
В середине людского водоворота мелькал триколор полкового знамени. Стяг то падал, то снова взмывал над толпой яростно рубящих и колющих друг друга людей. Знаменосец, прапорщик Остроумов, со свистом вращал шашкой, прорубая бордовую от крови просеку через наседавших на него немцев. Так продолжалось долго, пока совсем рядом с героем рванул прилетевший невесть откуда снаряд.
– Эх, братцы! Пропадаю! Подмогни! Эх, кто-нибудь! – проорал Остроумов, падая вместе с конем в копошащуюся в пыли массу вопящих на чужом языке людей.
Сколько раз Стас ни пытался восстановить в памяти те события, но у него не получилось вспомнить, каким таким чудом он оказался рядом с прапорщиком, ведь было до того метров двести сваленных в кучу людей и лошадей. И добраться до упавшего знамени в мгновение ока не получилось бы никак по физическим законам. Но, видно, Бог благоволит храбрым и сумасшедшим. Каким-то чудом удалось Стасу разбросать свору огрызающихся плоскими штыками немецких пехотинцев. Те, кто уцелел от яростно врезающейся в плоть сабли, отпрянули, побежали, как стая побитых дворовых шавок от исколотого в лохмотья, плавающего в луже собственной и чужой крови, прапорщика.
Стас в доли секунды спешился. Быстро, чуть ли не походя, развалил шашкой туловища пары замешкавшихся немцев, и подбежал к прапорщику. Он лежал на животе, всем телом прикрывая пропитанное бурой грязью полотнище. Стас перевернул мертвеца. Остроумова было не узнать, вместо лица у него была коричневая, топорщившаяся лохмотьями кожи, застывшая маска. Стас попытался разжать белые еще теплые ладони знаменосца, но тот намертво вцепился в древко, словно там, куда унеслась его душа, он продолжал свой личный неравный бой.
И такой важный день для русской армии, как наступление при Гумбинене в августе четырнадцатого года, для рядового Стаса Булатова, урожденного Вашкевича, сложился в странный калейдоскоп из ярких стеклышек-осколков, которые вроде бы были как-то связаны, но при всяком воспоминании складывались в новую картинку, основой которой был странный полет на лошади над мечущимися безумными войсками. И непонятно было Стасу, что там хлопает и рвется за спиной: то ли выросшие непонятно как крылья, то ли мокрое от крови полотнище знамени.
Стас летел над высохшей, вытоптанной травой, над замершими в странных постыдных позах трупами, взирающими на него застывшими навсегда оловянными взглядами. Летел, до боли в легких вдыхая чужой раскаленный воздух, чтобы разом вытолкнуть его наружу, срывая связки в яростной эйфории от близости вездесущей смерти:
– У-р-р-а! У-р-р-р-р-А-А-А-А-А-А!!!! За м-н-О-О-О-О-Ой! А-А-А-А-А!!!
Часть вторая
Сломанный мир
Глава первая
Булат
(1917)
Длинная серая шеренга из понурых измученных мужиков стояла в пыли, угрюмо опустив стриженные наголо головы. Внутри у Станислава шевельнулось нечто похожее на жалость. Чтобы не давать щемящему червячку сомнения шансов вырасти, штаб-ротмистр Булатов, для товарищей просто Булат, привычно попытался отвлечься: поднял высоко подбородок и вперился глазами в свинцовое рижское небо.
«Вроде небо как небо. Не скажешь, что оно, как и земля, – тоже Северный фронт. Синяя бездна, облака, которые плывут в одном им известном направлении. Зачем? Куда? Неизвестно. Видно, судьба такая. Как у солдата. Посланы одним движением чьей-то могущественной руки по штабной карте – и пошла плясать губерния: стреляй, коли, руби, режь, рви зубами неприятеля, потому что где-то там, наверху, все уже решили за тебя. А сгинешь, не велика потеря. Друзья опрокинут стопку за помин души, писарь отпишет родне каллиграфическим почерком «пал смертью храбрых на полях сражений». И никому там, сверху, нету дела, что стрелять нечем и что обувка шлепает собачим языком при каждом шаге, и трещины на обмороженных еще зимой ступнях гноятся и воняют покойником. Десны кровоточат, тело пухнет, и каждое прикосновение к коже оставляет болезненную ямку, долго не выправляющуюся. Все потому, что нормальной еды не было давно, так давно, что остатки человеческого упрятались где-то глубоко в закоулки сознания и который год не особо кажут оттуда нос. И издевательское «оружие добудешь в бою» – это не шутка, а смертельная игра, в которой много чего зависит от твоей личной удачливости. Добудешь, никуда не денешься, выхватишь из остывающих рук менее счастливого товарища, выдохнешь от радости «повезло!», и вперед – ура! – в атаку, за царя и Родину-мать, которая почему-то относится к тебе, как к нелюбимому пасынку.
Пусть Полковник удивляется, почему эти девяносто два молодых, крепких, не робкого десятка парней, решили взять судьбу за яйца и повернуть в свою сторону. Как по мне, так ничего удивительного в том, что сибиряки подняли восстание в своем полку, нет. Поступили как предатели, с точки зрения белой офицерской кости, изменив присяге, фактически оголив плацдарм. Поступили как нормальные, не привыкшие к рабской покорности перед судьбой, мужики. Захотели сами распоряжаться собственной жизнью. Не учли только, что если коготок увяз, то всей птичке пропасть. Армия – это машина. И выбор в ней не велик. Не хочешь быть в ней послушной шестеренкой, будешь кровавым смазочным материалом…»
– Ротмистр! Чего задумались? Командуйте! – опухшее от ночных бдений лицо Полковника дернулось в нервном тике.
«Расстрел – дело неприятное. Тем более такой массовый, – Полковник тяжко вздохнул, широко, чтобы видно было в дальних рядах построившегося полка, перекрестился и прошептал одними губами: – Господи, прости раба грешного. Волею твоею, не ради гордыни и стяжательства, без злого помысла, а дабы пресечь заразу, ведущую страну в гибельную пропасть. Прими души глупцов и не суди их строго. Аминь!»
Станислав презрительно покосился на побледневшего Полковника, плотно прижал шпоры к бокам нервно танцующего Серко, ловко, с особым кавалерийским шиком, выхватил из ножен шашку с красной «клюквой» «За храбрость» и скомандовал переминающимся с ноги на ногу, слегка растерянным бойцам своего отряда:
– Г-о-о-товсь!
Строй, словно отлаженный механизм, ощерился винтовками в сторону безликих стриженых макушек.
Станислав, сам того не желая, поймал из серой шеренги чей-то умоляющий, все еще надеющийся на какое-то чудо, взгляд. Судя по пушку под носом, никак не похожему на усы, белобрысому солдатику едва исполнилось восемнадцать. Еще пару месяцев назад гонял он голубей по мамкиной крыше и думать не думал, что вляпается в такую вот передрягу. Сердце Булата предательски дрогнуло. Фигурой, коровьими своими глазками, поджатыми губами и чем-то еще неуловимым солдатик был похож на Мишку.
«Ну, еще бы. Ровесники. Жалко. Только – судьба. Против нее не попрешь. Сегодня – ты. Завтра – я», – Стас почти по-отечески спокойно посмотрел прямо в глаза парнишке, словно пытаясь внушить тому: не бойся. Вот-вот все кончится.
Полковник Тимофей Ильич Лаевский прокашлялся и заорал хриплым стариковским голосом, наводя жути на пленных и выстроенный, пришибленный ситуацией полк:
– По закону военного! ВРЕМЕНИ! За измену РОДИНЕ! Волею государя ИМПЕРАТОРА! БУНТОВЩИКИ и ПРЕДАТЕЛИ! Военно-полевым судом приговорены к РАССТРЕЛУ! – от волнения у Полковника перехватило дыхание, он покраснел, выпучил глазки, попытался еще что-то сказать, но у него ничего не получилось. Тогда он вытер платочком со лба обильно выступивший пот и молча, совершенно будничным жестом – «батенька, велите подавать» – кивнул Станиславу.
Булат чуть помедлил, но для всех эта пауза была томительно долгой. Строй замер, в тягучей тишине слышно было, как бунтовщики часто-часто хватают воздух открытыми ртами, словно пытаясь надышаться на пороге смертельного прыжка в небытие.
Стасу почти хотелось, чтобы огонь прежнего азарта к свободе пробежал по унылой массе обреченных, чтобы нашелся кто-то, крикнувший: «ЭХ! Айда, братцы!», рванул бы внаглую прочь, и рассыпался бы понурый строй, и сиганули серые тени в лес, который вот тут, так близко, рядом.
Но нет. Стриженые головы лишь глубже втянулись в плечи в ожидании вынесенного сломавшей их силой приговора.
«Страх порождает смерть. Вы умерли, прежде чем пули разорвали плоть. Эх, ребята… Жаль. Увы, мертвецы не достойны жизни».
Стас резко махнул шашкой вниз, будто отсекая надежду, у себя, у несчастных, у застывших в напряжении зрителей.
– Огонь!
Серые дернулись и медленно, как будто в ночном кошмаре, начали кулями обваливаться на землю. Что-то живое, там, рядом с сердцем, трепыхнулось, потом замерло на секунду и начало остывать. «Душа. Остаток отмирает. Поди ж ты. Думал что все, – удивленно подумал Стас. – Впрочем, какая разница. Ты подчинился. Тебя, командира особого отряда, георгиевского кавалера, поставили перед выбором, и ты выбрал роль палача. Кому дело теперь, что иначе поступить не мог? Война все спишет. Все излечит. Кроме больной совести, конечно. Эх, кому дело до больной души бравого ротмистра? К черту! Пошла ко всем чертям! Сдохни же! А еще вчера можно было поступить иначе. Урок: не позволяй обстоятельствам диктовать свою волю. Сдался – обрел позор. А он хуже смерти. Теперь я и это знаю».
Полковник пошатнулся, лицо его позеленело. Героическими усилиями Лаевский пытался подавить подкатившую к самому горлу кислую волну желудочного сока. Полковник надувал гладко выбритые щеки, пытаясь удержать подпиравшее изнутри ладошками в лайковых перчатках, но ничего не помогало. Через пару секунд борьбы он сдался, и какая-то неведомая сила резко согнула пухлое тело пополам, словно огромный складной нож. Тимофея Ильича позорно стошнило прямо перед строем презрительно переглядывавшихся фронтовиков.
Стас никак не проявил охватившего его чувства омерзения к этому жалкому штабному вояке, который только что заглянул в пропасть смерти, порожденной его бумажной жестокостью.
В сердце Булата, словно поцарапанная граммофонная пластинка, раз за разом прокручивалась ситуация вчерашнего вечера. Можно ли было все изменить? Стас пытался отвлечься, думая о чем-то другом, но мысли, покружившись вокруг незначительных мелочей, возвращались в исходную точку.
«Что, если бы вернуть вчерашний день? Как бы я поступил? Наверное, так же. Выбора не было. Иллюзия была, но не выбор. Если бы вернуть…»
* * *
– Ваше высокоблагородие, я не палач и быть им не желаю. Прошу освободить меня и моих бойцов от вашего приказа.
Тимофей Ильич капризно сморщил, как печеное яблоко, лицо, отчего еще больше стал похож на сугубо штатского человека, которым он, в сущности, и являлся.
Проклятая нехватка кадров, точнее, подковерные интриги в генштабе, выдернули его из царства хрусталя, белых салфеток, надушенных светских дам, полированного паркета и неизменного утреннего яичка пашот сюда, в грязь, на передовую.
Смотрел Тимофей Ильич на этого бравого вояку с тремя георгиевскими крестами на выпаленной солнцем серой шинели и скривился, потому как к горлу подступила противная горячая волна, накатившая откуда-то снизу из желудка.
«Проклятая изжога. Кухня отвратительная, обслуга – хамы. В войсках – разброд. Бунт! За спиной – шипение и солдатский матерок. Боже, как я хочу домой! К дорогой моей Августине Карловне. За что, Господи?! И еще этот юнец… Думает, что он воплощенный Марс, а я – сопля гражданская…»
– Нет уж! Батенька! Дудки!
– Прошу прощения, ваше высокоблагородие?
– Смирно!
Ротмистр привычно вытянулся в струнку. Огонь, секунду назад пылавший в его взгляде, погас, отчего глаза Станислава превратились в две казенные оловянные пуговицы.
– Распустились?! Полковник вам не указ? А?!
– Так точно! – тонко прочувствовав момент для иронии, по-уставному гаркнул Станислав.
– Шельма! Я вам, ротмистр, вот так скажу. Либо вы выполняете поставленные командованием в моем лице задачи, либо… – Полковник на мгновение задумался, чем он может запугать этого тертого войной калача, – либо сами! Тимофей Ильич замахал пальцами с наманикюренными ногтями у носа провонявшего порохом ротмистра. – Слышите?! Сами! Встанете в один строй рядом с бунтовщиками!
– Есть! – щелкнул каблуками Булат, позволив себе презрительный взгляд в сторону разошедшегося старика.
Сзади, за спиной Полковника, деликатно кашлянул адъютант Алешенька. Мальчик из хорошей семьи добрых знакомых Лаевского, он позволил себе по-свойски прошептать на ухо Тимофею Ильичу:
– Ммм… ваше высокоблагородие, прошу прощения-с. Это, ммм… легенда, эээ… Булат, тот самый Булатов-Вашкевич, который под Невелем генерала Фабариуса пленил-с. Шумное дело было. Герой войны. Все газеты писали-с.
– И? – Тимофей Ильич недовольно скривил губы.
– Если его эээ… к расстрелу. Обстановка такая, что войска не поймут-с. И… будет хуже.
– Хм. Куда уж, – Полковник аккуратно протер платочком так некстати выступившую на лбу испарину. На мгновение задумался и тут же заявил громогласно, твердым, как положено военному, тоном. – Не боитесь, значит, смерти, господин ротмистр?
– Отбоялся, ваше высокоблагородие. Как по мне, так лучше смерть, чем позор.
– Похвально! Похвально… В таком случае, учитывая ваши многочисленные заслуги, желаю вам долгой жизни. Мы решили не расстреливать лично вас.
– Благодарю за разумное решение.
– Рано, ммм… рано радуетесь. Если вы по-прежнему откажетесь выполнить приказ, я своим решением отдаю команду о децимации. То есть о казни каждого десятого бойца вашего особого отряда, по жребию, в котором вы, штабс-ротмистр, не участвуете, ибо заслуги ваши перед царем и Отечеством высоко нами оценены. Но рыба гниет, как говорится, с головы, а страдать придется всему телу. Вы уловили метафору? У вас теперь есть выбор. Ха-ха, – Тимофей Ильич улыбнулся, собственная идея была в духе так любезных его сердцу штабных интриг. – Выбор! Либо бунтовщики плюс ваши неудачливые коллеги. Либо – вы исполните мой приказ. Даю вам ночь на размышление.
– Разрешите идти? – сквозь зубы процедил Стас и, не ожидая ответа, резко развернувшись всем корпусом, громко чеканя шаг подковками на каблуках, вышел.
Тимофей Ильич обиженно поджал тонкие губки, подбородок его задрожал от возмущения.
– С-скоты. Думают, Лаевский штатский прыщ? Нет-с, господа! Не угадали! Я выжгу этот ваш чертополох вольнодумия, вот увидите, Алеша, увидите. Каленым железом! Дисциплина и послушание, отныне и навсегда! – Полковник пощупал живот в районе солнечного сплетения и потянулся к карману, в котором притаились пакетики с желудочными порошками.
Алешенька, взмахнув аксельбантами, тут же ринулся к графину с водой и услужливо наполнил сияющий гранями мальцовский граненый стакан доверху.
Полковник вздохнул, взмахнул пухлой ладошкой, будто отгоняя нахлынувший гнев, высыпал на язык порошок, поморщился, закатил глаза и одним глотком опрокинул воду в горящий пищевод.
* * *
Капли толклись по замерзшей коже, струились, превращаясь в тонкие холодные ручейки, уносящие с собой остатки жизненного тепла.
Струи резали тело. Кожа слезала длинными багровыми лохмотьями, обнажая воспаленные мышцы навстречу новым болезненным каплям. Холод, страх, боль – муторный, жестокий в своей неотвратимости круговорот – боль, страх, холод, и снова… И снова.
Сергей хрипел, понимая, что спит, и нужно всего-то открыть глаза и сорвать пелену жуткого мира, в который занесло его неприкаянную душу. Но кошмар не собирался уступать, веки оказались пришиты к лицу толстыми суровыми нитками.
Тело скорчилось, забилось в судорогах. В гибельной агонии Сергей нащупал потекшее под адским дождем лицо, потрогал пальцами крупные стежки, намертво стянувшие веки, потянул вниз, пытаясь разорвать толстую суровую нить.
Каким то шестым чувством понимал, что если не порвать веки ли, нить ли (какая разница), то суждено ему остаться тут, во сне. Подкравшийся к затылку страх зашептал вкрадчиво, обещая заживо сгноить здесь, в лужах собственной растекающейся боли в плоти. Что может быть хуже, чем ощущать всеми внутренностями, каждой вопящей о сострадании клеточкой неотвратимость дьявольского этого круговорота? Как выбраться из воронки, смешивающей его телесные и душевные страдания в один кровоточащий болезненный ком?
Ничего не получалось, нити прорезали кожу пальцев. В какое-то мгновение он увидел себя со стороны.
В зеленоватом бульоне гноя, в отвратительной жиже, корчился человечек с ободранной кожей, пытающийся сорвать с лица приросшую намертво жуткую мохнатую маску.
– Сережа. Сергей!
«Господи! Голос!» – почуяв, что он не принадлежит этому мертвому миру, Сергей остатками сознания ухватился за звук из реальности, как завязший в трясине хватается за пучок береговой травы. И потихоньку, по миллиметру, по капельке пополз в сторону спасительных звуков.
– Сережа! СЕРЕЖА! ПРОСНИСЬ!
Вдох-выдох, снова вдох. Зрение вернулось прежде сознания. Долгих пару секунд Марута всматривался в обстановку полутемной комнаты. Черный купеческий шкаф, этажерка с брошенными небрежно книгами, овал зеркала на поделенной тенью пополам стене, женский силуэт у окна, напоминающий ангела, раскинувшего прозрачные крылья из клубов папиросного дыма.
Мира. Сергей совершенно по-детски зажмурился, пытаясь отогнать наваждение. Реальность была слишком хороша, и поверить в нее сейчас означало бы впоследствии получить слишком сильную боль от разочарования.
Но Мира в полупрозрачном шелковом пеньюаре никуда не исчезла. Грациозно изогнув тонкое запястье с дымящейся длинной папироской, она безучастно смотрела в темное окно.
Мертвенно-синие лучи уличных фонарей пробивали тонкий шелк, подчеркивая плавные очертания тела. Полутени плясали по острым, словно вырубленным из мрамора, плечам, прятали общий образ, но выхватывали из мрака мелкие детали, за которые цеплялось воображение: струящиеся завитки волос на контуре шеи, пушок на тонкой, вытянутой к свету, руке.
– Ты опять задыхался во сне, – Мира отвернулась от окна, взгляд Сергея тут же зацепился за острые бугорки сосков, бесстыдно оттопыривших шелк на упруго колыхнувшейся груди. – Не смотри. На мне узоров нет.
– Ты самая красивая.
– Я знаю. А ты псих. И не удивлюсь, если однажды умрешь во сне. Некому будет разбудить, и умрешь.
Сергей улыбнулся. Одним быстрым движением вскинул поджарое тело с панциря кровати, в доли секунды схватил женщину в крепкие объятья и зарылся носом в копну распущенных волос.
– Нет, Мира. С нашей жизнью помереть в постели вряд ли получится.
– Это хорошо. Не хочу стареть. Не хочу отвисшую грудь, дряблые ягодицы, б-е-е-е… фу. Поэтому живу на полную катушку. Дышу. Воюю. Люблю.
– Меня?
– Глупый. И тебя, дурачок. Если бы не любила, была бы приличной женой Бориса. И ему бы не было больно оттого, что я не пришла сегодня ночевать.
– Останься со мной. Полностью. Плюнем на весь этот бардак. Поселимся у чистого озера в спокойной европейской стране. Только кивни, дай отмашку. Горы сверну. Все будет.
– Это что? Предложение? А, Вашкевич? – Мира прикрыла ладошкой губы, чтобы скрыть озорную улыбку.
– Ты догадливая. Выйдешь за меня?
– Ох. А ты мне что?
– А я тебе – все. Что захочешь. Богатство. Покой. И всего себя до кучи.
– Заманчиво, Марута. Только ты забыл, что я немного замужем, что Бориса я тоже, по-другому, но люблю. И что впереди у меня, у него, у нас, вполне вероятно, каторга или смерть. И что я плохая жена и не хочу быть матерью… И еще тысяча этих «что, что, что». Ты ведь хочешь детей, Марута?
– Конечно.
– Вот и найди себе нормальную бабу. Она тебе борщ будет варить. Сидеть с тобой у камина. Жалеть тебя, убогого. Будить, чтоб не помер ночью, не дай Бог. Ты нормальный мужик, в отличие от…
– Бориса?
– … Думаешь, он не знает, что я с тобой? Я ведь ему сказала. Сразу же. После первой нашей ночи. Он все знает. Ты бы на его месте как себя б повел?
– Убил бы тебя, – безжизненно ответил Сергей. Он поднялся, на этот раз тяжело, забрал папироску у Миры, сел на край кровати, свесил на грудь потяжелевшую от огорчения голову. Затягивался тяжко, пуская дым вниз, к дощатому полу. Мира, подумав о чем-то своем, потаенном, примирительно погладила его по взбугрившейся мышцами спине.
– Вот видишь. Ты обычный мужик. Дуешься. А для Бориса нет условностей, он уже там, в новом мире, который мы строим. Женщина, к твоему сведению, – это не собственность, а личность. И Боря ценит не только свою, но мою свободу тоже, мое право поступать так, как я хочу.
– Козел твой Боря.
– Ты тоже, Марута. Не обижайся. Впрочем, я выбираю тебя. По крайней мере, сегодня.
– А завтра? Как?
– А завтра ты и я едем на Северный фронт агитировать против этой дурацкой войны. Готовь чемодан.
– С какого перепугу так вот вдруг? Что еще за новость?!
– Это не новость. Это приказ. А мы с тобой люди партийные. Что у нас за неподчинение бывает?
– Знаем, плавали. Думаешь, Боря хочет убить тебя?
– Меня? Нет, конечно. А вот тебя – точно! – искренне рассмеялась Мира.
– Не ревнует, говоришь? С глаз долой из сердца вон. Ну, и чем тогда твой муженек отличается от меня?
– Ты прав. Почти ничем. Все вы собственники и самцы. Но он мой. А ты пока нет. Собирайся. Завтра в шесть утра выезд с Царскосельского.
– Черт. Только с братом нашлись. Младшим. В универ зачислили. Вечером договорились встретиться.
– Встречайся, успеваешь. И еще вот что… Не грусти, Марута. Живи моментом.
Мира одним плавным движением стянула с себя невесомый шелк, глаза ее увлажнились, стройное тело похотливо выгнулось.
Сергею захотелось вспылить и выбросить вертевшую им как хочет сучку из постели, но Мира улыбнулась так по-детски искренне, что вся злоба куда-то испарилась. Сергей раздвинул торсом напрягшиеся ноги любимой и лег сверху, вжав хрупкую фигурку в тряпичный матрас. Еще мгновение – и он, забыв о пустых обидах, яростно целовал податливые губы, вбивая в кровать стремящееся навстречу покорное тело.
* * *
Невский насквозь пропах пирожками. Запах прибивал мысли о высоком. Как ни пытался Мишка не обращать внимания на аромат, вспоминая мудреные слова, закинутые в подсознание умными лекторами, но желудок ворочался и стонал, требуя забросить в него хоть что-нибудь. «Амфибрахий, анапест, синекдоха, гекзаметр, оксюморон», – чуть не вслух бубнил голодный юноша, шаря рукой в дырявом кармане пиджака в робкой надежде найти закатившийся за подкладку медяк. Но мечты не сбылись, ибо такова бедная студенческая жизнь, почти как в дурацкой университетской песенке: «ни копейки в кармане, и желудок пустой, свой ботинок жует студент молодой».
– Черт, жрать-то как хочется! – простонал семенящий рядом коротышка, новый приятель Мишки, соратник по снимаемой комнате Костя Зубенко.
Аккуратно прилизанный бриллиантином, мелкий, на высоченных каблуках, Зубенко был всегда голоден и, наверное, потому всегда зол, сварлив и циничен. Злая фамилия не очень подходила конопатому с широким мордовским лицом наследнику небогатых торговцев из Вильно.
Впрочем, пытаясь как-то компенсировать субтильность внешности, при каждом знакомстве Костя жал протянутую ему ладонь со всей мочи своего отнюдь не богатырского тела, делая при этом зверское лицо, должное означать, что он, Зубенко, – парень серьезный, жесткий, быстрый на расправу. Впрочем, нарочитая напыщенность и высокомерие «метра с кепкой» никак не вызывали уважения, так страстно желаемого Константином, а скорее наоборот – провоцировали едва сдерживаемое недоумение, зачастую переходившее в смех.
Любому пытливому взору сразу было понятно, что Костя страдает целым букетом рефлексий, чудным образом смешавшихся в его быстром мозгу в странный коктейль: что-то среднее между манией величия и комплексом неполноценности.
– Главное не думать о пирожках! – дружески посоветовал Мишка.
– Ладно. Я не буду думать о твоих пирожках, а ты тогда не думай о моем горячем гороховом супе с подкопченными свиными ребрышками. И о яичнице с шипящими в жиру шкварочками, с багетом, румяным таким, как девица в мужской бане, – тоже не надо думать.
– Ты издеваешься? Я по-человечески просил! Ни слова о еде, пока не получу гонорар. Пять газет взяли статьи. Так что шансы есть. Давай о высоком.
– Мне папаша только первого числа зачислит. Эх, через недельку – расстегайчики с зайчатинкой! Понял. Не в ту степь. Отвлечемся! Так какого этого самого ты меня ведешь в шапито?
– Я веду? Наглец! Это ты увязался! Не «в» а «к» шапито. Почувствуй разницу. И у меня там деловая встреча. С братом родным. Чуть нашлись. Полгода искались по всему Питеру.
– Так я чего? Может, брательник деньгу подкинет. Картохи купим. Я, знаешь, какой мастак картоху жарить? Мня-мня-мня!
– Заткнись. Или…
– Или чо? А?! Ну! Договаривай! – настроение у Зубенко резко изменилось. Он запетушился, да так, что лицо побледнело и тут же пошло багровыми пятнами. По плотно сжатым кулачкам психа было понятно, что опять задеты какие-то глубинные струны раненой души, и недомерка тянет выяснить отношения, чтобы в который раз получить по широкой роже.
– Все. Выдыхай. С твоей злостью, Константин, сторожем надо работать.
– Серьезно? Надо подумать. Хорошее дело. Тем более что днем я занят. А ночью… Дай мне винтовку, мышь не пробежит. Спасибо за совет.
– Не за что. Я вообще-то шутил.
– Дурак ты, Мишка. Это ты так думаешь, что шутку пошутил. А это – ценная мысль! Получать деньги ни за что. Мечта! К этому надо стремиться!
– Надо заявить о себе. Вот мечта. А деньги… всего лишь приятная добавка к успеху.
– Ой! Деньги нас, видите ли, не интересуют. Скажи, что слабак и характер у тебя мягкий, поэтому статьи твои во всех оппозиционных газетенках на самом видном месте, а гонорары – тю-тю – зажимают. Бери меня агентом, я наши денежки вместе с кровью высосу!
– Сам разберусь.
– Ну? Вот я и говорю – слабак!
* * *
Настенные «Леруа» лязгнули неприятно, привычно отбивая получас. Сергей лежал на кровати, смотрел на Миру, застегивающую очередную из двух десятков пуговичек, выстроившихся в два ряда на плотно облегающем платье.
«Моя женщина. И не моя. Странное чувство. Почему рядом в тени радости встречи всегда можно рассмотреть притаившуюся будущую печаль расставания? Проклятое свойство ума – ожидать и предвидеть грядущие неприятности и проблемы. Полезное, да. Без него погиб бы давно, случаев было предостаточно. Но предугадал. Предвидел. Был готов. Так же, как с Мирой. Понятно, что мы с ней слишком разные. Кто я для нее? Попутчик? Очередное увлечение на данном отрезке жизни? Наверняка. А она для меня? С чем сравнить? С воздухом, наверное. Когда есть, не замечаешь. Но стоит лишь чуть-чуть отдалиться, исчезнуть из дней – беда, дышать нечем. И только одна мысль – хотя бы один глоток ее, любимой».
– Все! – удовлетворенно выдохнула Мира, пригладила узкими ладошками складки на шелке и бросила взгляд на зеркало. Критически осмотрев отражение, поправила шпильку в аккуратно собранной шевелюре, поморщилась и поджала губы. В ее взгляде читалось «вид не очень, но в принципе сойдет».
– Марута, чего разлегся? Встреча с братом! Ау!
– Ч-ч-черт! Что с головой! – Сергей вскочил и засуетился по комнате в поисках разбросанной одежды.
– Ты бываешь смешным! – рассеянно заметила Мира. – Завтра в шесть утра! Царскосельский. Билеты у меня. Постарайся не опоздать. Я сама кордон вряд ли смогу перейти. Борис упирался, но там же твои родные места.
– Так это не он? Это ты меня выбрала?
– Догадливый мой. Но нет. У нас новый руководитель ячейки. Товарищ серьезный, каторга и побег за плечами. Откуда-то слышал про тебя. Его решение, – Мира потрепала Сергея по макушке, как бы показывая, кто здесь хозяин ситуации, и быстро вышла. Через секунду только шлейф тонкого, едва уловимого аромата, напоминал о ее присутствии.
Пока Сергей яростно натягивал никак не собирающийся сдаваться сапог, в проеме дверей нарисовалась фигурка щуплого китайца.
– Добрая баба! Гыромко э кричала, да! Здоровая, да! Один мужика мало совсем! Горясяя! – подытожил дедушка Лю и затянулся из длинной трубочки, источающей сладковатый дым. – Собирася быстрей!
– Куда уж быстрей! Где кепи? Не видел?
– Вона тама. На голове стоит узе. Иди. Твой враг! Ы ждет внизу. Да-а-вно! Чай его поил, долго. Озидание потому сьто! Баба не любит, когда у мужика дела иметь, когда ему бабе надо шурум-бурум делать. Пирирода!
– Какой враг? Дед, ты опия обкурился?
– Обныкновенный. Яська Цейтлин. Враг! Гырустный такой. Дело ы есть, говорит, к Сирегей, да. Пласть козяный, чорны, хороший, одевала ся! Усы тозе ы есть! Сиреезный тиловек стал! Тюрема, говорит, долго сидел, э. Тюрема тиловек шибко меняет! Ты ево тута не убивать не надо. На помойке уходите, отень лучшее место! Кыровь не видно!
* * *
За разговорами и выяснением отношений товарищи сами не заметили, как подошли к разноцветному цирковому шатру, раскинувшемуся прямо посреди парка.
Огромная афиша, намалеванная ядовитыми тонами на внушительном размера куске парусины, растянутом между двух фонарных столбов, выедала глаза аршинными буквами: «Цирк бр. Никитиных!» Чуть ниже, под картинкой с изображением дамы в трико, развратно вскинувшей ноги на велосипедное колесо, можно было рассмотреть анонс представления: «Отборные нумера клоуно-юмористических и конно-гимнастических искусств с комической пантомимой! По вечерам «Туманныя картины!» Только у нас идут обе серии «Фантомас»!
Вывеска произвела на Костю неизгладимое впечатление. Глаза его загорелись недобрым светом.


