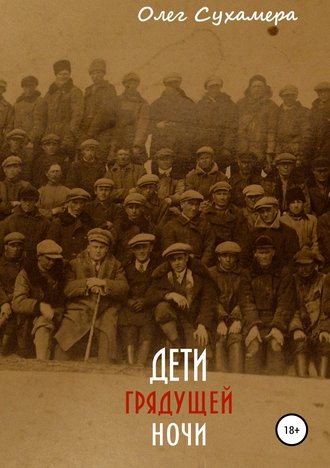
Олег Сухамера
Дети грядущей ночи
Половой вопрос решался, но через пень-колоду. Приходилось ездить в район к одной, работающей еще с царских времен, курве. Было противно платить деньги за бездушное дряблое тело, лениво колышущееся под жарким Васькиным членом. Древняя и холодная, как городские валуны, шлюха спецом и демонстративно поглядывала на часы в самый неподходящий момент душевного прилива. В такие моменты Васька расстраивался нешуточно. Проходила неделя-другая, и буйное мужское естество по новой отрубало неприятные воспоминания, бросая пьяного Ваську в объятья блеклой потаскухи.
Богу ли было так угодно, черту ли, но грезилась ему худышка, с которой столкнула судьба той памятной ночью, когда пришлось отмахать восемь верст по грязи и лужам из-за одурманенного панским ядом старика-возничего. Сталкивались пару раз в лавке. На попытки заговорить деваха лишь язвительно улыбалась и делала вид, что глуховата и ничего не слышит. Такое неприкрытое неуважение задевало Васькино самолюбие. Несколько раз даже пытался выяснить отношения, но разговор обычно затевался по пьяной лавочке, когда хватало решимости. Видно, поэтому дело заканчивалось просто: суровая мать девки, Софья, замахивалась ухватом, приходилось ретироваться, чтоб не огрести по полной.
В этот раз было бы так же, если не случай. Стучал в окошко долго, не рассчитывая, что откроют, долбился больше для проформы и от пьяного отупения. Неожиданно, но все ж горячая Софья, не выдержав осады, отворила сенцы.
– Вали, пьянь, чтоб духу твоего тут не было! Сыновьям скажу, ноги тебе переломают, «жених»!
Васька думал было как обычно ретироваться, но неожиданно для себя, распетушившись, доковылял до крыльца и на пьяном кураже проорал, брызгая слюной в самое ухо Софье:
– А вот на! Дулю с маком! Выкусь-накось, мамаша! С сынками вашими разберемся. Я тута власть, ежли кому непонятно! И аще! Сватаюсь! К дочке вашей, Ганне! Любовь и все такое прочее… Принимай, маманя, зятя!
– Иди проспись, «зятек», еле лыко вяжешь.
– Нет, мать. Все сурьезно! Сваб-дя – через неделю! А если против будете, выселю к ибеням из хаты без пожитков. И хрен кто на постой вас возьмет! Потому что мой приказ такой будет. Мое, мамаша, мнение главней всех, кто раскулачиванию подлежит, а кто середняк… Смекаешь? То-то…
– Как же так? Ты серьезно, что ли, ирод? – голос Софьи предательски дрогнул, она даже обернулась испуганно, не слышит ли дочь?
– Не согласныя? Могу и силком взять, ежли такая родня не по скусу. Имущества завтра подлежит эспо… про… пре… ации – вот! Подчистую! Или… Думай, мать! Ответ желаю получить завтра. Прощевайте, теща дорогая! Решай! Но! Запомни, старуха! Мое тута командование! Наше теперича время… Ваше – фьють – прошло… эт самое.
Сознание помутилось, и Софью повело, пришлось опереться плечом о дверной косяк. На глаза навернулись слезы. Как в тумане смотрела на хлипкого утырка, который выписывал ногами затейливые кренделя, пытаясь выкарабкаться из путаницы чужого забора.
Понимала, не шутит. Вспомнились зажиточные Далецкие, которые «благодаря» Ваське с бандой христарадничали теперь по окрестностям, и беременная неизвестно от кого из своры Ядвига, которую снасильничали прямо на глазах у мужа, пана Мурашкевича, и сожженный дом кулаков Залесских, и сломанный хребет подростка Кудзели, вступившегося за избитого батьку, и еще много-много чего…
Осела на крыльцо, обхватив голову руками. Плакала молча, кусая губы до крови от безысходности и бессильной злобы.
* * *
Войцех набрал кипятку в медную плошку с длинной ручкой, согнулся в три погибели, чтоб не зацепить низкий прокопченный потолок, осторожно подкрался к раскаленной груде камней, сложенной прямо внутри склепанной из толстых кусков железа банной печки и потихоньку, струйкой, чтоб булыжники справились и не остыли прежде времени, начал поддавать жару.
Камни зашипели недовольно и стали выбрызгивать тысячи мельчайших капелек, мгновенно окутавших парильню густым горячим туманом.
– Ото дело! Еще? Или досыть? – Войцех пригнулся еще ниже, потирая горящие от жара уши.
Стас заворочался на узком полке, пытаясь растянуться во весь рост. Расслабляясь, чувствовал, как жаркий пар проникает в легкие, раскаляя их изнутри, и прет дальше, проникая через стенки сосудов в кровь, разогревая ее, растворяя все дурное и тяжкое, скопившееся и висящее тяжким грузом, выдавливает наружу с горькими каплями пота подселившихся тихих бесов, имя которым тяготы и горечь раздумий.
– Давай, поливай, друже, не стесняйся, коли не слабо!
– Эге! Кому мне? Ты, батька Булат, хоть и командир справный, супроть мине в банном деле – сущее дитя! Сам попросил. Ох! Тады держись! – Войцех плеснул в горячее жерло всю плошку и тут же присел на корточки, прибитый вырвавшимся потоком пара. – Ох, ты ёж твою ж дивизию!
Стас заухал от удовольствия, с удивлением отметив про себя, что почти смеется. Мышцы расслабились и словно замурлыкали, все тело накрыло волной той светлой радости, которая присуща лишь детям и животным, не несущим за пазухой тяжелых камней.
– Погодь-погодь! Глазюки-то не закрывай! Ща тока все начинается! Табе якой? Бяреза, али дуб? Бярезовым – для расслабленья, дуб – он силы даеть!
– Много болтаешь. Маши давай, на свое усмотрение…
– Ну, дак… Бярезой, значится!
Стас почувствовал, как над спиной завертелись тысячи мелких мошек. Они кружились, ползали по коже, покусывая нежно и исподволь, разогревая спину, превращая ее в нечто подобное тающему под жарким солнцем сугробу. Запахло березой с едва уловимыми нотками дыма.
В кои-то веки на короткое счастливое мгновение под щедрыми ударами веника Стас перестал быть и командиром полка, и батькой Булатом. Забыл о сжимающемся кольце немецкого фронта, проблемах с довольствием, обмундированием, о людских потерях, вынужденной жестокости своих приказов и о черт-те каким образом избранной полком красотке упертой комиссарше Мире и о Сергее, с которым были родными по крови, а стали чужими по духу, и о тысячах, десятках тысяч искалеченных войной.
Булат потек, расплавляясь под жарким паром, превращаясь сам в него, растворяясь и улетая, становясь никем, забыв обо всем… обо всем… обо всем…
Из сладкого небытия выдернул скрип двери и образовавшаяся тотчас же пауза в ритмичном движении веника. Стас открыл глаза и обнаружил застывшего в напряженной позе, точно спаниель на охоте по перу, Войцеха. Картинка стала еще забавней, когда Булат увидел, что ефрейтор судорожно пытается спрятать за веником причинное место. Впрочем, через секунду он и сам почувствовал себя не в своей тарелке: из клубов медленно оседающего пара, словно полуночный морок, проступила обнаженная женская фигура.
Призрак плыл в дымных слоях, переливаясь жемчужным сиянием. Неповоротливый спавший доселе зверь заворочался внутри Булата. Древний, сильный, он жадно внюхивался в жаркий воздух. Как будто впитывал ощущения, переводя взгляд с тонкой талии на плоский гладкий животик, на изящную грудь с острыми, развернутыми наружу розовыми сосками и, наконец, уперся в темный треугольник волос на лобке женщины.
– Ефрейтор, если не трудно, попрошу вас выйти. Есть вопрос к товарищу командиру личного характера.
Как ни в чем ни бывало, обыденно, одним мягким движением Мира вытащила шпильку из густой шевелюры, и на худенькие ключицы тут же упала густая русая волна волос, почти полностью скрывшая наготу.
– Есть! Вашбродие! Тьфу ты! Товарищ комиссар полка! Сию минуту! – Войцех, как ошпаренный, длинным прыжком скаканул в проем двери, не забыв попутно от всей души приложиться лбом о низкий косяк.
– Ой-ёй же, мля, на фиг… – застонал за дверью несчастный.
Мира искренне рассмеялась, продемонстрировав вконец опешившему Булату ослепительно белые зубки, хищно сверкнувшие в изгибе пухлых губ.
* * *
Не спалось. Сергей пробовал курить, но горький дым не приносил удовольствия. Отупело смотрел на смятую постель, точнее, на ту половину, где сейчас должна была лежать Мира. Сердце щемило в неприятном предчувствии. Хотя каком к черту предчувствии? Ни боя, ни осады, ни караульного обхода или затянувшегося штабного совещания – не было ни одной причины, по которой его женщина могла бы не ночевать тут, рядом с ним.
Ежился, смотрел в узкое окошко, за которым начало сереть, перемалывал тягостные думы. Торкал окурок за окурком в маленькое кладбище на подоконнике.
Скрип дверей воспринял с облегчением: какая-никакая, а ясность, которая вот-вот переступит порог. По пробежавшему между лопаток сквозняку почувствовал, что Мира уже здесь. Не обернулся, лишь затянулся поглубже опротивевшим за ночь дымом.
– Так и знала, что не спишь.
Сергей не ответил, понимая, что за этим ничего не значащим началом последует разговор, после которого все уже будет не так, как было прежде.
Он ловил себя на мысли, что трусливо тянет время, мгновения, когда все уже понятно, но все еще может быть хорошо. Но крошечные капельки спасительной неизвестности испарялись все быстрее, оставляя после себя странный аромат отчуждения и напряженности.
– Не молчи. Надо поговорить, – Мира попыталась было приобнять Сергея сзади за поникшие плечи, но, почуяв молчаливое сопротивление, осеклась и, разозлившись от собственной неловкости, заговорила, подпуская в голос стальные интонации. – Что ж… Так и молчи, как дурак. Если хочешь знать правду, спроси, я отвечу.
– Давай, – Сергей повернулся, обхватил себя руками, словно пытаясь защитить сердце от предстоящего укола. Оценив пылающие припухшие губы любимой и предательский блеск глаз, скривился, заиграв желваками щек. – Ну и? Кто этот счастливый?
Мира едко улыбнулась, прищурилась и, смело вздернув кверху аккуратный носик, выпалила:
– Женщина – такой же человек, как мужчина! Ты забыл, видно. Я не вещь. И даже не твоя жена. Ты собственник, Сережа, а я – революционерка. Господи, да мне блевать охота от одной мысли об этих ваших моральных ценностях. Сгнило это все! Нету! Ты, идиот, еще там, в болоте патриархальщины дурацкой. Не можешь осознать: рядом с тобой не баба, а я – человек нового мира. Человек, для которого свобода – не пустой звук. Свобода! Вот ценность. Во всем, Сережа! В постели, в миру, в отношениях! Если не понимаешь этого, уматывай от меня куда подальше. Либо так, либо никак!
– Мало, что ли, одного мужика?..
– Тупо! А впрочем… Да! Мало! И скучно! Мне жить хочется. Каждую секунду! Всем телом! На полную катушку! Хочешь ударить?! Попробуй! Только не плачь потом…
– Не бойся. Переживу… свободу твою. Авось, не все время так будет. Так кто он? Скажешь?
– А и скажу, Сереженька. Уверен, что хочешь знать?
– Уверен. Люблю тебя. Такая вот болячка…
– …Брат твой. Стас. Булат. Ну? Как тебе? Нравится ли правда?
Сергей замер, в глазах его заплясали шальные искорки. Ночной бес яростно зашептал на ухо: «Вот она – шашка, рядом, стоит у стены. Руку протяни. Шась! С потягом… поперек шеи, чтоб забулькала кровью и издохла ведьма! Хватит! Сколько терпеть унижения?»
С трудом отогнав наваждение, тяжело, сгорбившись от непосильной ноши неприятного знания, подошел к постели и лег на спину, вытянувшись во весь рост так, что захрустели суставы.
– Ясно… – Сергей закрыл глаза. Прибитый и подавленный, с начисто выпотрошенными эмоциями, он сам не заметил, как привычно соскальзывает в бездну сонных кошмаров.
* * *
Штаб находился в обычной крестьянской избе. Офицеры уселись за столом, по центру которого белым квадратом зияла обтрепанная карта, курили, пили чай, ждали Миру: совещаться без комиссара в рабоче-крестьянских войсках было не принято. Стас расположился в центре. Он нервно постукивал карандашом по деревянной столешнице, внутренне проклиная себя за вчерашнюю слабость. Гадко было на душе и от того, что предстоит тяжелый разговор с Сергеем, и от того, что не время всему этому. Вершиной отвращения к себе служило то, что переспал не просто с женщиной брата, с комиссаром, по сути, вторым лицом в полку по значимости после него самого. Оно и раньше шло не очень уж гладко. Не было дня, что б не находила коса на камень: Мира гнула линию партии с дурацкими приказами из центра. Стас же пресекал ее лидерские потуги на корню, благо позволял опыт и заслуженный в боях авторитет.
Мира влетела стремительно, как ни в чем ни бывало, не извиняясь и не испытывая малейших угрызений совести. Скрипя новой кожанкой, плюхнулась прямо напротив Стаса, попутно успев одарить его озорными лучиками серых глазищ, в которых читалось «я все помню. Было здорово!»
Пытаясь как-то избавиться от проклятого смущения, внутренне чертыхаясь и проклиная ведьмины чары, Стас нарочито сухо начал совещание.
– Господа… кхм… товарищи офицеры. Оперативная обстановка такова, что провизии осталось на три-четыре дня. Если не предпринять решительных шагов по захвату каких-либо складов с провиантом, то о боеготовности полка можно забыть. Есть всего два варианта: штурм немецких укрепленных позиций в направлении северо-запада. Железнодорожный узел, склады с провиантом и оружием, – Стас потыкал карандашом в карту. – Все, что нам нужно. Правда, есть одно но: потери могут быть значительными. На нашей стороне фактор неожиданности, у немца – превосходящие силы, колючая проволока с электрическим током, пулеметы, артиллерия.
Стас тяжело вздохнул, услышав, как тертые в боях офицеры засопели: никому не улыбалось лезть на рожон, и продолжил:
– Либо штурм Пскова, что еще безумней. Других вариантов, увы, нет.
– Есть, товарищ краском! – Мира, победно улыбаясь, полезла узкой ладонью за отворот кожана, и, порывшись в его недрах, извлекла смятый листок бумаги с криво приклеенными на него обрывками телеграфной ленты. – Только что получила! От самого заместителя товарища Троцкого товарища Гвоздева. Мира уткнулась в бумажку и с придыханием, будто читая стихи, нараспев, зачитала. – Приказ! Товарищи… Так… Краскому Булатову. В срочном порядке выдвинуться полком в направлении Полоцк – Витебск для примерного подавления вспыхнувших там крестьянских бунтов. Все полномочия! Любое неповиновение сурово карать по всей строгости революционной необходимости. С революционным приветом, Гвоздев.
Стас нахмурился. Вот и первая бяка вылезла боком. Явная провокация. Такие вещи выносить на общий суд, поставив перед фактом… Ну Мира… ну товарищ комиссар. Впрочем, уже вчера тебе, дураку, должно было втемяшиться, что совести, не говоря о порядочности, у этой сладкой сучки ни на грош. Проглотил горькую пилюлю, не выяснять же отношения перед штабом? Лишь поморщился в ответ на задорный тон комиссарши.
– Товарищ Гвоздев предлагает нам воевать с мирным населением?
Мира ядовито осклабилась:
– Нет, товарищ Булатов, замнарком не предлагает, а приказывает, – Мира повысила голос, чтобы слышали все. – Товарищи! Там, где крестьяне, там и провиант, фураж, хлеб, скот – все, что нужно для боеспособности полка. Без авантюр и потерь, заметьте. В духе революции – малыми усилиями максимальный результат!
Стас поймал себя на мысли, что любуется горящим взглядом Миры, напряжением ее вытянувшегося в струнку, готового вот-вот воспарить над столом тела. Помимо желания просочились в мозг ядовитые, но от того еще более прекрасные воспоминания вчерашней ночи.
Одна часть Булата холодно контролировала бабскую стратегию комиссарши, отгрызающей сейчас, в данный момент, свою часть власти от его командирского авторитета, вторая – наводила морок назойливыми картинками.
Стас с ужасом понял: он знает, ЧТО там, под бугрящейся кожаной курткой, его ладони помнят упругость и теплую податливость не строгой комиссарши, а той обезумевшей женщины. Что он хочет снова и снова кружиться с ней в сумасшедшей карусели совместной похоти. Словно молния озарила мысль, что он, батька Булат, тот самый служака до мозга костей, готовый голову сложить за общее дело, вдруг поплыл, разъедаемый этой сладкой ржавью наклевывающейся привязанности. Сполох высветил бесстыдно, как провисли вросшие в душу, казалось бы, навечно прежние цепи моральных оков и норм. То, что еще вчера было частью его самого, сегодня показалось неважным, чужим и холодным.
Кровь забурлила, Стас почувствовал, как по венам побежали пьянящие радужные пузырьки: «Я сам себе закон. Что выше моего желания? Кто этот цензор, шепчущий «нельзя»? К черту приличия, к чертям рабство! Что мне условности? Кто усомнится в моем праве на нее, – враг мне. Плевать! Хочу … будь, что будет».
* * *
«Свадьба. С детства представлялось: белое платье, череда празднично украшенных повозок, горсти щедро рассыпаемого над головой зерна, бабки, выводящие скрипучим многоголосьем:
Ой, сівы конь бяжыць,
На ім бела грыва.
Ой, спанаравілась,
Ой, спанаравілась
Мне тая дзяўчына…
А рядом, рука об руку, он, пока не проявившийся толком из смутных девичьих грез, но точно – высокий, надежный, родной…
Сколько слез пролилось за эти бессонные ночи? Хотела даже утопиться, но жалко стало себя, свою бессмертную душу, Софью, которая за эту неделю постарела на десяток лет».
Ганна смотрела на пьяную орущую кучу чужих людей, которых и мысли никогда не было пригласить в дом – брезгливо, а вот, поди ж ты, гости на ее свадьбе. Ушлепки, бородатые, неряшливые, наглые, с такими же противными тетками, как сами.
Перебравший Юзик, слегка покачиваясь, встал с длинной лавки, сооруженной Васькой наспех из двух табуретов и доски, оторванной от сарая, по укоренившейся привычке зыркнул налитым глазом на золотые часы и, вальяжно хрюкнув, загундосил:
– Мне эта! Хочу сказать! Ты, Ганка, девка справная, фигуристая, сиси-писи, все дела! А чо? Правда ж…
Весь комитет бедноты в полном составе, с женами и многочисленными босыми отпрысками, дружно заржал. Со всех сторон посыпались сальные шуточки.
– Василь Петрович, а Юзик-то на твою, нябось, вока положыу! Держи, таго… ухо востро!
– А хрен еще острее!
– Юзик, ци прауда, што у цябе, як у каня?
– Бабка Базылиха казала. Ого!
– Тольки не стаить!
– Га-га-га!!!
Васька толкнул под столом коленом, да так больно, что Ганна вспыхнула, собираясь пнуть в ответ, но сдержалась, вовремя вспомнив, что это блеклое чмо, отныне и во веки вечные ее муж. «Что ж, будем терпеть». Васька, скривился и зашептал, тыча небритой щетиной в ухо:
– Вставать надобно, слы, овца. Не ясно? Когда гости тост говорят. Свадьба…
Ганна, мило растянула губы в подобии улыбки и громко, чтоб все слышали, ответила:
– Кого гости, тот пусть и встает. Я их сюда не звала!
Васька залился румянцем, запыхтел и кое-как приподнялся со стула:
– Товарищи! А невеста шутит! Раз пошел такой шутейный разговор! Предлагаю не обижаться! Юзик, прошу продолжать.
Юзик, потеряв мысль, опять вперился было в часы, но тут его снова озарило:
– Я к чаму? Достался тебе, Ганка, орел! Мужик! Ты это самое – поласковей! Чтоб, это самое, жопой не крутила! Кады муж сказау, тады и у койку! И по хозяйству, чтоб пожрать, это самое, было в лучшем виде! Детак каб наражала! Да поболей! А коли командир наш не смагеть, – Юзик сделал паузу и похабно подмигнул Ганне, – так мы не гордыя, эт самое, обрасчайся в комитет – падмагнем! Па-быстренькому!
– Га-га-га!!! Ух! Га-га-га-га! Горько! Горь-ко! Горь-ко!
Ганна не успела понять, как крепкие Васькины руки, больно сжав плечи, выдернули ее, подняв со стула, а через секунду слюнявый колючий рот прилепился к ее губам. Стало жарко и так мерзко, что в голове помутилось, чувствовала, как липкий чужой язык пытается проникнуть в рот, как больно, с пьяным глумом, Васька мнет ладонью ее грудь. Ее горло сжалось, не давая вдохнуть спасительный воздух, а руки сами собой выпрямились, отталкивая мерзость подальше. Будто в тягостном сне, медленно и беззвучно, Васька покачнулся, заворочал глазами, ничего не соображая, попытался было опереться на стол, но промахнулся и враскоряку полетел на пол, сгребая за собой тарелки с щедро наваленными в них кислой капустой, чугунки с бульбой, блюда с селедкой и салом.
Пьяные гости, впечатленные неожиданным цирком, загоготали пуще прежнего, заходясь в смехе и чуть ли не похрюкивая от удовольствия.
– Га-га-га!!! Хр-хр!!! А-а-а-а!!! Га-га-ггг!!!
Покрасневший Васька вскочил ошпаренным петухом, набычился, с ненавистью посмотрел на брезгливо вытирающую рукавом губы Ганну и, не в силах справиться с накатившей злостью, залепил ей смачную оплеуху с полным мужниным правом, со всей подогретой самогонкой дури.
Ганна схватилась за щеку, из глаз веером брызнули слезы, а в животе что-то рвануло и поперло наружу через горло. Ганна скрючилась, в глазах ее померкло, по всему телу пробежала дрожь.
Тошнило желчью, не ела несколько дней, и, такая незадача – прямо в красный угол. Корчилась, изгибаясь, выдавливая из себя всю скопившуюся ненависть к проклятому жениху, к его вонючей шобле, к себе, согласившейся, изнасиловавшей себя ради спокойной жизни. Хата вращалась, что та заезжая полоцкая карусель на ярмарке. Зазвенело в ушах, слышала только ревущую Софью: «Прости меня, доченька! Прости! Ганночка! Дура я старая! Дура!» – и истерический, даже не смех, визг беснующегося красного хоровода вспотевших морд.
– И-и-и-и!!! Га-га-га!!! Хр-р-р-р!!! Ох-о-о-о!!! Хэх-эх-эх!!! Га-га-га!!! Ух-ух-ух!!!


