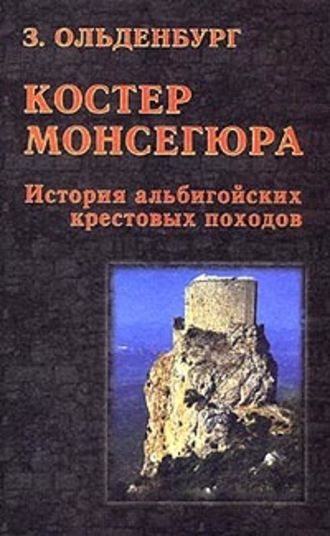
Зоя Ольденбург
Костер Монсегюра. История альбигойских крестовых походов
Ритуальный текст, которым мы располагаем сегодня, определенно восходит к очень древней эпохе (хотя две имеющиеся версии, одна на окситанском языке, другая на латыни, датированы XIII веком). Был ли этот текст завезен с Востока и переведен болгарами? Где и в каких условиях он хранился и каково его истинное происхождение? Он составлен по большей части из цитат из Евангелия и Посланий с бесконечными ссылками на Отца, Сына и Святого Духа и на евангельские эпизоды. Его мог бы одобрить любой правоверный католик; читая его, чувствуешь аромат и мощь первоначального христианства, а вовсе не теологические спекуляции секты, которой приписывают еретическую доктрину. Там нет ничего, что хотя бы отдаленно указывало на манихейский дуализм, отрицание Воплощения и Причастия, на теорию метемпсихоза; наоборот, там есть утверждения о крещении водой, противоречащие катарской доктрине. Из всего этого можно заключить, что текст намного старше самого учения. Но уже сам факт, что катары (которым не были чужды ни дерзость, ни вкус к теологическим спекуляциям) не пожелали ничего в нем менять, говорит о том, что ритуал прекрасно выражал доктрину, а «заблуждения», в которых их упрекала католическая Церковь, были в учении, по всей вероятности, вторичными и относились к космогонии и к философии жизни, а не к существу веры.
Если же судить о религии по молитвам и обрядам (а пока еще это лучший способ суждения), то немногие уцелевшие катарские тексты могут только заставить нас склониться перед их простотой, ясностью и возвышенностью. Этот ритуал, чудом избежавший уничтожения, перевешивает все, что за века было сказано и написано о катарах их противниками.
3. Организация и экспансия
Религия катаров стремилась к точному соблюдению всех наставлений доктрины. Путь к спасению узок, это, скорее, дорога для избранных. И здесь катарская Церковь снова неожиданно сближается с католической в обычае снисхождения к слабым и в вере в абсолютную силу таинства: катары, как и католики, полагают необходимым на пути спасения священное действо возложения рук служителя культа на верующего, дабы передать ему частицу Святого Духа, которым уже осенен наставник. Речь идет вовсе не о символическом жесте: обряд consolamentum (утешения), с точки зрения катаров, обладает сверхъестественной силой, заставляющей Святой Дух снизойти на того, кто принимает благословение. Каков бы ни был сан священника, возложение рук призывает Святой Дух, и именно здесь таятся ключ и сердцевина жизни катарской Церкви.
Независимо от того, признают или нет катары апостольский принцип наследования, они утверждают, что Святой Дух может быть передан только безгрешными руками. Но безгрешная чистота – непреложное требование к служителю культа, и случаи признания consolamentum ложным из-за недостойности наставника крайне редки. Человек, принявший в себя снизошедший Святой Дух, становится «христианином» и умирает в этом мире, чтобы возродиться в царстве Духа. Он должен без рассуждений и компромиссов подчиниться всем требованиям новой религии, а требования эти жестче, чем к монаху, принявшему постриг. Лишь очень немногие способны до конца пройти такой путь спасения. Но катарская Церковь в равной мере признает и consolamentum предсмертный, и нам известно множество случаев, когда неофиты прибегали к этому обряду, скорее, в предчувствии приближающейся смерти, нежели в качестве гарантии чистоты веры. Тогда таинство совершается над человеком, который не является ни избранным, ни безгрешным, и в этом пункте Церковь катаров заслуживает тех же упреков в механистичности обрядов, что и католическая. Однако при сходстве ситуаций катары придают таинству особую торжественность, подчеркивая, что столь бесценный дар, который другие заслуживают, посвящая Богу свои жизни, простой человек может получить, лишь когда страдания уже отрешили его от мира.
По принятии Святого Духа верующий становится новым человеком: с этого момента даже легкое прегрешение расценивается как святотатство, и он рискует утерять Святой Дух, которого был удостоен. Известны случаи, когда совершенные принимали consolamentum несколько раз в своей жизни, и происходило это либо из-за провинности, либо по причине ослабления веры; так что, по всей вероятности, таинство это вовсе не было таким безжалостным, каким его обычно представляют.
Consolamentum, соответствующий сразу нескольким таинствам: крещению, причастию, конфирмации, рукоположению в духовный сан и соборованию, представлял собой очень простой обряд. Ему предшествовал долгий период инициации, когда постулант должен был в течение года, а иногда и дольше, жить в «доме совершенных», где испытывалась истинность его призвания. Это было время новициата, и иногда случалось, что под конец испытания, если наставники не были уверены в твердости постуланта, ему отказывали в таинстве. Если же он признавался достойным, его представляли общине для утверждения. После этого он готовился ко дню посвящения – в посте, бодрствовании и непрерывных молитвах.
В назначенный день постуланта вводили в зал, где уже собрались все верующие, – у катаров не было храмов, они отправляли свои обряды в частных домах; в городах они жили коммунами, причем каждый совершенный обязан был отдать все свое имущество в пользу Церкви. В этих домах, специально посвященных культу, находились и лечебницы для больных. В больших городах бывало обычно по нескольку таких домов.
Помещение, где катары собирались для молитв, не носило никаких признаков культовой принадлежности. Выбеленные известью стены, очень простая мебель: несколько скамеек и стол, накрытый ослепительно белой скатертью, на которой лежит Книга (Евангелие) и такие же ослепительно белые полотенца. Стол служит алтарем. На другом столе или сундуке стоят кувшин с водой и таз для мытья рук. Единственное украшение этого строгого зала составляет несметное множество зажженных белых свечей, символизирующих небесный огонь Святого Духа, снизошедший на апостолов в Пятидесятницу. В присутствии собрания верующих постуланта подводят к столу, перед которым уже стоят священнослужители, диаконы[16] или просто совершенные. Они облачены в длинные черные одежды, символы отречения от мира. Совершенный и два его помощника долго моют руки, прежде чем прикоснутся к священному тексту, и церемония начинается.
Совершающий церемонию разъясняет постуланту догмы религии, в которую его принимают, и те обязательства, которые на него налагаются. Затем он читает «Отче наш...», комментируя каждую фразу и заставляя постуланта ее повторять. Затем будущий совершенный должен торжественно отречься от католической религии, в которой он воспитан, и, трижды преклонив колена, испросить право быть принятым в истинную Церковь. Он должен посвятить себя Богу и Евангелию. Он обещает никогда не есть ни мяса, ни яиц, ни другой животной пищи, навсегда отказаться от занятия торговлей, не лгать, не произносить клятв и не отрекаться от веры даже под страхом смерти от огня, воды или любой другой смерти. Затем он должен публично покаяться в грехах и попросить прощения у общины. После отпущения грехов он снова торжественно перечисляет все принятые обязательства. Только теперь он готов воспринять Святой Дух.
Таинство совершается в тот момент, когда служитель культа кладет священный текст на голову постуланта, а его помощники возлагают на него руки, моля Бога воспринять его и ниспослать ему частицу Святого Духа. В этот миг человек обновляется, он «рожден Святым Духом». Присутствующие вслух читают «Отче наш...», служитель культа произносит первые семнадцать стихов Евангелия от Иоанна: «В начале было слово...», а затем снова «Отче наш...».
Неофит принимает «поцелуй мира» от того, кто отправлял службу, потом от его помощников. Затем он целует того из присутствующих, кто находится ближе к нему, и «поцелуй мира», братское приветствие, как огонь эстафеты, передается от верующего к верующему, пока не достигнет последних рядов. Если постулант – женщина, то «поцелуй мира» передается в более символической форме: воспреемник прикасается Евангелием к ее плечу и локтем к ее локтю. Новый «утешенный»[17] всегда будет носить черную одежду, он – «удостоенный», и знаки своего нового достоинства он уже не может снять. Позже, когда преследования заставят совершенных быть осторожными, знаком удостоения станет шнурок, который мужчины будут носить на шее, а женщины на поясе под одеждой. Уже сама торжественность, с которой катары обставляли «удостоение», говорит о его высокой священнической сути. Удостоенный (чаще всего катары упоминались именно под этим названием) входил в религию в полном смысле этого слова, принятом также и в католичестве. Он оставлял все свое имущество общине и начинал, подобно апостолам, странническую жизнь, посвященную молитве, проповедям и милосердию. Местный епископ или диакон назначает удостоенному товарища, выбирая его среди остальных совершенных. Теперь «socius» или «sosia»[18] (если речь шла о женщине) будет сопровождать неофита в его странствиях, делить с ним все труды и лишения и никогда с ним не расстанется.
Можно сказать с полной определенностью, что катарская Церковь как таковая состояла целиком из одних священников, поскольку каждый из совершенных мог отправлять любой обряд. Неофит, получивший опасную привилегию пополнить ряды совершенных, становится «христианином на особом положении»; где бы он ни появился, рядовые верующие обязаны ему «поклоняться», по традиции, трижды преклоняя колена и кланяясь со словами: «Просите Господа, чтобы Он сделал меня добрым христианином и указал мне путь к праведному концу». Совершенный попросит Господа, но не ответит: «Молись и ты за меня, грешного». Формальное равенство верующих, от папы до последнего преступника, признаваемое ортодоксальными христианами, не существует в этой религии реалистов. Согласно их доктрине, совершенные составляют высший эшелон человечества, Святой Дух, присутствующий в них с момента таинства, не может жить в простых смертных. (Слово «parfait» – совершенный, очевидно, здесь следует понимать как производное от «paracheve» – завершенный, укомплектованный, то есть человек, имеющий тело, душу и Дух. Совершенные после таинства consolamentum обрели свой Дух, свою божественную частицу, которой их лишил первородный грех.) Мы столкнулись с парадоксом: мощная Церковь, непрестанно овладевающая новыми территориями, привлекающая на свою сторону знать, буржуа и мастеровых, в рядах активных членов насчитывает несколько сотен, по большей мере несколько тысяч человек.
Мы еще вернемся к вопросу о простых верующих и об их роли в этой Церкви, которая, казалось бы, уделяет им так мало внимания. Несомненно, что-то здесь от нас ускользнуло, поскольку, несмотря на кардинальные отличия совершенных от простых верующих, мы видим, что паства ведет себя точно так, как и должно добрым христианам, а поведение совершенных ничем не отличается от поведения добросовестных священников, пекущихся о своей пастве. В Лангедоке в каждой провинции был свой катарский епископ, в каждом мало-мальски значительном городе или местечке – свой диакон. Ни епископов, ни диаконов не утверждают ради горстки верующих. Епископы считались духовными пастырями больших общин и проявляли гораздо больше заботы о своих новообращенных согражданах, чем католические епископы о своих правоверных. Причина проста: Церковь, борющаяся за существование, гораздо внимательнее к своим почитателям, чем официальная. Верующие были далеки от того, чтобы объединяться без помощи пастырей, и не должны были чувствовать себя вне духовной опеки.
Это не умаляет справедливости суждения, что ядро, живую сердцевину катарской Церкви составляли совершенные. Мы знаем, какими они были: духовники в полном смысле этого слова, избранные и проверенные с таким тщанием, что даже в процветающей Церкви составляли ничтожное меньшинство. Они вызывали восхищение даже у своих заклятых врагов. За годы войны на юге Франции их осталось всего несколько сот, остальные погибли на кострах (жгли в основном совершенных) или во время резни; некоторым удалось спастись, укрывшись в горах или уйдя в Италию. Однако за весь период крестового похода и последующие годы известны только три случая отречения совершенных: один из отрекшихся – неофит, еще не принявший consolamentum; другой, Понс Роже, был разагитирован самим Домиником, и мы можем заключить, что он принадлежал к совершенным лишь по тяжести покаяния, наложенного на него святым. Третий, Гульельм де Солье, отрекся в 1229 году, чтобы избежать костра, и купил себе жизнь ценой доноса на своих братьев. Если вдуматься, что такое смерть на костре, то просто оторопь берет при мысли о том, что из сотен сожженных нашелся всего лишь один предатель.
Однако не только за мужество, ярко заявившее о себе в годы войны, совершенные пользовались таким уважением. Противники единодушно признавали их высокую душевную чистоту. По сути дела, папа и святой Доминик оказали им величайшую честь, решив «бороться с еретиками их же оружием», после чего Доминик, следуя их примеру, отправился проповедовать босиком и в рубище, существуя на милостыню.
Совершенные брали не только непреклонным аскетизмом и презрением к мирским благам: народ не случайно называл их «добрыми людьми». Нынче это выражение утратило первоначальный смысл[19], а они были в прямом смысле слова добрыми. Уже одно это название отметает мнение об учении катаров как о религии печальной и равнодушной к мирским благам, которые она презирает. Худые, бледнолицые и длинноволосые люди, одетые в черное, поражали воображение сограждан не столько своим аскетизмом, сколько необыкновенной добротой. Неуживчивый аскетизм вряд ли привлек бы кого-нибудь. А эти люди, будь то мужчины или женщины, путешествующие попарно, куда бы ни зашли – в деревню, в замок или пригород, – везде пользовались безграничным уважением. Подобные умонастроения окситанцев не обошли стороной и графа Тулузского. Однажды, указав на бедно одетого, израненного совершенного, он сказал: «Я предпочел бы быть этим человеком, нежели королем или императором»[20].
Моральный авторитет совершенных был так высок, что Церковь лишь робко отваживалась поднять голос и попытаться обвинить их в лицемерии. Прежде всего придирались к тому, что они якобы афишировали свой аскетизм. И вправду, «добрые люди» были упорными постниками: они не прикасались к «нечистой» пище, трижды в год голодали, сидя на хлебе и воде, и скорей умерли бы, чем съели хоть крошечку чего-нибудь неподобающего их вере. Практика воздержания от пищи, распространенная во всех религиях (в восточных сильнее, чем в западных), играла в жизни совершенных особую роль: во всех случаях – и в глазах народа, и в глазах Церкви – они были людьми, которые постоянно голодают. Отец Козма[21] пишет, что богомилы тоже выглядели бледными и изможденными: лишения накладывали свой отпечаток на внешность.
Подобно йогам или факирам, совершенные, по всей вероятности, даже увлекались голодовками, и порой казалось, что они хотят себя уморить. Видимо, этим объясняется легенда об эндуре (добровольной смерти от голода), хотя достоверно известен лишь один подобный случай в XIV веке, когда агонизирующая религия катаров во многом уже утратила свой первоначальный смысл. На самом же деле совершенные испытывали ужас перед убийством любого живого существа и скорее умерли бы сами, чем зарезали даже цыпленка (по этой причине повесили еретиков в 1052 году в Гозларе, в Германии) – так что ни под каким видом они не пошли бы на самоубийство. Эти хулители земной жизни относились к ней вместе с тем с абсолютным почитанием и никогда не допустили бы человеческую волю, изначально склонную к дурному, до насильственного вмешательства в движение души по пути спасения. Совершенные не искали мучений, и их мужество перед лицом смерти порождалось скорее пламенностью веры, нежели равнодушием к жизни.
Совершенных сразу можно было узнать по мягкой, раздумчивой речи, привычке постоянно молиться и рассуждать о Боге. Вышеупомянутый Козма усматривает в этом лукавство и признак гордыни: они никогда не повышают голоса, не говорят резко и вообще открывают рот только для благочестивых слов и молятся прилюдно, лицемерно поминая имя Господа всуе. Это волки в овечьих шкурах. Своей показной набожностью они завлекают простаков.
Возможно, молитвенная практика совершенных подчинялась каким-то особым канонам, близким к восточной традиции. Часто приводимый пример совершенного, явившегося к Бербегуэре, супруге владетеля Пюилорана, и сидевшего на стуле «неподвижно, как ствол дерева», безучастно ко всем вокруг, заставляет думать об индуистских святых в состоянии экстаза. Однако ясно, что, сидя сиднем на стуле, не завоюешь людские сердца. Совершенных любили прежде всего за их милосердие.
Сами бедняки, они распределяли пожертвования верующих для поддержания бедных; когда же дать было нечего, они всегда находили слова утешения и предлагали свою дружбу, не гнушаясь обществом самых обездоленных. Часто они были прекрасными врачами, что парадоксально для людей, столь презирающих тело. Искусная пропаганда? Пусть так, но невозможно стать хорошим врачом, не уделяя хоть сколько-нибудь любви и внимания телу: милосердие нацелено на тело в той же мере, что и на душу. Процессы инквизиции приводят свидетельство некоего шевалье Гульельма Дюмьера: врач – совершенный, самоотверженно ухаживавший за ним, покинул его после того, как он отказался отречься от католичества. Случай необычный: медики, поступавшие таким образом, рисковали остаться не только без клиентуры, но и без потенциальных неофитов.
О том же самом гласит свидетельство жены некоего Гильома Вигуэра, которая, хотя муж и пытался обратить ее в катарскую веру «при помощи палки» (малоэффективное средство убеждения), отказалась, потому что «добрые люди» ей сказали, что ребенок, находящийся в ее утробе, не кто иной, как демон. Должно быть, супруги не отличались интеллектом, а совершенный – тактом, но этот пример лишь подтверждает правило: проповедники, говорящие такие вещи пастве, вряд ли смогут снискать репутацию добрых людей.
Известно, что милосердие совершенных отнюдь не распространялось только на адептов их секты, и именно это притягивало к ним несчастных. Можно сбить с толку богачей и хитрецов, но простой народ не проведешь: не помогут ни угрозы, ни увещевания, люди ответят любовью только на сердечную доброту и сострадание.
Все свидетельства сходятся на том, что совершенные завоевывали сердца верующих главным образом личным примером, и самым ярким свидетельством привлекательности их духовной жизни для нас остается небывалый успех их апостольской миссии.
Второстепенные причины, которые благоприятствовали распространению учения катаров, столь многочисленны и очевидны, что одно их перечисление заставляет думать, что новая религия и без таких почитаемых апостолов смогла бы отвратить южные народы от римской Церкви. Наиболее показательная (и наиболее возмутительная для христианского мира) черта этой религии – абсолютное неприятие церковных догм и самых священных символов – взбудоражила и ужаснула жителей тех областей, где Церковь была сильна, а ересь встречалась редко. На юге же Франции прогресс ереси шел бок о бок с упадком Церкви, и трудно сказать, какой из двух феноменов был определяющим; то, что рассказывали о южной церковной верхушке времен крестового похода, могло заставить усомниться в святости Церкви даже самых ревностных католиков.
Вот что сообщает нам Иннокентий III о лангедокских клерикалах и в частности о Беренгере II, архиепископе Нарбоннском: «Слепцы, разучившиеся лаять собаки, симониты, торгующие справедливостью; богатым они отпускают грехи, а бедных клеймят. Они не блюдут законы Церкви: занимаются накопительством, поручают богослужения неграмотным и недостойным священникам. Вот где причина распространения ереси, вот откуда пренебрежение сеньоров и черни к Господу и его Церкви. Священники в этих местах – притча во языцех. А корень зла – это архиепископ Нарбоннский: он не ведает иного Бога, кроме денег, у него кошелек вместо сердца. За десять лет службы он ни разу не был в своей провинции и не посещает собственный диоцез. За посвящение епископа Магелонского он запросил пятьсот золотых су, а когда к нему обратились за субсидией в пользу христиан Востока, он отказал. Когда освобождается должность священнослужителя, он не торопится с объявлением имени преемника: ждет барыша. Он вдвое сократил количество каноников Нарбонны, чтобы присвоить пребенды, и точно так же подмял под себя вакантные диаконии. В его диоцезе монахи и каноники занимаются ростовщичеством, промышляют адвокатством, жонглерством и врачеванием». Документ так красноречив, что к нему трудно что-либо прибавить, однако папу волнует еще и то, что баилем при архиепископе состоит главарь арагонских рутьеров, а попросту говоря – бандит с большой дороги. Папа напрасно метал на голову Беренгера громы и молнии: непробиваемый старик, больше озабоченный защитой своего добра, чем интересами диоцеза, держался до 1210 года и сдался только тогда, когда крестовый поход начал оружием пробиваться к успеху.
Епископ Тулузы, Раймон Рабастан, выходец из среды еретиков, непрерывно враждовал со своими вассалами и, чтобы пополнить казну, сдавал в аренду земли епископального домена. Когда наконец в 1206 году он был низложен за симонию, его преемник, Фульк Марсельский, аббат Тороне, нашел в кассе епископства всего 45 тулузских су. Не было даже эскорта для сопровождения епископской упряжки мулов к водопою (епископ не рисковал подвести мулов к городской поилке скота без охраны). Кредиторы гонялись за ним по пятам до самого капитула. Епископство Тулузское, пишет Гильом Пюилоранский, погибало.
Законы Лангедока той эпохи предписывали аббатам и епископам выбривать тонзуры и носить подобающее их положению платье; им было запрещено надевать украшения, играть в азартные игры, произносить клятвы, сажать за свой стол гистрионов и музыкантов, валяться по утрам в постели, допускать фривольности во время службы и отлучать направо и налево. Они были обязаны сноситься со своим синодом минимум раз в год, не брать денег за рукоположения в духовные чины, не совершать за деньги недозволенных браков и не аннулировать законных завещаний.
Если уж прелаты дошли до таких нарушений, то что говорить о людях светских? Известно, что ни один уважаемый горожанин больше не желал, чтобы его дети шли в священники. По свидетельству Гильома Пюилоранского, «церковные службы внушали мирянам такое отвращение, что теперь вместо того, чтобы сказать: «Уж лучше стать евреем, чем сделать то-то и то-то», стали говорить: «Уж лучше стать капелланом...».
Прелаты, появляясь на публике, прятали тонзуры, зачесывая волосы с затылка на лоб. Дворяне редко готовили детей к церковной службе, да и в церкви являлись только дети их вассалов, чтобы внести церковную десятину. Епископы брили тонзуры кому попало[22]. Низший клир, набранный наугад, третируемый епископами, презираемый населением, влачил столь жалкое существование, что, по свидетельству Иннокентия III, приведенному выше, священники повально дезертировали и стремились найти ремесло повыгоднее.
Такое плачевное положение вещей вызывало протест не только у папы, но и у иноземных епископов, особенно цистерцианцев, в частности Джона Солсбери. Жоффруа де Витеза не стесняется в выражениях в адрес клерикалов. Он говорит, что они носят светское платье, едят скоромную пищу и ругаются: «Мне известен, монастырь, где правят четыре аббата».
Отношение мирян к клиру еще суровее. Трубадуры слагают гневные и ехидные стихи против роскоши, разврата и продажности прелатов. Там говорится, что их конюшни богаче графских покоев, что они едят дорогую рыбу и соусы с заморскими пряностями, а любовницам дарят драгоценные украшения. Все они лицемеры, их занимают пустяки вроде женских побрякушек и вовсе не заботят ни милосердие, ни справедливость. Богатого они любят, бедного притесняют. Самые резкие нападки на нравы Церкви становились общими местами сатирической литературы, да и в среде самих клерикалов были делом обычным.
Много религиозных зданий было брошено по вине отбившихся от рук священников, в некоторых церквах народ собирался, чтобы попеть и поплясать. Такое развитие событий шло бок о бок с укреплением катарской Церкви, и часто священники, бросившие храмы, шли слушать проповеди «добрых людей».
Надо принять во внимание, что, вслед за пренебрежением к клиру, народ охватывало пренебрежение к религии вообще. Что же до высших классов, то если они и не были в числе еретиков, то их терпимость в эпоху всеобщей веры не могла не вызвать скандала. И если так было в обществе искренних католиков – а это более чем достоверно, – то их католичество было иным, чем католичество папы, легатов или верующих и других краях. Знать более всех насчитывала скептиков и равнодушных к религии, которые открыто заявляли, что ни папа, ни вся Римская империя не стоят поцелуя их дамы сердца.
Конечно, не следует слишком уж буквально понимать пассажи папы, монахов и сатирических поэтов: Церковь, которая могла еще позволить себе подобные выражения и могла переносить все нападки, никак на них не реагируя, – это была все же сильная Церковь. И вовсе не все диоцезы Лангедока были разорены епископами вроде Беренгера Нарбоннского, и вовсе не все церкви были заброшены, а таких католических хронистов, как Гильом Пюилоранский, можно заподозрить в сознательном сгущении красок, дабы доказать, сколь необходим был крестовый поход. Победа определенного режима часто обусловлена слабыми сторонами предыдущего, но в данном случае слабость веры ни при чем. В эпоху крестовых походов на юге Франции было не так уж много приходов, брошенных лихими прелатами, и совсем не все прихожане крупных соборов Альби и Тулузы относились к Церкви с презрением. Однако верно и то, что отпадение многих католиков от Церкви, столь себя дискредитировавшей, не было чрезмерным грехом.
Факты, приведенные выше, ясно показывают, что население, подпавшее под влияние катарских миссионеров, не получило достаточных религиозных наставлений, чтобы отразить аргументы этих блестящих пропагандистов. Среди новообращенных есть буржуа, городская знать, родовитые дворяне, прелаты, монахи, ремесленники, даже аббаты, епископы, теологи, а также церковные ученые[23]. Никаких выгод от обращения к ереси они не имели, но религиозные обращения редко были связаны с конкретной выгодой. Ересь побеждала не столько благодаря религиозному невежеству населения, сколько благодаря силе своей доктрины. Судя по всему, ересь воспринималась искренними католиками как более чистое выражение их ортодоксии.
Что бы там ни говорили об аристократическом и антигуманном характере этой религии избранных, ее священники были бесконечно ближе к своим верующим, чем католические пастыри. Такие же бедняки, как и простой люд, они разделяли все его заботы; не гнушались усесться за ткацкий станок или помочь вязать снопы; примером собственной жизни, более суровой, чем у самого последнего бедняка, они возрождали надежду у впавших в отчаяние. Та сила, которую они являли собой, не нуждалась ни в помпе, ни в пышных церемониях. Они были тем, чем сами себя называли: Церковью любви, и никогда не добивались своего силой. И их Церковь становилась сильнее, потому что у всех новообращенных возникало чувство причастности к сообществу, внутренне более богатому, более спаянному и живому, чем католическая Церковь.
Мы мало знаем о «верующих», нам неизвестно даже их приблизительное количество. Мы знаем, что население некоторых пригородов и замков целиком составляли еретики, что в некоторых местностях, например, в долине Арьежа, их было большинство, а в других местах – наоборот. И прозвище «ткачи» относилось явно к еретикам, но при всем этом масса верующих кажется нам сегодня чем-то зыбким и гораздо менее организованным, чем это было на самом деле. Ни в одном официальном документе нет и намека на эту организацию: дальнейшее развитие событий покажет, что у этих людей не было ни малейших оснований публично заявлять о себе.
Такая организация существовала. Каждая провинция имела своего епископа, которому помогали «старший сын» и «младший сын». Перед смертью епископ передавал свои полномочия «старшему сыну», «младший сын» занимал место старшего, а новый «младший» избирался собранием совершенных. В каждом крупном населенном пункте был свой диакон, действовавший совместно с большим или меньшим числом совершенных. Известно, что было их всегда немного. Вся административная и финансовая часть церковной организации лежала на плечах верующих, живущих в миру: те, кто побогаче, обеспечивали содержание общинных домов; кто победнее, служили гонцами, связными или проводниками. Где бы ни остановились с проповедью совершенные, они находили пристанище в доме кого-либо из верующих, известного своей честностью или ревностной верой. Когда в протоколах допросов инквизиции мы читаем, что в доме такого-то или такой-то принимали совершенных, можно полагать, что верующего почитали достойным этой чести не случайно и что он принадлежал к своего рода аристократии среди верных адептов религии.
В общинных домах всегда жили несколько человек, изъявивших желание воспринять Дух Святой и посвятивших свою жизнь изучению заветов Церкви и молитвам. Это была либо молодежь, с детства доверенная родителями совершенным на воспитание, либо обращенные уже в сознательном возрасте; хотя они еще и не были «удостоены», но уже не принадлежали к простым верующим. Существовала также категория верующих, живущих в миру, но соблюдающих часть обетов, наложенных на совершенных: чистоту, посты и молитвы. И были также те – и таких было большинство, – кто жил, как все обыкновенные люди, и удовлетворялся присутствием на службах и почитанием совершенных.
Теоретически у них не было никаких обязательств, кроме melioramentum[24], т. е. почитания совершенного, процедуры очень простой и состоявшей в троекратном преклонении колен перед совершенными в просьбе: «Молите Бога, чтобы он сделал меня добрым христианином и помог умереть достойно». Совершенный благословлял верующего и говорил: «Да сделает тебя Господь добрым христианином и да поможет он тебе умереть достойно». Не имея более никаких религиозных обязательств, верующий мог даже (хотя и осторожно) посещать католическую Церковь. Однако катары редко ходили в церковь, разве что в те дни, когда того требовали обряды, или вследствие устрашения. Они в Церкви не нуждались.



