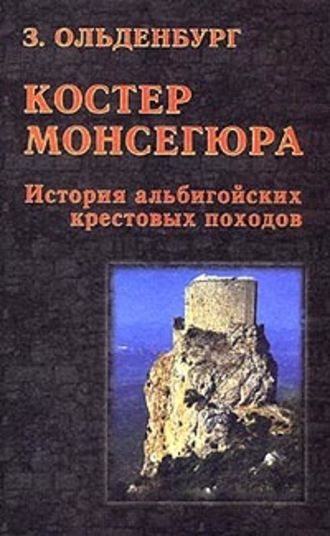
Зоя Ольденбург
Костер Монсегюра. История альбигойских крестовых походов
«Граф» Бодуэн, предатель своего края, воспитывался при дворе французского короля и был больше французом, чем тулузцем, что объясняет, но не оправдывает его поведение; родившийся во Франции в те времена, когда его отец сильно не ладил с матерью, Констанцией Французской (с которой он вскоре и развелся), он приехал в Тулузу только в 1194 году, после смерти Раймона V, и брат так принял его, что он был вынужден ехать обратно во Францию за документами, подтверждающими, что он действительно сын графа Тулузского! Братья очень плохо ладили между собой, может быть, из-за большой разницы в возрасте. Бодуэна держали за бедного родственника, и он должен был чувствовать себя при дворе брата очень неловко. Тем не менее, он был доблестным рыцарем и блестяще держал оборону от Монфора замка Монферран. Но, перейдя на сторону неприятеля, он обязан был оставаться до конца верным новым хозяевам.
Как бы там ни было, к своему столь же несчастному, сколь и презренному брату Раймон VI не выказывал ни малейшей жалости: прибыв в Монтобан, он созвал военный совет, где присутствовали граф Фуа и католический рыцарь Бернар де Портелла, и без колебаний приговорил предателя к повешению. Когда Бодуэн, верный католик, попросил перед смертью причаститься святых таинств, брат ответил ему, что он так хорошо сражался за веру, что не нуждается в отпущении грехов. Он может, однако, исповедаться, но не получая причастия. После этого его вывели на луг перед замком и повесили на орешине на глазах у брата. Вешал граф Фуа собственноручно, а ассистировал ему в этом палаческом деле Бернар де Портелла, желавший таким образом отомстить за смерть Арагонского короля.
Эта жестокая история показывает, что Раймон VI, который двумя месяцами позже так униженно преподнесет и себя, и свое имущество Церкви, вовсе не собирался отказываться от борьбы и лишь дожидался своего часа, нанося удар, когда мог его нанести. Хладнокровно казнив брата ради удовлетворения патриотического гнева своих вассалов, он следовал тому же инстинкту политика, который заставил его потом торжественно клясться в преданности Церкви перед папой. Этот человек-загадка умел заставить любить себя, ибо всегда оставался прежде всего верным слугой своей страны, а потом только ее хозяином.
Казнь Бодуэна породила вспышку радости в Лангедоке и вдохновила трубадуров на песни триумфа.
Тем не менее Симон де Монфор, рекомендованный Собором в Монпелье в держатели «Тулузы и других земель, принадлежащих графу», не осмеливался пока появиться в Тулузе. Тулуза, ключ к Лангедоку, делала вид, что не замечает нового сюзерена. Симон сможет войти в город только в сопровождении того, чей ранг и авторитет помогут в какой-то мере узаконить покорность, в которой город отказал Монфору.
Филипп Август после Бувине не страшился больше «двух львов», Иоанна Безземельного и германского императора, грозившего его провинциям с севера, и решил наконец поинтересоваться, что творится на юге. Домены графа Тулузского, на которые его власть простиралась лишь номинально, частично составляли земли, зависимые от французской короны. В тот день, когда король решил, что конфликт урегулирован победой Монфора, он задал себе вопрос: а не превысила ли Церковь свои полномочия, передавая его вассалу земли, сюзереном которых являлся он сам? Он остерегся показываться собственной персоной, чтобы его не вынудили поддержать своим авторитетом предприятие, ни выгод, ни трудностей которого он пока не знал. Своего сына он не то чтобы отправил, но позволил ему отбыть, когда тот по прошествии долгого времени изъявил благочестивое желание принять участие в крестовом походе.
Принц Людовик совершал из страны, теоретически не воюющей, «путь пилигрима», а вовсе не военную экспедицию. С ним шло много рыцарей, в частности, графы Сен-Поль, Пуатье, Си, Алансон, и его армия, даже если она и не имела воинственных намерений, должна была произвести впечатление на тех окситанских баронов, которые осмеливались перечить авторитету короля. Но к тому времени никто и не пытался ему перечить: после Монфора сам Дьявол показался бы добрым хозяином, не то что «мягкий и кроткий» Людовик. Не похоже, чтобы принца, двигавшегося мирным крестовым походом, принимали плохо. Его, скорее, ожидали как арбитра.
Легат старался дать понять Людовику, что он «не может и не должен нанести никакого ущерба»[102] тому, кто навел порядок по решению соборов, учитывая тот факт, что Церковь добилась триумфа своими силами, не испрашивая помощи у французского короля. Благочестивый Людовик и не стал ничего предпринимать против решений Церкви, однако при дальнейших разногласиях принимал сторону Монфора.
Когда случилась распря между Арно-Амори, епископом Нарбонны, и Симоном де Монфором, принц поддержал Симона и велел разрушить стены Нарбонны, невзирая на протесты епископов и консулов. Точно так же он отдал приказ разрушить стены Тулузы, которая, хотя и состояла пока в ведении Церкви, должна была готовиться принять нового хозяина. Папа, узнав, что сын короля Франции во главе армии явился инспектировать территории, завоеванные Церковью, поспешил утвердить за Симоном де Монфором «охрану» этих земель, убоявшись, что Симон в своем несогласии с авторитетом Рима не примет титул графа от своего законного сюзерена.
Наконец, в мае 1215 года принц Людовик, легат и Монфор въехали в Тулузу, из которой убрался граф, не имея ни малейшего желания украсить собой триумф победителя. Принц постановил засыпать рвы и срыть до основания башни и стены, «чтобы никто не мог более обороняться посредством укреплений». Обезоруженная, ставшая открытым городом в полном смысле этого слова, Тулуза не могла не впустить завоевателя, и Монфор водворился в городе, оставив укрепленным лишь Нарбоннскии замок, ставший его резиденцией. Принц Людовик уехал по окончании карантена, увезя с собой в качестве трофея этой благочестивой экспедиции половину челюсти святого Винсента, которому поклонялись в Кастре. Чтобы отблагодарить принца за благорасположение, Симон сам взялся получить у кастрских священников эту ценную реликвию, которую ему уступили «во внимание к пользе и продвижению, коего он добился в деле Иисуса Христа» (вторую половину челюсти он припрятал для себя и преподнес в дар церкви в Лионе).
ГЛАВА VI
ОСВЯЩЕНИЕ И КРАХ КРЕСТОВОГО ПОХОДА
1. Латеранский Собор
В ноябре 1215 года папа наконец собрал Вселенский Собор в Латеране. Это была поистине интернациональная конференция, которую торжественно подготавливали более двух лет и в которой приняли участие два патриарха (Константинопольский и Иерусалимский)[103], 71 архиепископ, 410 епископов и 800 аббатов, представлявших Церковь севера и юга, востока и запада; присутствовали также послы и делегаты от венценосных особ и крупных городов. Урегулирование альбигойской проблемы не было главной целью Собора. Папа считал этот вопрос второстепенным и планировал оставить его на потом, когда Собор разберется с проблемами, ради которых съехалось это впечатляющее собрание церковных сановников.
Тем не менее, проблема ереси и способов борьбы с нею оставалась самой жгучей. Из соображений защиты Церкви от этой опасности, степень которой позволили оценить события в Лангедоке, Собор вынес свое определение католической веры и правоверности. Еретики – катары и вальденсы в Лангедоке, на Балканах и в Италии (и в других странах, где они были менее распространены), – осуждались без малейших послаблений и предавались анафеме. Были определены и утверждены меры борьбы с ними. Церковь вменяла в обязанность светским властям бороться с ересью под страхом отлучения.
Светские власти, осмелившиеся пренебречь этой обязанностью, объявлялись папой отрешенными от прав. Папа был волен отписать их домены любому из католических сеньоров, кто согласится их принять. Вряд ли Собор мог в более категоричной форме одобрить дело крестового похода или более ясно определить теократические настроения Церкви. Если раньше папа не располагал правом лишать имущества королей, то решением Собора он это право получил, провозгласив абсолютный приоритет Церкви в мирских делах.
Открывшийся 11 ноября 1215 года речами папы, Иерусалимского патриарха и епископа Агдского Тедиза (старого легата Лангедока), Собор с самого начала выглядел как замаскированное оправдание деяний Симона де Монфора. 30 ноября вопрос об окончательном урегулировании проблемы Лангедока был обсужден официально. Поскольку это урегулирование имело большое политическое значение, так как затрагивало жизненно важные интересы окситанского клира и баронов, отчужденных от имущества, то вокруг него, параллельно с соборными дискуссиями, резко усилилась дипломатическая активность. Как говорит Петр Сернейский, «некоторые из присутствовавших на Соборе, даже прелаты, будучи врагами дела Церкви, ратовали за то, чтобы вернуть домены графам (Фуа и Тулузы)...»[104].
Решения Собора, о которых мы уже говорили, безоговорочно одобрили начало крестового похода, который, однако, уже приближался к концу. Но граф Тулузский вовсе не считал себя побежденным. За неимением французского короля, он собирался за помощью к королю Англии, недавно помирившемуся с папой. Сказать по правде, козырь был слабый: папа предпочел бы скорее альянс с Филиппом Августом, чем с капризным и малодушным Иоанном Безземельным, и английские симпатии графа могли, скорее, ему навредить. Среди английских прелатов граф имел по крайней мере одного ревностного защитника, аббата из Болье (близ Саутгемптона). Он мог также рассчитывать на поддержку прежнего легата, Арно-Амори, ныне архиепископа Нарбонны и примата Лангедока, который мог быть тем более полезен, что являлся одним из лидеров крестового похода. Наконец, он рассчитывал на личное влияние и на юридическую убедительность своих аргументов. К тому же граф настаивал, что он уже слишком далеко зашел по пути покорности: поскольку его персона, хотя и напрасно, казалась папским представителям подозрительной, он отрекся, передав все свои владения сыну, который, учитывая его юный возраст, не может ни на кого отбросить тень подозрения. Единственное, о чем просит граф, – это дать ему возможность воспитывать сына в католическом духе. А сам он поедет в Святую Землю или куда-нибудь еще, куда глаза глядят. Раймон VI вызвал сына из Англии: мальчик уже достаточно взрослый, чтобы присутствовать при дебатах, и еще столь юн, что может украсить обаянием молодости любое собрание. Не исключено, что папу тронула судьба юного принца, племянника и внука особ королевской крови, которым приходилось жертвовать во имя государства, во всяком случае (как гласит «Песнь...»), те знаки симпатии, которые он расточал юному принцу, не были лишены искренности.
Иннокентий III был, в известной степени, человеком импульсивным и внушаемым. На это указывает его поведение по отношению к Раймону VI и резкие перемены отношения к Арагонскому королю. Однако маловероятно, чтобы он действительно поддержал графа Тулузского, как утверждает продолжатель Гильома Тюдельского, и даже сам Петр Сернейский его слегка журит за это. Автор «Песни...», враждебно настроенный к крестовому походу, был хорошо информирован обо всех дебатах, предшествовавших окончательному решению Собора. В его интересах было вложить в уста папы, уже покойного ко времени написания «Песни...», слова осуждения в адрес Симона де Монфора. На самом же деле метания Иннокентия III, будь они природы эмоциональной или же дипломатической, являли собой не более чем видимость, маску. Папе необходимо было смягчить свою ответственность за деяния, которыми, и он прекрасно это знал, общественное право ущемлялось в интересах диктатуры Церкви. Устами Собора возведя принцип в закон, он не мог искренне осудить его практическое приложение.
Тем не менее, то, что повествует нам о дебатах на Соборе «Песнь...», в общих чертах, скорее всего, соответствует истине. Событие, о котором идет речь, было столь важно для всех заинтересованных сторон, столько народу из обеих партий там присутствовало, дело это получило такую широкую огласку в обоих лагерях, что автор не мог принципиально изменить диалог, подстраивая его к своим идеям. Когда он описывает, как взволнованный, усталый от дискуссий папа выходит отдохнуть в сад, где его окружают и преследуют настырные окситанские епископы, наперебой обвиняя его в поблажках графам, этот эпизод кажется не написанным для chanson de geste (баллады, представленной актерами), а списанным с натуры. Ясно, что поведение папы давало повод к двусмысленной оценке.
Симон де Монфор на Собор не явился, полагая свое присутствие более полезным в Лангедоке, и прислал своего брата Ги. Он знал, что в хороших адвокатах недостатка не будет: вся верхушка Лангедокского клира была за него. Поскольку собрание составляли прелаты, дело графа Тулузского можно было считать a priori проигранным: церковная солидарность не могла не сыграть на руку партии, которую поддерживали епископы.
Граф Тулузский, полагая себя слишком важной персоной, чтобы самому являться в суд, поручил защиту графу Фуа: Раймон-Роже, столь же искусный оратор, сколь храбрый солдат, зачастую проявлял себя даже более воинственным, чем его сюзерен. Все они – и граф Фуа, и графы Тулузские, и граф Беарнский – торжественно заверяли, что не потворствовали ереси и не относились к ней терпимо. «Я могу поклясться со всей искренностью, – говорил Раймон-Роже, – что никогда не любил еретиков, всегда избегал их общества и никогда мое сердце не было с ними. Поскольку святая Церковь всегда имела в моем лице послушного сына, я явился к твоему двору (т. е. ко двору папы), дабы судили по справедливости и меня, и могущественного графа, моего сеньора, и его сына, доброго, прекрасного юношу, который никому не сделал зла... Мой сеньор граф, коему принадлежат обширные владения, целиком отдал себя в твои руки и передал тебе Прованс, Тулузу и Монтобан, чьи обитатели затем попали к жесточайшему, заклятому врагу, Симону де Монфору, который их сажал на цепь, вешал и истреблял без всякой жалости...»[105].
Граф Фуа исказил факты по крайней мере в одном пункте: его сестра и жена стали совершенными в катарских обителях, вторая его сестра принадлежала к вальденсам, а Арьеж был известен как рассадник ереси. Это ему и припомнил Фульк, епископ Тулузы, чем, однако, нимало его не смутил. Фульк, чтобы вызвать возмущение присутствующих, говорил о «пилигримах, которых граф порубил столько, что их телами до сих пор покрыто поле Монжей, а Франция все еще оплакивает их, и ты (граф) обесчещен этим! А там, за дверьми, плач и стоны слепых, изгнанных, изуродованных, не способных передвигаться без поводырей, и земля не может более носить тех, кто убивал, мучил и калечил!». Фульк намекал на резню немецких крестоносцев близ Монжея, которую устроил граф Фуа.
Раймон-Роже страстно запротестовал, вводя препирательство в правдоподобное русло. «Никогда, – сказал он, – никто не трогал пилигримов, смиренно следующих к какому-нибудь святому месту. А что до тех воров и изменников без чести и веры, что нацепили кресты и напали на нас, то верно: если кто из них попался мне или моим людям, то порастеряли кто нос, кто глаз, кто ногу или руку»[106]. Ясно, что напасть таким образом на основу крестового похода – большая дерзость, но граф будто отказывался верить, что папа, «само прямодушие», просил об отпущении грехов «ворам и предателям». Его голос прозвучал очень искренне, поскольку обвинение Раймона-Роже в жестокости наделало немало шума на Соборе. Граф яростно бросился в контратаку и призвал к ответу епископа Тулузы, утверждая, что тот несет принципиальную ответственность за все зло, которое натворили в Лангедоке: «Что касается епископа, который выказал такую пылкость, то я утверждаю, что он предал и Бога, и нас... Едва его выбрали епископом Тулузы, землю охватил такой пожар, что его потушить никакой воды не хватит. Более пяти тысяч людей, и взрослых и детей, лишили жизни, убив и тела и души. Согласно той вере, что мы исповедуем, епископ, по его делам, словам и манерам, выглядит скорее Антихристом, чем римским легатом!».
Граф Фуа стремился представить крестовый поход как бандитское предприятие, где папа был вроде бы ни при чем, но почему-то перестал напоминать своим ученикам, чтобы они «шли осиянные, неся с собой прощение и свет, легкое наказание и искреннее смирение», прибавляя при этом, что в этой войне, где следовало бить еретиков, католики тоже несли урон. Был выслушан также другой представитель защиты, Лионский архидиакон Рено (впоследствии он будет отлучен за ересь), который заявил, что Церковь должна поддержать графа Раймона: «Граф Раймон сразу принял крест, защищая Церковь и выполняя все ее указания. И если Церковь, которая должна его поддержать, его обвиняет, то она не права и может потерять доверие...». Архиепископ Нарбоннский умолял папу не поддаваться влиянию врагов графа. Такое поведение человека, много лет беспощадно преследовавшего графа, изумляет, но его можно объяснить ненавистью к Монфору. Напрашивается, однако, вопрос, доверял ли папа по-прежнему старому легату, ставившему интересы архиепископства Нарбоннского выше интересов Церкви.
В этих дебатах, в ходе которых графа Тулузского и его вассалов должны были лишить всех прав за ересь (или по крайней мере за потворство ереси), о самой ереси не было и речи, все единодушно от нее открещивались, и граф Фуа назвал сестру (почтенную и уважаемую Эсклармонду) «дурной и грешной женщиной»; все были безупречными католиками, все полагались на папское правосудие. А положение папы было отчаянно двусмысленным. Вот почему он сделал вид, что против воли жалует Симону де Монфору должность, требуемую его сторонниками, и всего лишь прислушивается к голосу церковного большинства. Тем не менее, сомнительно, чтобы он мог произнести следующую тираду: «Пусть Симон владеет и правит землей! Бароны, поскольку я не в силах эту землю у него отобрать, то пусть бережет ее и не дает разбазаривать, ибо никогда по моей воле не станут никого созывать ему на помощь»[107]. Однако последователи Иннокентия III (который умрет через год) незамедлительно поднимут крестовые походы в помощь Симону, а потом его сыну. Похоже, что папа первый понял: ересь, далеко не побежденная, завоевала тайные или явные симпатии многих людей, которые до 1209 года осуждали ее. Для торжества дела Церкви рассчитывать можно было только на вооруженную силу, то есть на Симона де Монфора. По сравнению с опасностью, которую в глазах папы представляла ересь, несправедливость по отношению к графу Тулузскому вообще ничего не значила. Для этого теократа-теоретика справедливо было лишь то, что служило делу Церкви.
Итак, Собор постановил: «Да будет Раймон, граф Тулузский, признанный виновным по двум пунктам и многократно в течение долго времени доказавший свою неспособность править страной в истинной вере, навсегда лишен власти, которая ему в тягость. Пусть поселится он за пределами страны, в надлежащем месте, где он сможет принять достойное покаяние за свои грехи. В случае полного послушания, пусть он ежегодно получает 400 марок серебром на содержание. Все домены, отбитые крестоносцами у еретиков, а также их паствы, гонцов и укрывателей, включая Монтобан и Тулузу, главные рассадники ереси, должны быть отданы храброму католику Симону де Монфору, который усерднее других потрудился, чтобы получить причитающееся ему по праву. Остальные территории, не завоеванные крестоносцами, будут, согласно повелению Церкви, отданы под надзор тех, кто оказался способен соблюдать и защищать интересы мира и веры, дабы потом передать их сыну графа Тулузского по достижении им совершеннолетия. Он получит все или только часть, в зависимости от того, как он себя проявит»[108].
Декрет этот достаточно красноречив: никогда победитель не диктовал своих условий побежденному с такой высокомерной уверенностью. Собор будто и не заметил подлога, и тотчас военная победа, обусловленная отчасти удачей, отчасти достоинствами полководца, превратилась в торжество христианской истины над заблуждением. Путь был расчищен победами крестоносцев в Святой Земле, бесчеловечными по сути, ибо неверные не имели права называться людьми, и только небывалая мощь ислама пока еще внушала к нему уважение.
На христианской земле Церковь походила на судью, начавшего почем зря избивать обвиняемого палкой и при этом не дающего ему защищаться, поскольку судья – персона священная. Остается только удивляться, что в таком высоком собрании прелатов из всех католических стран нашлось так мало способных понять всю одиозность подобной линии поведения и отдать себе отчет, что морально судья оказался ниже обвиняемого и заслуживает, чтобы его самого поколотили той же дубиной. Все это можно объяснить, только предположив, что на тот момент ересь была гораздо более распространена и могущественна, чем свидетельствуют дошедшие до нас документы.
Латеранский собор узаконил и освятил моральное поражение Церкви. Папа прекрасно знал о зверствах крестоносцев. На следующий день после Безье аббат писал ему с жуткой откровенностью: «Невзирая на пол и возраст, было заколото около 20 тысяч человек». И единственной реакцией папы было адресованное легату поздравление. Жалобы от консулов, графов и от Арагонского короля, сведения о победах Монфора, о кострах, о резне, об опустошении земель – все проходило через канцелярию папского престола, и ни папа, ни кардиналы не могли об этом не знать. Епископы при полном составе Собора выслушали обвинения, выдвинутые окситанскими баронами против крестоносцев, и никто даже не пытался эти обвинения опровергнуть. Епископ Тулузский мог сколько угодно сокрушаться по поводу убитых «пилигримов», но всем было известно, что они напали первыми.
Ни одно из постановлений Собора не заклеймило жестокостей воинов Господних и не запретило их на будущее. Напротив того: Симон де Монфор, «храбрый католик», был награжден за то, что «усерднее других трудился», и все знали, что это были за труды. Папские сомнения проистекали не от ужаса перед пролитой кровью, а от боязни задеть человека, который потом может иметь определенный политический вес. Юный Раймон не обладал невинностью зарезанных в Безье новорожденных младенцев.
После решений Собора было бы несправедливо хулить Фулька и Арно-Амори за фанатизм или Симона де Монфора за брутальность: папа и Церковь с согласия прелатов отмыли их от содеянного.
Графу Тулузскому ничего не оставалось, кроме как удалиться в изгнание за пределы страны «в указанное ему место». Иннокентий III адресовал ему несколько вежливых соболезнований и выказал большую заботу о юном Раймоне, советуя ему во всем служить Господу и выразив надежду (если верить «Песне...»), что однажды он вернет себе утраченные земли. Что это – выдумка хрониста или слова простого соболезнования пожилого человека, адресованные ребенку? Как бы там ни было, наученный горьким опытом, юный граф никогда больше не обратится к папе в поисках защиты своих прав.
После того, как Собор признал Симона де Монфора хозяином завоеванных земель, ему осталось только получить от французского короля титул графа Тулузского.
Примечательный факт: первый шаг в качестве легитимного суверена Симон направил против архиепископа Нарбоннского, бывшего союзника и автора собственного возвышения. Как владетель доменов графа Тулузского Симон действительно имел право на титул герцога Нарбоннского, который носил графский дом. Легат присвоил себе этот титул в 1212 году, и враждебность между ним и Монфором обострилась. Оба они подали апелляцию в Рим, и папа решил спорный вопрос в пользу архиепископа (2 июля 1215 года). Известно, что, явившись на Собор, Арно сделал все, чтобы навредить Монфору, и Монфор этого никогда не простил. И тем более не мог он простить легату того высокомерия, с которым тот повсюду хвалился, что «купается в почестях», ведь Симон всегда считал, и не без основания, себя самого кузнецом собственной фортуны.
Теперь они стали врагами, и это наполняло радостью сердца окситанцев. Но архиепископ был пока не готов бороться с Монфором. Став хозяином Нарбонны, Арно заставил виконта Эмери себе присягнуть и отдал приказ вновь возвести городские стены, которые Симон, при поддержке принца Людовика, велел срыть. На протест своего соперника архиепископ ответил: «Если граф де Монфор задумает узурпировать герцогство Нарбоннское и будет чинить препятствия возведению городских стен, я отлучу и его самого, и его пособников, и всех, от кого он получит помощь или совет». Как понимать такую резкую перемену позиции прелата? Неуемный старик бросится защищать Нарбонну с той же страстью, с какой защищал ранее Церковь от ереси, и в тот день, когда Симон попытается силой прорваться в город, он помчится со своими солдатами ему наперерез и, едва не затоптанный конницей Монфора, влетит в собор, чтобы с амвона бросить в главу крестового похода отлучающей сентенцией, и наложит запрет на богослужения во всех церквах захваченного узурпатором города.
Симон не позволит себя запугать и велит отслужить мессу в замковой часовне и звонить во все колокола. Было ли положение архиепископа столь опасно, что Симон де Монфор позволил себе открыто ослушаться духовного вождя страны, в которой он представлял лишь светскую власть? Во всяком случае, этот эпизод показывает нам стареющего конквистадора человеком увлекающимся и склонным к эксцессам. Опьяненный собственным могуществом, он без разбору крушил все, что ему мешало.
Утвердив свое господство в Нарбонне, Симон явился в Тулузу (7 марта 1216 года). Он заставил консулов присягнуть себе и своему сыну и наследнику Эмери, повелел разрушить все еще целые городские стены, убрать или понизить башни на жилищах горожан и снять заграждения с перекрестков. Затем он укрепил свою персональную резиденцию – Нарбоннский замок – и отделил его от города рвом, приказав заполнить его водой. Все эти предосторожности говорили о том, что в городе, который он считал своим по праву, он более, чем где бы то ни было, ощущал себя среди врагов.
Затем Монфор наконец-то отправился в Париж, где, увенчанный лаврами, крепкий поддержкой папского престола, он получил торжественную инвеституру из рук французского короля. Несомненно, после стольких лет войны короткий отдых на родине, где его приняли как героя, пролил бальзам на его сердце; он уже отвык от восхищения и приветственных возгласов в свой адрес. Петр Сернейский, как всегда, преувеличивает, но, несомненно, базируется на реальных фактах, когда пишет: «Какие почести ждали его во Франции – невозможно ни описать, ни поверить. Во всех городах, замках и селениях, где он появлялся, его встречала процессия жителей и клира. Религиозное благоговение публики достигло такого накала, что каждый, кому удалось лишь прикоснуться к его одежде, чувствовал себя счастливым»[109]. Население, разгоряченное клиром, видело в нем нового святого Георгия, сокрушившего змея ереси.
Король «после любезной семейной беседы» (Петр Сернейский) утвердил облечение должностью. В постановлении, подписанном в Мелене 10 апреля 1216 года, говорится следующее: «Мы пожаловали нашего преданного слугу, дражайшего Симона де Монфора, герцогством Нарбоннским, графством Тулузским, виконствами Безье и Каркассона, – всеми землями, коими ранее владел бывший граф Тулузский и кои были отвоеваны у еретиков, недругов Церкви и Иисуса Христа».
Итак, король послушно подчинился решению Церкви. Можно подумать, что он вовсе не жалел о том, что земли захватил его вассал, чье влияние на месте было близко к нулю. А Симон де Монфор, торжествующий, обласканный, ставший высочайшим повелением папы и короля одним из первых баронов Франции, вернулся в свои новые домены, чтобы убедиться, что он хозяин лишь там, где может появиться во главе вооруженного до зубов отряда. И ни на пядь дальше.



