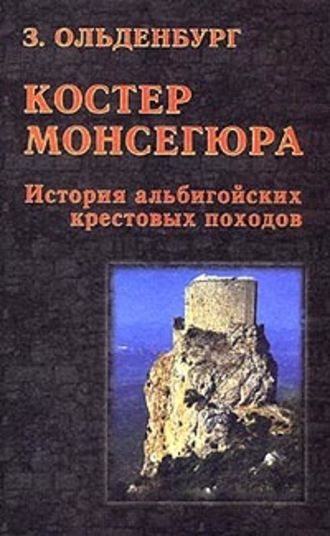
Зоя Ольденбург
Костер Монсегюра. История альбигойских крестовых походов
Замок продержался весь февраль Гильом Пюилоранский пишет: «Осажденным не давали покоя ни днем, ни ночью»[181]. Катапульта стреляла непрерывно, и соорудить защитные укрепления на стене под обстрелом было невозможно. Внутри крепости люди буквально жили друг у друга на головах. Любопытно, что вплоть до последних дней осады многие защитники крепости – по крайней мере, командиры – имели свои «дома». Большинство из них располагалось возле северной и западной стен замка, недоступных при обстреле. В наши дни пространство, отделяющее крепостную стену от края почти отвесной скалы, резко сократилось, и скала сразу переходит в крутой склон. И теперь еще в этих местах можно видеть деревни, прилепившиеся к почти вертикальным стенкам, но в Монсегюре нет никаких следов развалин домов или других каменных строений, кроме останков стены, которая, несомненно, опоясывала и предохраняла замковый госпиталь. Здесь, на голой скале, в крошечных, неотапливаемых деревянных хижинах, либо в замке, в пристройках к складам и цистерне, под грохот каменных ядер, долбивших стену, обитали старики, больные и раненые.
Посоветовавшись с епископом Бертраном и Раймоном де Перелла, Пьер-Роже де Мирпуа решил предпринять ночную вылазку и попытаться занять барбакан, сбросить оттуда крестоносцев и сжечь их катапульту. Людям из гарнизона удалось, карабкаясь по выступающим скальным гребням, приблизиться к неприятельскому лагерю. Но эта отчаянная попытка была отбита, и многие из осажденных погибли в стычке над пропастью, сорвавшись вниз. Остальные продолжали драться, отступая по узкому проходу между замком и барбаканом, таща за собой раненых и отбиваясь от неприятеля, пытавшегося воспользоваться ситуацией и сломить последнюю защиту крепости[182].
Епископ и диаконы едва успевали среди грохота, лязга оружия и стонов раненых перебегать от одного умирающего к другому, чтобы совершить предсмертный обряд. Бернар Роэнь, каталонец Пьер Ферье, сержант Бернар из Каркассона, Арно из Венсы умерли в эту ночь «в утешении»[183]. Последним усилием гарнизон отбросил неприятеля назад к барбакану. Учитывая особенности расположения поля боя, буквально висевшего в пустоте, можно догадаться, что число погибших намного превышало число раненых, которым удалось добраться до замка.
Наутро после трагической ночи со стены крепости затрубил рог. Раймон де Перелла и Пьер-Роже де Мирпуа запросили переговоров.
2. Костер
Переговоры начались 1 марта 1244 года. После более девяти месяцев осады Монсегюр капитулировал. Крестоносцы, сами измученные долгой осадой, долго не торговались. Условия капитуляции были следующие:
Защитники крепости находятся в ней еще 15 дней и освобождают заложников.
Им прощаются все преступления, включая авиньонетское дело.
Воины могут уйти, взяв оружие и вещи, предварительно исповедавшись у инквизитора. На них будет наложено самое легкое покаяние.
Все остальные, находящиеся в крепости, тоже будут отпущены на свободу и подвергнутся легкому наказанию, если отрекутся от ереси и покаются перед инквизицией. Те, кто не отречется, будут преданы огню.
Замок Монсегюр переходит во владение короля и Церкви.
Условия были, в общем, неплохие, трудно было бы добиться лучших: благодаря стойкости и героизму, людям Монсегюра удалось избежать казни и пожизненного заключения. Участникам резни в Авиньонете гарантировали не только жизнь, но и свободу.
Почему же Церковь в лице своего представителя, принимавшего участие в осаде, согласилась простить столь страшное преступление? Ведь вину убийц Гильома-Арно следовало приравнять к вине еретиков. Скорее всего, почва была уже подготовлена, если обе стороны так быстро пришли к согласию в этом вопросе. Переговоры, которые посредством гонцов без конца вел с осажденными граф Тулузский, должны были касаться, среди прочих, и авиньонетского дела.
В действительности, граф в период осады вел активные переговоры с папой, добиваясь снятия отлучения, наложенного на него на другой день после резни, в которой он объявлял себя невиновным. В конце 1243 года папа Иннокентий IV отозвал сентенцию брата Ферье, заявив, что граф является его «верным сыном и преданным католиком». Отлучение, наложенное архиепископом Нарбоннским, было снято 14 марта 1244 года, двумя годами раньше взятия Монсегюра королевской армией. Возможно, совпадение дат случайно, но возможно, что существовала тесная связь между демаршами графа и судьбой людей Монсегюра, в особенности Пьера-Роже де Мирпуа, который был очень заинтересован в благополучном развитии графских дел. Граф просил осажденных держаться как можно дольше не для того, чтобы выслать им подкрепление (об этом он даже и не помышлял), а для того, чтобы заслужить прощение за Авиньонет. Показания людей Монсегюра могли скомпрометировать очень многих находящихся внизу (в том числе и самого графа), но никого из них не тронули.
С другой стороны, личная доблесть защитников и необходимость наконец покончить с осадой, которая растянулась бы еще, не получи осажденные прощение, могла заставить Юга дез Арсиса оказать давление на архиепископа и на брата Ферье. Французы явно не были склонны переоценивать политическое преступление, каковым являлось авиньонетское убийство. Быть может, они начинали понимать ситуацию в стране и чувства местного населения. Солдаты Монсегюра храбро сражались и имели право на уважение противника.
В Монсегюре заключили перемирие. Пятнадцать дней неприятеля не допускали в крепость; пятнадцать дней, согласно данному слову, обе стороны оставались на своих позициях, не пытаясь ни бежать, ни нападать. Катапульту епископа Дюрана демонтировали, часовые больше не вышагивали по земляному валу, и солдатам не надо было все время находиться в боевой готовности. Последние дни свободы Монсегюр прожил мирно – если можно назвать миром ожидание разлуки и смерти под неусыпным наблюдением неприятеля с башни в ста метрах от замка.
По сравнению с теми трагическими часами, что им пришлось пережить, для обитателей Монсегюра наступили дни покоя. Для многих из них они были последними. Остается только теряться в догадках, зачем оговорили эту отсрочку, только продлевающую невыносимое существование обитателей замка. Может, это объяснялось тем, что архиепископ Нарбоннский не мог взять на себя ответственность за оправдание убийц инквизиторов и счел необходимым доложить папе? Скорее всего, отсрочку попросили сами осажденные, чтобы еще побыть с теми, кого они больше не увидят. А может (и этого мнения придерживается Ф. Ниэль), епископ Бертран Марти и его товарищи хотели перед смертью в последний раз отпраздновать праздник, который у них соответствовал Пасхе. Известно, что катары отмечали этот праздник, ибо один из великих постов у них предшествовал именно Пасхе.
Можем ли мы утверждать, что под этим названием подразумевался манихейский праздник Бета, тоже приходящийся на это время? Ни один документ не позволяет нам установить это с уверенностью, к тому же, как мы уже наблюдали, в ритуале катаров, настойчиво и щедро цитирующем Евангелие и Послания апостолов, нет ни одного упоминания имени Мани. Не имела ли эта религия двух различных Заветов и не являлся ли consolamentum, которое почиталось высшим таинством, религиозным актом, предназначенным лишь для непосвященных? С таким предположением трудно согласиться. Учение катаров, манихейское по доктрине, было глубоко христианским по форме и идейному выражению. Катары поклонялись исключительно Христу, и ни для какого Мани в их культе не оставалось места. И, тем не менее, у нас недостает данных, чтобы понять, что же представлял собой этот праздник – Пасху или Бему?
Очень вероятно и по-человечески понятно, что перед тем, как расстаться навсегда, совершенные и воины выговорили себе эту бесценную передышку. Ничего лишнего они не просили, но и большего добиться было бы очень трудно.
Заложников отпустили в первых числах марта. Согласно сведениям, полученным при допросах, это были Арно-Роже де Мирпуа, престарелый шевалье, родственник шефа гарнизона; Жордан, сын Раймона де Перелла; Раймон Марти, брат епископа Бертрана; имена остальных неизвестны, список заложников не был найден.
Некоторые авторы полагают, что Пьер-Роже де Мирпуа покинул замок незадолго до окончания перемирия, заранее подписав акт о капитуляции. Это предположение маловероятно, поскольку, согласно показаниям Альзе де Массабрака, 16 марта Пьер-Роже еще находился в крепости. Известно, что потом он уехал в Монгальяр, и далее его след теряется на десять лет. Молчание, которым было окружено его имя, послужило поводом для обвинений если не в предательстве, то в дезертирстве. Однако, для победителей было бы логично объявить нежелательным присутствие в крепости главного зачинщика авиньонетской резни и попросить его убраться как можно скорее. Человек, открыто высказавший желание выпить вина из черепа Гильома-Арно, мог рассчитывать на милость, так сказать, только по случаю. Одиннадцать лет спустя королевский судебный следователь упоминал его как «файдита, лишенного владений за пособничество еретикам и их защиту в замке Монсегюр». Гражданские права ему вернули не раньше 1257 года. Трудно поверить, чтобы такой человек мог вступить в какие-либо сношения с неприятелем.
Выходит, что Пьер-Роже де Мирпуа и его тесть Раймон де Перелла до окончания перемирия находились в крепости вместе с большинством гарнизона, семьями и еретиками, которые отказались отречься и, согласно условиям капитуляции, должны были взойти на костер. Свои пятнадцать дней они посвятили религиозным церемониям, молитвам и прощанию.
О жизни обитателей Монсегюра в эти трагические пятнадцать дней нам известно только то, что инквизиторам удалось выспросить у тотчас же допрошенных свидетелей: точные, скупые детали, чье трогающее душу величие не может заслонить намеренная сухость изложения. Прежде всего – это раздача имущества осужденных на смерть. В знак признательности за заботу еретики Раймон де Сен-Мартен, Амьель Экарт, Кламан, Тапарель и Гильом Пьер принесли Пьеру-Роже де Мирпуа множество денье в свертке из одеяла. Тому же Пьеру-Роже епископ Бертран Марти отдал масло, перец, соль, воск и штуку зеленого полотна. Другими ценностями суровый старец не владел. Остальные еретики подарили шефу гарнизона большое количество зерна и пятьдесят камзолов для его людей. Совершенная Раймонда де Кюк подарила сержанту Гильому Адемару меру пшеницы (считалось, что хранившаяся в крепости провизия принадлежала не владельцам замка, а Церкви катаров).
Престарелая Маркезия де Лантар отдала все свое имущество внучке Филиппе, жене Пьера-Роже. Солдат одаривали мельгорскими су, воском, перцем, солью, башмаками, кошельками, одеждой, войлоком... всем, чем владели совершенные, и каждый из этих даров, несомненно, приобретал характер святыни[184].
Далее в свидетельствах допрошенных речь шла об обрядах, при которых им довелось присутствовать, – и единственное, о чем их спрашивали в подробностях, – это consolamentum. В этот день, когда сам факт соединения с Церковью катаров означал смертный приговор, по меньшей мере семнадцать человек сделали такой выбор. Их было одиннадцать мужчин – все шевалье или сержанты – и шесть женщин.
Одна из женщин, Корба де Перелла, дочь совершенной Маркезии и мать парализованной девушки, возможно, уже принявшей consolamentum, долго готовилась к этому серьезному шагу. Она решилась лишь на рассвете последнего дня перемирия. Предпочтя принять муку за веру, она расставалась с мужем, двумя дочерьми, внуками и сыном[185]. Эрменгарда д'Юссат была одной из знатных дам региона, Гульельма, Бруна и Арсендида – женами сержантов (две последних взошли на костер в одиннадцатом часу вместе со своими мужьями совершенно добровольно). Все они были молоды, как и их мужья. Возможно, постарше была жена Беранже де Лавеланета, Гульельма.
Из шевалье consolamentum во время перемирия приняли двое: Гильом де л'Иль – тяжело раненый за несколько дней до этого – и Раймон де Марсилиано. Остальные – сержанты Раймон-Гильом де Торнабуа, Бразийак де Калавелло (оба принимали участие в авиньонетской резне), Арно Домерк (муж Бруны), Арно Доминик, Гильом де Нарбонна, Понс Нарбона (муж Арсендиды), Жоан Per, Гильом дю Пюи, Гильом-Жан де Лордат и, наконец, Раймон де Бельвис и Арно Теули, поднялись в Монсегюр, когда положение было уже безнадежным, словно проделали такой опасный путь, чтобы стать мучениками. Все эти солдаты могли покинуть замок с военными почестями и с гордо поднятой головой, но они предпочли, чтобы их согнали, как скотину, привязали к вязанкам хвороста и заживо сожгли бок о бок с наставниками по вере.
Об этих наставниках нам известно немногое, за исключением того, что епископ Бертран, Раймон де Сен-Мартен и Раймон Эгюйер совершали обряд consolamentum над теми, кто об этом просил, и раздавали свое имущество. Совершенных обоего пола насчитывалось около 190 человек, однако известно, что в Монсегюре сожгли 210 или 215 еретиков, и те, чьи имена мы можем назвать с определенностью, были простыми верующими, принявшими обращение в последний момент.
Потрясает то, что добрая четверть оставшихся в живых воинов гарнизона были готовы умереть за веру не в порыве энтузиазма, а после долгих дней осознанной подготовки. Мучеников потерпевшей крах религии никто не канонизировал, но эти люди, чьи имена записали только для того, чтобы свидетелей их обращения занести в черный список, сполна заслужили статус мучеников.
По крайней мере трое из совершенных, находившихся в крепости в момент капитуляции, избежали костра. Это было нарушением договора, и узнали об этом только после оккупации замка французами. Ночью 16 марта Пьер-Роже велел еретикам Амьелю Экарту, его компаньону Юго Пуатвену и третьему человеку, чье имя осталось неизвестным, спуститься по веревке вниз с восточного края скалы. Когда французы вошли в замок, эти трое находились в подземелье и избежали участи своих братьев. Они должны были вынести и надежно спрятать то, что оставалось от сокровища катаров, и отыскать тайник с деньгами, спрятанными двумя месяцами раньше. В действительности Пьер-Роже де Мирпуа и его рыцари покинули замок последними, уже после катаров и после женщин и детей. Они должны были до последнего момента оставаться хозяевами крепости. Эвакуация сокровищ удалась, и ни троих еретиков, ни сами сокровища власти не обнаружили.
«Когда еретики покинули замок Монсегюр, который должны были вернуть Церкви и королю, Пьер-Роже де Мирпуа задержал в означенном замке Амьеля Экарта и его друга Юго, еретиков; и в то время как остальные еретики были сожжены, означенных еретиков он спрятал, а потом дал им уйти, и сделал это для того, чтобы Церковь еретиков не потеряла свои сокровища, спрятанные в лесах. Беглецы знали место тайника»[186]. Б. де Лавеланет также утверждает, что по веревке спустились А. Экарт, Пуатвен и еще двое, которые сидели в подземелье, когда французы вошли в замок. Монсегюр пал, но Церковь катаров продолжала борьбу.
За исключением этих троих (или четверых) человек, которым была поручена опасная миссия, никто из совершенных не смог, а, возможно, и не захотел избежать костра. Как только истек срок перемирия, сенешаль и его рыцари в сопровождении церковных властей появились у ворот замка. Епископ Нарбоннский незадолго до этого отбыл восвояси. Церковь представляли епископ Альби и инквизиторы брат Ферье и брат Дюранти. Французы сделали свое дело и обещали жизнь всем сражавшимся. Теперь судьба защитников Монсегюра зависела только от церковного трибунала.
Покидая крепость, Раймон де Перелла оставлял палачам жену и младшую дочь. Отцы, мужья, братья и сыновья так хорошо усвоили закон, в течение веков приводивший нераскаянных еретиков на костер и жестоко отрывавший их от близких, что научились воспринимать его как логический результат поражения и видеть в нем проявление слепого рока. Как же отличали тех, кому не было прощения? Возможно, они обозначали себя сами, держась в стороне от других. В такой ситуации бесполезно было подвергать их допросам и заставлять признавать то, что они и не пытались скрывать.
Гильом Пюилоранский пишет: «Напрасно призывали их обратиться в христианство»[187]. Кто и как их призывал? Скорее всего, инквизиторы и их помощники отдельной группой вывели из крепости двести с лишним еретиков, попутно для проформы высказав им порицание. На рассвете дочери Корбы де Перелла, Филиппа де Мирпуа и Арпаида де Рават, простились с матерью, которая на несколько коротких часов предстала перед ними уже в качестве совершенной. Арпаида, не осмеливаясь вдаваться в детали, дает нам почувствовать ужас момента, когда ее мать вместе с остальными вывели навстречу смерти: «...их выгнали из замка Монсегюр, как стадо животных...»[188].
Во главе группы приговоренных шел епископ Бертран Марти. Еретики были скованы цепью, и их безжалостно тащили по крутому склону к месту, где был приготовлен костер.
Перед Монсегюром, на юго-западном склоне горы – практически, это единственное место, куда можно спуститься, – есть открытая поляна, которая нынче зовется «полем сожженных». Это место расположено менее чем в двухстах метрах от замка, и тропа к нему очень крута. Гильом Пюилоранский говорит, что еретиков сожгли «у самого подножия горы», и, возможно, это и есть поле сожженных.
В то время как наверху совершенные готовились к смерти и прощались с друзьями, часть сержантов французской армии была занята последней осадной работой: надо было обеспечить надлежащий костер для сожжения двухсот человек – приблизительное число приговоренных им назвали заранее. «Из кольев и соломы, – пишет Гильом Пюилоранский, – соорудили палисад, чтобы отгородить место костра»[189]. Внутрь снесли множество вязанок хвороста, соломы и, возможно, древесную смолу, поскольку весной дерево еще сырое и плохо горит. Для такого количества приговоренных, скорее всего, некогда было ставить столбы и привязывать к ним людей по одному. Во всяком случае, Гильом Пюилоранский упоминает только, что их всех согнали в палисад.
Больных и раненых попросту бросили на охапки хвороста, остальным, быть может, удалось отыскать своих близких и соединиться с ними... и хозяйка Монсегюра умерла рядом с матерью и парализованной дочкой, а жены сержантов – рядом с мужьями. Быть может, епископ успел среди стонов раненых, лязга оружия, криков палачей, разжигавших костер, и заунывного пения монахов обратиться к своей пастве с последним словом. Пламя вспыхнуло, и палачи отпрянули от костра, уберегаясь от дыма и жара. За несколько часов двести живых факелов превратились в груду почерневших, окровавленных тел, все еще прижимавшихся друг к другу. Над долиной и замком плыл жуткий запах горелого мяса.
Защитникам, оставшимся в замке, сверху было видно, как занялось и росло пламя костра, и клубы черного дыма покрыли гору. По мере того, как уменьшалось пламя, едкий, тошнотворный дым сгущался. К ночи пламя стало медленно угасать. Рассыпавшиеся по горе солдаты, сидя у костров возле палаток, должны были видеть красные сполохи, пробивавшиеся сквозь дым. В эту ночь и спустились на веревках со скалы четверо, отвечавших за сохранность сокровища. Их путь проходил почти над тем местом, где догорал чудовищный костер, накормленный человеческой плотью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Через пять лет после падения Монсегюра умер Раймон VII, дожив до пятидесяти двух лет и так и не оставив наследника. Графство Тулузское перешло в руки Альфонса де Пуатье, мужа единственной дочери графа. Оба супруга умерли в 1271 году, тоже не оставив потомства. После этих смертей французская корона окончательно присоединила к себе страну, за двадцать лет уже превратившуюся во французскую провинцию в старинном и традиционном смысле этого слова: в страну второстепенного значения, колонизованную и эксплуатируемую, административно и интеллектуально подавленную сильной метрополией, блюдущей свои интересы.
За двадцать два года Альфонс де Пуатье был в Тулузе всего дважды: в 1251 году, когда приезжал принимать присягу у новых вассалов, и в 1270-м, за год до смерти. Этот прекрасный администратор прежде всего был озабочен созданием эффективной фискальной системы, чтобы выжимать из доменов суммы, необходимые для осуществления его политических планов, а прежде всего – планов его брата. Для Людовика Святого главной задачей французской политики было завоевание Святой Земли. Есть основания думать, что Альфонс никогда не принимал всерьез своего титула графа Тулузского и был всего лишь послушным исполнителем воли брата. Народ, который в 1249 году с рыданиями провожал гроб Раймона VII от Милло до Фонтеврота, знал, что оплакивает свое существование как нации.
За несколько месяцев до смерти граф приказал сжечь в Ажане 80 еретиков или людей, заподозренных в ереси, после скорого суда, который сами инквизиторы себе бы не позволили. Несомненно, тем самым он намеревался заслужить милость Церкви. А может быть, хотел заставить еретиков искупить то зло, которое они навлекли на его страну. Эта мера была излишней; уставший от преследований и унижений, деморализованный нарастающим удушением любой живой силы в стране, народ Окситании – по крайней мере, привилегированные классы, которым было что терять, – отошли от религии катаров и с горечью в сердце примкнули к рядам победителей.
Лангедок присоединился к Франции, и бесполезно спрашивать себя, отчего же этот союз, продиктованный и географическим, и политическим положением в стране, не мог осуществиться менее брутальным образом. Неужели на самом деле между северянами и южанами была такая несовместимость интересов и образа мыслей, что только жесточайшая из войн оказалась способной установить союз между французами? До 1209 года это могло быть взаимное непонимание, но никак не ненависть. После смерти Раймона VII окситанский народ, уставший от ненависти и страданий, постепенно – не без боли и протеста – начал мириться с тем, что его язык превращается в провинциальный диалект.
Кто и когда подсчитывал, что теряет народ, теряя независимость, и как провести грань между региональным сепаратизмом и национальными чаяниями? В конечном итоге победа сильнейшего всегда кажется наилучшим из вариантов, который на сегодня наиболее реален.
Королевская власть во Франции получила наиболее полное и осознанное, чем когда бы то ни было, доказательство своего божественного права: она смогла противостоять папству, которому всегда служила, и на этот раз заставить его служить себе. Ради истребления ереси Церковь постоянно подвергала себя опасности, наблюдая, как могущественный союзник покушается на ее мирскую власть.
Католическая Церковь прекрасно сознавала эту опасность: борьба с Империей и недавний опыт борьбы с Фридрихом заставил ее сполна эту опасность оценить. Ересь в ее глазах представляла собой опасность еще более ужасную. И если, благодаря инквизиции, папство одолело катаров и другие еретические движения XIII-XIV веков, эта победа дорого ему стоила. Пощечина в Ананьи не задела сокровенного достоинства Церкви и была лишь эпизодом в бесконечной битве, которую Церковь была вынуждена вести ради сохранения своей материальной и моральной независимости. Однако режим полицейского террора, который инквизиция на многие века установила среди западных народов, подорвал Церковь изнутри и привел к колоссальному падению морального уровня христианства и католической цивилизации.
До Альбигойского крестового похода, до инквизиции голоса епископов и аббатов еще поднимались, чтобы протестовать против сожжения еретиков, чтобы вымолить прощение заблудшим братьям. В XIII веке св. Фома Аквинский нашел для оправдания костров слова, недопустимые в устах христианина[190]. Злоупотребления, которые можно было бы отнести к невежеству и грубости нравов эпохи, теперь были одобрены и освящены с кафедры теологии одним из величайших философов христианства. Этот факт слишком серьезен, чтобы можно было его недооценить по прошествии XIII века в католической Церкви уже не нашлось ни святых, ни ученых, которым хватило бы смелости заявить, что человек, заблуждающийся в вопросах религии, есть создание Божие (как утверждала еще в XII веке св. Хильдегарда)[191], и лишать его жизни – преступление. Церковь, решительно позабывшая такую простую истину, потеряла право называться католической, и в этом смысле можно сказать, что ересь нанесла Церкви удар, от которого она так и не оправилась.
Победа досталась слишком дорого, если римская Церковь, жестоко карая, как в случаях с еретиками, и смогла уберечь западное христианство от тяжелых потрясений, которые могли бы разрушить все его социальное и культурное здание, она добилась этого ценой моральной капитуляции, последствия которой не преодолены до сих пор.



