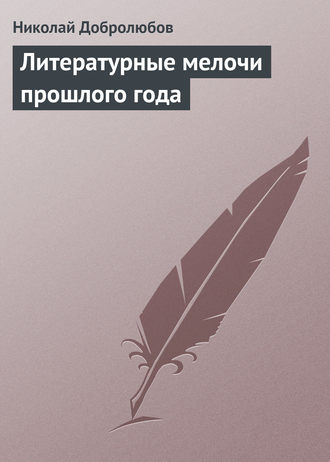
Николай Александрович Добролюбов
Литературные мелочи прошлого года
Известно, что очень немногие из литературных деятелей, сделавшихся особенно заметными в последнее время, принадлежат собственно нынешнему времени. Почти все они выработались гораздо прежде, под влиянием литературных преданий другого периода, начало которого совпадает в истории… впрочем, что нам до истории: читатели сами ее должны знать… будем говорить только о литературе. В литературе начало этого периода совпадает со временем основания «Московского телеграфа»{12}; жизненность его оканчивается со смертью Белинского; а затем идет какой-то летаргический сон, прерываемый только библиографическим храпом и патриотическими грезами; окончанием этого периода можно положить то время, в которое скончал свое земное поприще незабвенный в летописях русской журналистики «Москвитянин»{13}. Схоронивши сие тяжеловесное и скучное создание, литераторы, бродившие как потерянные со времени смерти Белинского, как будто пришли в себя и повестили довольно громко на всю Русь православную, – что они живы и здоровы. Русь им обрадовалась, и они принялись, как старые знакомые, с ней разговаривать и рассуждать, стали ей «сказки сказывати и давати ей поученьица»… Слово их было произносимо со властию, с сознанием собственного достоинства, и молодое поколение с трогательною робостью прислушивалось к мудрым речам их, едва осмеливаясь делать почтительные вопросы и уже вовсе не смея обнаруживать никаких сомнений. При малейшем равнодушии молодежи к поучениям зрелых мудрецов в их глазах и губах появлялось выражение, в котором ясен был презрительный вызов: «вы, нынешние, – ну-тка!..»{14} При таком вызове нынешние, разумеется, поджимали хвост и съеживались, не дерзая мерять свои силы с могучими бойцами, уже испытанными в жизненной борьбе… Поле словесной битвы, постоянно оставалось, таким образом, за людьми зрелыми, разумными и опытными; молодое поколение обычным путем вступило в свои права – наслаждаться поучениями старших.
Но – увы! – столь отрадный порядок вещей продолжался недолго! Очень скоро зрелые мудрецы выказали все наличные силы, сколько было у них, – и оказалось, что они не могут стать в уровень с современными потребностями. Юноши, доселе занимавшиеся, вместе со зрелыми мудрецами, поражением семидесятилетних старцев, решились теперь перенести свою критику и на людей пятидесяти и даже сорока лет. История о том, как и отчего все это произошло, не лишена занимательности, и мы когда-нибудь при удобном случае займемся подробным ее изложением, а теперь расскажем только вкратце ее содержание.
В гласных проявлениях общественной жизни России в последнюю четверть века произошло обстоятельство, довольно замечательное по своей странности: в этих проявлениях почти нисколько не отражалась внутренняя работа жизни. По газетам, по отчетам, по статистическим выводам, по официальным сведениям журналов, издаваемых разными ведомствами, по историческим исследованиям Фаддея Булгарина, по реторике и философии академика Ивана Давыдова, по одам графа Хвостова можно видеть только одно: что «все обстоит благополучно». Между тем на деле далеко не все обстояло так благополучно, как можно было подумать, судя по официальным рапортам. Это хорошо знали и решились прямо сказать некоторые благородные и энергические люди, желавшие, чтобы жизнь нашла свое отражение в печатном слове всеми своими сторонами, хорошими и худыми, и всеми своими стремлениями, близкими и далекими. Изобразителем этих сторон явился Гоголь, истолкователем этих стремлений – Белинский; около них группировалось несколько десятков талантливых личностей. Все они дружно принялись за свое дело и явились пред обществом действительно передовыми людьми, руководителями общественного развития. Большинство, поклонявшееся тогда глубокомыслию барона Брамбеуса, учености Греча и Ив. Давыдова, патриотическим драмам Кукольника и т. д., – туго поддавалось на убеждения энергических деятелей гоголевской партии; но, одушевляемые Белинским и лучшими из друзей его, эти люди неутомимо продолжали свое дело. Успех их был велик в обществе: к концу жизни Белинского они решительно овладели сочувствием публики; их идеи и стремления сделались господствующими в журналистике; приверженцы философии Булгарина и Давыдова, литературных мнений Ушакова и Шевырева, поэзии Федора Глинки и барона Розена были ими заклеймены и загнаны на задний двор литературы. Русское печатное слово, действительно шло к тому, чтобы сделаться верным и живым выражением русской жизни. Но в 1848 году Белинский умер, многие из его друзей и последователей рассеялись в разные стороны, Гоголь в то же время резко обозначил перемену своего направления, и начатое дело остановилось при самом начале. Литература потянулась как-то сонно и вяло; новых органов литературных не являлось, да и старые-то едва-едва плелись, мурлыча читателям какие-то сказочки; о живых вопросах вовсе перестали говорить; появились какие-то библиографические стремления в науке; прежние деятели замолкли или стали выть по-волчьи. Люди, писавшие прежде о Мальтусе и пауперизме, принялись за сочинение библиографических статеек о каких-нибудь журналах прошлого столетия{15}; писатели, поднимавшие прежде важные философские вопросы, смиренно снизошли до изложения каких-нибудь правил грамматики или реторики; люди, отличавшиеся прежде смелостью общих исторических выводов, принялись рассматривать «значенье кочерги, историю ухвата»{16}. Забитая прежде литературная дрянь и мелюзга подняла голову, и «вылезшие из щелей мошки и букашки»{17} опять начали ползать и пищать, не боясь уже быть растоптанными. Лучшие деятели недавнего времени махнули тогда рукой и решились хранить гробовое молчанье, если само общество не потребует от них слова. Но общество оказалось совершенно равнодушным к литературе: ему как будто и дела не было до того, что об нем и для него пишется. Пока говорили, – оно слушало; перестали говорить, – оно перестало слушать. Внезапный перерыв речи не произвел на него, по-видимому, никакого впечатления. Ни сожаления, ни упрека, ни просьбы о продолжении речи – ничего не заявила русская публика. Естественно, что такая холодность очень дурно подействовала на литературных деятелей, и это отразилось, и отражается до сих пор, на их возобновленной деятельности. Они подумали – и не без основания, – что в обществе не поняты или не приняты те идеи, которые они проповедывали, те интересы, которым они служили. Им показалось, что общество не только не способно идти вперед по указанному ими направлению, но еще не может остановиться даже и на том, до чего они успели довести его, – а непременно поворотит назад, повинуясь силе противного ветра. И вследствие именно этого убеждения в ветрености общества литературные деятели наши выказали столько слабости и мелочности при возобновлении своей деятельности. Когда общество опять потребовало от них слова, они сочли нужным начать с начала и говорить даже не о том, на чем остановились после Белинского, а о том, о чем толковали при начале своей деятельности, когда еще в силе были мнения академиков Давыдова и Шевырева, когда еще принималось серьезно дифирамбическое красноречие профессоров Устрялова и Морошкина, когда даже фельетоны «Северной пчелы» требовали еще серьезных и горячих опровержений. Если это скучно и бесполезно для нынешней публики, то она терпит только достойное наказание за то, что ввела в ошибку литераторов. Почему, в самом деле, могли они знать о степени развития своих читателей, когда эти читатели ни голоса не подали никогда в ободрение упадавшей литературы? Поделом теперь и терпят скуку за свою невнимательность!..
Впрочем, нельзя совершенно оправдать и литераторов. Вина их состоит в недогадливости, а недогадливость происходит оттого, что они слишком книжно и слишком гордо взглянули на свое призвание. Они сочли себя чем-то высшим и подумали, что жизнь без них обойтись уже вовсе не может: если они поговорят, так и сделается что-нибудь, а не поговорят, – ничего не будет. Утвердившись в таком отвлеченном и высокопарном убеждении, они и не догадались, что жизнь все-таки идет своим чередом, все-таки заявляет свои требования, вырабатывает новые понятия, ставит новые вопросы и представляет данные для их разрешения. Ода ожидали встретить теперь то же, что было за двадцать лет назад; но их ожидания оправдались только вполовину. Их сверстники, бодрые юноши двадцатых и тридцатых годов, действительно остановились на том, что им говорили тогдашние литературные деятели; даже больше – они утратили, вместе с первой молодостью, часть тех убеждений, которые прежде горячо принимали к сердцу. Чтобы подействовать на их зрелую апатию, в самом деле надо было опять начинать с элементарных понятий и входить во все мелочи, так как нельзя было положиться на них в том, что они умеют понимать эти мелочи как следует. И вот пошли повторения задов, пошли контроверсии о разных предметах – ясных и бесспорных или мелких и пошлых. С пылкой энергией, свободным и решительным языком заговорили зрелые мужи литературные и с первых же слов заслужили рукоплескания молодежи и негодование своих сверстников и старших себя. Ход дела был совершенно понятен: в последние десять лет русской молодежи как-то особенно усердно вперяем был страх и трепет перед старшими. Молодость, разумеется, и тогда брала свое, и юноши исподтишка посмеивались над старцами, – но вслух говорить не смели. И вдруг они увидели, что люди почтенные, сами до некоторой степени старшие, подсмеиваются над разными ветеранами и бросают камень осуждения в тех, кто к ним подслуживается. Юношам это очень понравилось; они почувствовали сердечное влечение к зрелым людям, так резко отвергающим ненавистный принцип безответности младшего перед старшим; стали с почтением прислушиваться к их мудрым речам, увидели, что они говорят хорошие вещи о правде, чести, просвещении и т. п., – и решили, что, несмотря на свой почтенный возраст, зрелые мудрецы принадлежат к новому времени, что они составляют одно с новым поколением, а от старого бегут, как от заразы. Еще не имея собственного знамени, молодежь примкнула к благородной фаланге людей, хотя и много старших возрастом, но юных по своим идеям и стремлениям. Между двумя поколениями заключен был, безмолвно и сердечно, крепкий союз против третьего поколения, отжившего, парализованного, охладевшего, но все еще мешавшего общему довольству и спокойствию, пугавшего новую жизнь своим полумертвым телом, похожим на труп, заживо разлагающийся и смердящий.
Но не прошло и года, как молодые люди увидели непрочность и бесполезность своего союза с зрелыми мудрецами. Во всей пожилой фаланге оказалось очень немного имен, которые можно бы было поставить во главе нового движения. Большая часть прежних деятелей, давно уже потерявшая возможность гласного выражения идей и стремлений, совершенно отчаялась в течение этого времени в дальнейшем прогрессе общества, перестала следить за жизненным движением событий, сложила руки и осталась в пассивном созерцании до тех пор, пока сила событий опять не вызвала их к деятельности. Естественно, что они теперь почувствовали себя как-то не в своей тарелке и не знали, что им делать и говорить. Начали они с того, что стали пробовать и разминать свой язык, желая убедиться, что он не разучился произносить человеческие звуки. На первый раз принялись болтать о том, что говорить лучше, чем молчать; потом рассказывали о своем недавнем сне и выражали радость о своем пробуждении; затем жалели, что после долгого сна голова у них не свежа, и доказывали, что не нужно спать слишком долго; после того, оглядевшись кругом себя, замечали, что уже день наступил и что днем нужно работать; далее утверждали, что не нужно заставлять людей работать ночью и что работа во тьме прилична только ворам и мошенникам, и т. д. Долго неопытная молодежь рукоплескала заговорившим пожилым мудрецам, как рукоплещут в театре выходу любимого актера зрители, заранее убежденные, что он отлично сыграет свою роль. Но с каждым словом почтенных деятелей все яснее обозначалось их бессилие, с каждым новым выходом журнальных книжек все слабел энтузиазм молодежи и тех деятелей прежней партии, которые умели понять ее стремления. Возложивши свои надежды на лучших людей предшествующего поколения, молодежь увидела себя в положении больного человека, который обратился за излечением к прославленному доктору, уже лет за двадцать до того оставившему практику. Вы ожидаете, что он пропишет вам рецепт или по крайней мере даст совет, предпишет диету; но доктор пришел, потолковал о своих медицинских познаниях и удалился. Вы ждете, что будет дальше.
Через месяц является доктор с известием: ваше здоровье расстроено.
Еще через месяц новое сведение: цвет вашего языка и биение пульса доказывают, что ваше здоровье не совсем в порядке.
Еще через месяц: больные люди должны лечиться; история медицины представляет много тому доказательств.
Через два месяца: вам непременно следует лечиться.
Еще через два месяца: для того чтобы вылечиться, вам надобно бросить дурных докторов и обратиться к хорошему.
Через месяц: хорошего доктора трудно залучить к себе; но если дать хорошие деньги, то и хороший доктор придет к вам.
Через два месяца: при лечении следует наблюдать диету, предписанную не дурным, а хорошим доктором.
Через три месяца: диета должна быть сообразна с характером болезни.
Через два месяца: способ лечения также должен быть принят в соображение при назначении диеты.
Через месяц: болезнь входит пудами, а выходит золотниками.
Еще через месяц: чтоб сохранить свое здоровье, надобно вести себя осторожнее.
Еще через месяц: не надобно допускать вредных внешних влияний, от которых может страдать ваше здоровье.
Через два месяца: вы больны оттого, что не побереглись…
И так далее, и так далее…
Целые годы проходят в мудрых рассуждениях, которые вам одинаково знакомы и при болезни вашей и в здоровом состоянии. Вы можете в это время двадцать раз выздороветь, опять захворать, объесться, опиться, насмерть залечить себя, а прославленный доктор, давно оставивший практику, все с прежним самодовольствием будет сообщать вам глубокие афоризмы, вроде вышеприведенных… Поневоле вы от него отступитесь.







