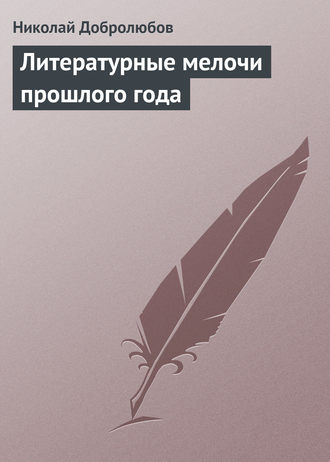
Николай Александрович Добролюбов
Литературные мелочи прошлого года
Вопрос о телесном наказании тоже был на очереди; но решился как-то странно. Нужно, впрочем, заметить предварительно, что если кто подумает, будто дело шло в литературе об отменении розог, – тот жестоко ошибается. Нет, до этого литература еще не договорилась. Дело шло ни больше, ни меньше, как о том, кому сечь – помещику ли или сельскому управлению. Ранее всех, кажется, поднял этот любопытный вопрос некто г. Петрово-Соловово, предложивший его в «Одесском вестнике» в такой форме: «Каким количеством ударов розгами владелец может наказывать срочно-обязанных крестьян по своему желанию и усмотрению!» На вопрос, конечно, явились ответы. В «Журнале землевладельцев» г. Рощаковский высказал гуманную мысль, что не следует отстаивать 40 ударов, а можно спуститься до 20. Князь Черкасский, в «Сельском благоустройстве» поступил еще гуманнее: он спустил еще десять процентов и согласился уменьшить число ударов, предоставленных в ведение дворянства, до 18. Но, тут-то (не знаем уж почему, – потому, должно быть, что в последовательных уступках увидели слабость противников) и восстали благородные рыцари, совершенно разбившие князя Черкасского. Кончилось тем, что он отказался и от 18 ударов в пользу дворянства и уступил их сельскому управлению. Но тут, разумеется, рыцари ободрились еще более и начали пускать грязью в бегущего с поля битвы князя Черкасского и в друзей его. Но беглецы скрылись, а рыцари оказались перепачканными в грязи. Затем все стихло…
Не столь счастливо, как народ, отделались дети: о них наши передовые люди вcе еще сомневались в прошлом году: сечь или не сечь, по своему желанию и усмотрению{58}. Впрочем, и то хорошо, что сомневались: сомнение есть путь к истине.
Таким образом, на поприще грамоты и розог успехи наши в прошлом году несомненны. Много уже сделано; говоря словами одной современной песенки,
Мы обсуждали очень тонко
(Хоть не решили в этот год),
Пороть ли розгами ребенка,
Учить ли грамоте народ.
Вообще о народном просвещении у нас сильно говорили в прошедшем году. Особенно занимали всех вопросы о женском образовании и об отношении гимназий к университетам. Согласились единодушно, что девочек учить тоже нужно; с большою радостью приветствовали открытие женских школ. Что касается до направления и характера женского образования, – на этом поприще подвизался преимущественно г. Аппельрот, желавший вообще проводить воспитание «от центра домашнего быта к периферии всемирной жизни»{59}. Впрочем, литература на этот предмет как-то мало обратила внимания. Но зато учреждению женских школ она ужасно радовалась!.. В простоте души она не стыдилась хвалиться тем, что у нас наконец будут женские школы!.. Из этого видно, что она считает женские школы в некотором роде роскошью, без которой можно и обойтись, – потому что нельзя же считать великим подвигом удовлетворение необходимейших своих потребностей, нельзя серьезно восторгаться и хвалиться тем, что я ночью ложусь спать, поутру просыпаюсь и за обедом ем.
Об университетах и гимназиях тоже хорошо говорили. Один профессор сказал, что в университете студенты ничему не выучиваются, потому что в гимназиях плохо бывают подготовлены к слушанию ученых лекций профессоров («Атеней», № 38). А гимназии оттого приготовляют плохо, утверждал тот же профессор, уже вместе с другим («Журнал для воспитания», № 2){60}, что университету не предоставлено контроля над ними. Но профессорам с разных сторон дали сильный отпор. Они глумились над гимназистами, поступающими в университет, и рассказывали уморительные анекдоты, случавшиеся с молодыми людьми на приемных экзаменах; а им отвечали еще более уморительными анекдотами о профессорских лекциях. Профессор говорил: «Что делать с тупоумным учеником, который на экзамене отвечает слово в слово по скверному учебнику?» А ему отвечали: «Что же делать ученику, ежели профессора и вообще знающие люди презирают составление учебников и предоставляют это дело какому-нибудь г. Зуеву?» Профессор говорил: «Если ученик не знает географии, то, читая, например, историю, не могу же я замечать ему, что Лион находится во Франции, а Тибр течет в Италии…» А ему отвечали: «Отчего же бы и нет? Это было бы и лучше и короче, чем читать, например, целый трактат о разных породах голубей и об их воспитании, как делал один профессор по поводу слова, встретившегося в каком-то памятнике…» И анекдоты о профессорах были отличные! Словом – литература показала себя!
По этой же части еще был один важный вопрос, которого, однако, так и не решила литература. Дело было в том: нужно ли учителям (особенно уездным) внутренно возвыситься до того, чтобы заслужить сначала уважение общества, а потом, за добродетель, – хорошее жалованье; или же нужно учителям прибавить жалованье для того, чтобы они могли получше держать себя в обществе. В «Журнале для воспитания» почти целый год об этом препирания производились; «Атеней», в лице г. Некрасова, объявил себя за внутреннее возвеличение учителей; г. Гаярин в «Русском вестнике» объявил себя за прибавку жалованья. Но окончательного решения по столь многотрудному вопросу до сих пор еще не произнесено… И, кажется, – не литература произнесет его: прибавка жалованья учителям уже решена, говорят, в министерстве просвещения.
Не пускаясь в подробности, укажем еще в общих чертах на два современнейшие вопроса – о взятках и гласности. Первый вопрос, впрочем, в прошедшем году потерял уже свою самостоятельность (в этом действительно можно видеть прогресс литературы) и примкнул к вопросу о гласности, которая рассматривалась у нас преимущественно в применении к судопроизводству. Разумеется, тут целая половина рассуждений заключалась в опровержении сочиненного нашими же писателями мнения о том, что гласность гибельна для блага государства. Сколько мы ни прислушивались к общественному мнению здесь, в Петербурге, сколько ни расспрашивали людей, живших в последнее время в провинциях, – ни от кого мы не слыхали, чтобы гласность считалась гибельною в нашем обществе, по крайней мере в том, которое читает журналы. А между тем журнальные статейки беспрестанно сражались с невидимыми, воображаемыми противниками гласности… Есть, конечно, противники; кто же станет отвергать это? Но ведь они стоят ниже общественного сознания. Ведь уже самый факт нерасположения к гласности доказывает, что они или из ума выжили, или не имеют ни малейшей добросовестности! Зачем же литература так много о них заботится, так много придает им значения? Стало быть, они имеют для нее какую-то непостижимую важность!.. Хороша же литература, для которой имеют важность такие господа, совершенно уже отрешенные от всякого здравого смысла!.. И после этого еще литература имеет наивность воображать, что она в состоянии руководить общество на пути прогресса!.. Неужели она не понимает, что общество стоит уже выше подобных внушений и подобных руководителей? Неужели литература не видит, что общество требует пищи, а не рассуждений о том, что не евши можно умереть с голоду?.. Хорош был бы повар, который каждое утро являлся бы к вам и посвящал по нескольку часов на объяснение того, что человек должен есть, что кушанье надобно варить непременно с солью, что без соли оно не будет иметь вкуса, и т. п. Вероятно, вы скоро приказали бы ему замолчать или наконец совсем прогнали бы его…
Но, кроме рассуждений о пользе гласности, были и действительные ее применения. Вы помните их, читатель; а если не помните, то обратитесь к «Свистку»: там их целая коллекция…{61} «Свисток» может ими восхищаться, сколько ему угодно; но мы, признаемся, не видим спасения России в подобном применении гласности.
Один из видов гласности составляла обличительная литература. В этой отрасли, кроме безыменности, обращает на себя внимание еще мелкота страшная. По поводу разных литературных явлений прошлого года, вроде комедий г. Львова, стихотворений г. Розенгейма и т. п., мы не раз уже рассуждали об этом предмете{62}. Теперь припомним только общий характер обличительной литературы последнего времени. Она вся погрузилась в изобличение чиновников низших судебных инстанций. Писарям, становым, магистратским секретарям, квартальным надзирателям житья не было! Доставалось также и сотским и городовым и т. п. Все это, конечно, хорошо в своем роде: зачем же и городовому грубо обращаться с дворниками? Нужно и его обличить… Но вслушайтесь в тон этих обличений. Ведь каждый автор говорит об этом так; как будто бы все зло в России происходит только оттого, что становые нечестны и городовые грубы! Ведь до сих пор многие из обличителей не отрешились от достойно осмеянной точки зрения Надимова{63}, уверяющего, что для благоденствия России нужно только на мелкие должности поступить богатым дворянам!.. А пора бы уж понять всю недостаточность подобного воззрения. Оно, конечно, справедливо в том отношении, что господам, подобным Надимову, все-таки полезнее занимать мелкие должности, чем важные: при меньшем круге деятельности они меньше и зла наделают. Но нельзя же удовольствоваться таким отрицательным заключением; надобно от него прийти к чему-нибудь; а литература наша ни к чему не пришла. И в прошлом году, как в предыдущих, она громила преимущественно уездные власти, о которых, если правду сказать, – после Гоголя и говорить-то бы не стоило… Если же задевались иногда губернские чины, то обличение большею частию слагалось по следующему рецепту: выводился благороднейший губернатор, благодетель губернии, поборник законности и гласности; около него группировалось два-три благонамеренных чиновника, и они-то занимались каранием злоупотреблений. А иногда губернатор на сцену вовсе не являлся, а только предполагался за кулисами, как опора добродетели, вроде фатума древних. Остальные губернские власти затрогивались все реже и легче, по мере приближения своего к губернатору… Кроме того, в повестях появлялось иногда еще важное лицо, чиновная особа и т. п. Что это были за лица и особы, оставалось известным только автору. Значения их невозможно было угадать, потому что обличения наши постоянно отличались необыкновенной отрывочностью. Нигде не указана была тесная и неразрывная связь, существующая между различными инстанциями, нигде не проведены были последовательно и до конца взаимные отношения разных чинов… Недаром поборники чистого искусства обвиняли наших обличителей в малом знании своего предмета! Или, может быть, они и знали, да не хотели или не могли представить дело как следует? Так и за это, собственно, хвалить их не следует; и тут заслуга не велика!..
Мы долго не кончили бы, если бы вздумали перечислять частные ошибки и разбирать в подробности разные странности прошлогодней литературы. Мы сначала хотели посмешить читателей подбором множества забавных анекдотов, совершившихся в прошлом году в литературе. Мы хотели указать на наших ученых – на то, как г. Вельтман считал Бориса Годунова дядею Федора Ивановича; как г. Сухомлинов находил черты народности у Кирилла Туровского, потому что у него, как и в народных песнях, говорится: весна пришла красная; как г. Беляев доказывал, что древнейший способ наследства – есть наследство по завещанию; как г. Лешков утверждал, что в древней Руси не обращались к знахарям и ворожеям, а к врачу, который пользовался особенным почтением; как г. Соловьев (в «Атенее») уличал г. Устрялова в том, что он вместо истории Петра сочинил эпическую поэму, даже с участием чудесного; как г. Вернадский сочинил историю политической экономии по диксионеру Коклена и Гильомена; как г. Пальховский объявлял, что труд женщины, по законам природы, должен ограничиваться рождением детей; как г. Куторга (натуралист) относил углерод к числу газов; как г. Берви утверждал, что иногда часть бывает равна своему целому{64}, и пр. и пр. Хотели мы припомнить и несколько странностей литературных, как, например, то, что «Атеней» начал свое издание, сказавши в первом нумере: «Нечего жалеть, что у славян австрийский жандарм является орудием образованности», – а кончил в последней книжке словом, что помехой нашему прогрессу служат раскольники, которых за то и нужно преследовать…{65} К таким странностям хотели мы отнести, например, и мысль о том, что главная причина расстройства помещичьих имений наших заключается в отсутствии майората («Земледельческая газета»); и уверение, будто главный недостаток романа «Тысяча душ» заключается в том, что герой романа воспитывался в Московском, а не в другом университете («Русский вестник»){66}; и опасения, что в скором времени, когда нравы наши исправятся, сатире нечего будет обличать («Библиотека для чтения»); и статейку о судопроизводстве, уверявшую, что такое-то воззрение неправильно, потому что в «Своде законов» его не находится («Библиотека для чтения»), и пр. и пр. Всех материалов, собранных нами, стало бы на длинную забавную статью… Но размышления наши приняли характер вовсе не веселый, и потому мы пройдем молчанием и грубые ошибки, и дикие воззрения, и нелепые стихи, и фантастические повести, вроде «Игрока» г. Ахшарумова, и даже знаменитый «Литературный протест»{67}, эти геркулесовы столбы русской гласности, этот красноречивейший, несокрушимый памятник мелочности прошлогодней литературы… Эти мелочи уже слишком мелки; оставим их в покое и предоставим читателю самому определить их настоящее место в коллекции других литературных мелочей…
* * *
Впрочем, не будем полагаться на читателей. Опытные люди говорят нам, что читатели бывают недовольны, когда им что-нибудь недосказывают, а в нашей статье многое может показаться недосказанным. Вследствие этого мы находимся вынужденными сказать еще несколько заключительных слов о крупных и мелких мелочах, указанных нами. Заключение наше должно служить ответом на вопрос: зачем мы говорим о мелочах?
Мы еще в первой статье нашей объяснили, что литературу понимаем как выражение общества, а не как что-то отдельное и совершенно независимое. Эту точку зрения просим приложить ко всему, что нами сказано в настоящей статье. Мы полагаем, что наше воззрение и без особенных оговорок должно быть совершенно ясно; но все-таки считаем нужным оговориться еще раз, чтобы не подать повода к нелепому заключению, будто мы восстаем против литературы и хотим ее гибели. Совершенно напротив: мы горячо любим литературу, мы радуемся всякому серьезному явлению в ней, мы желаем ей большего и большего развития, мы надеемся, что ее деятели в состоянии будут совершить что-нибудь действительно полезное и важное, как только явится к тому первая возможность. Именно потому и осмелились мы так сурово говорить о недавнопрошедшем нашей литературы, что мы еще храним веру в ее силы. Пусть не оскорбятся нашими словами литературные сподвижники настоящего; пусть вспомнят, как они сами смеялись над теми чиновниками, которые обижались журнальными обличениями взяток, формальностей и проволочек суда, мелочности канцелярских порядков и пр. Литераторы, люди образованные и понимающие свое положение, должны стоять выше подобной обидчивости. Они должны знать, что к кому обращаются с недовольством за то, что он сделал мало, от того, значит, ожидают большего. Если бы мы думали, что литература вообще ничего не может значить в народной жизни, то мы всякое писание считали бы бесполезным и, конечно, не стали бы сами писать того, что пишем. Но мы убеждены, что при известной степени развития народа литература становится одною из сил, движущих общество; и мы не отказываемся от надежды, что и у нас в России литература когда-нибудь получит такое значение. До сих пор нет этого, как нет теперь почти нигде на материке Европы, и напрасно было бы обманывать себя мечтами самообольщения… Но мы хотим верить, что это когда-нибудь будет.







