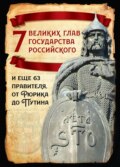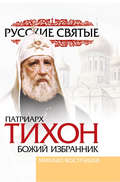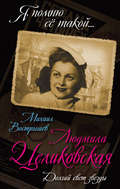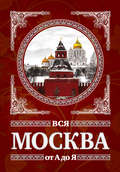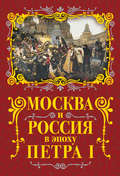Михаил Вострышев
Частная жизнь москвичей из века в век
Мудров основал русскую терапевтическую школу. У него было немало последователей, но нужда во врачебном искусстве стремительно росла, и многие недобросовестные эскулапы в погоне за деньгами наводнили Москву. Характеристику московских врачей дал в 1841 году в журнале «Москвитянин» Г. И. Сокольский:
«Кто такое есть практический врач в Москве? Вот кто:
1. Кто занимается исключительно лечением больных.
2. Кто имеет довольно больных.
3. Кто имеет известных больных.
Но из этих данных никак нельзя сделать выгодной дедукции в пользу того, что он дельный и знающий врач. Все лечение городовое, сколько его я мог постигнуть здесь за пять лет, состоит частию в забаве больных, частию в разъездах, оставляющих ум везомого в состояние полного бездействия, и наконец самою малою частию в припадочном лечении. Ничтожность такого занятия увеличивается по мере известности врача и находится всегда в прямом содержании к ней. Известность получивший врач ищет случая быть только на консультациях, которые и прибыльнее, и легче для него. Самое же лечение, настоящий долг и труд врача, он предоставляет другим, малоизвестным врачам, которые по сущей правде работают в Москве наподобие волов… Слово «известность» есть двух родов: одна происходит от истинного таланта, образованности врача, и приобретается это медленно, но прочно и обширно. Другая рождается от случая и распространяется очень скоро и непрочно. Известность второго рода более нравится, потому что она легка, весела и без доходов. Достаточность больных есть также необходимый атрибут сего звания. Причина понятна. При таком занятии придет ли в голову наука? Достанет ли терпения рыться в трупах? Заглянуть в летописи медицины?..»

Здание глазной больницы на Тверской улице
О том, как протекало лечение в середине XIX века в домах богатых москвичей, рассказывает в своих воспоминаниях Н. В. Давыдов:
«Температуру не измеряли еще, а дело ограничивалось прощупыванием лба, осмотром языка и выслушиванием пульса. К знаменитостям (в Москве славились тогда доктора Овер и Альфонский) обращались в крайних случаях, а показавшийся нездоровым субъект осматривался домашним доктором, приезжавшим в определенные дни и часы, также как часовщик для завода столовых и стенных часов, и подвергался лечению, не обходившемуся никогда (увы!) без касторового масла, а затем, глядя по болезни, укладывался в постель. А если болело горло, то на шею навязывалась тряпочка с зеленой, очень пахучей мазью, а то на грудь клалась синяя (в которую завертывали «сахарные головы») сахарная бумага, проколотая и обкапанная свечным салом. Давалось прогонное в виде настоя из липового цвета, сухой малины или земляники. Прибегали, к ужасу детей, к страшным мольеровским инструментам, клались на голову мокрые компрессы, а на руки и ноги горчичники… Болезни тогда, очевидно, в соответствии со степенью развития врачебной науки, были более просты. Дети обычно хворали перемежающейся лихорадкой, горловыми болезнями, желудочными, а иногда и горячкою».
Александр Иванович Овер, о котором упомянул Н. В. Давыдов, был самым модным, а значит, и дорогим врачом в Москве середины XIX века. Немало богатых людей старались поселиться возле его дома, а летом снять дачу в Петровском парке, тоже рядом с ним, уверевшись в непогрешимости диагноза Александра Ивановича и его умении вылечить любого больного. За визит ему в великосветских домах платили по десять-пятнадцать рублей, заискивали на виду, а за глаза судачили, какой он скряга и богач.
Под предлогом лечения Овера часто приглашали лишь для того, чтобы лицезреть его. Во-первых, он был красавец, во-вторых, – француз. Изящный господин с манерами знатного барина, с черными как смоль бакенбардами, плечистый и складный, всегда элегантно одетый и надушенный, мастер легкого разговора и даже, что невероятно в среде врачей, камергер двора его императорского величества. Дамы сходили с ума от одного его вида и не жалели ассигнаций ради визита к ним врачебного светила. Овер же, как посмеивались аптекари, которым мнимые больные приносили его рецепты, прописывал притворщицам перегнанную воду с малиновым или вишневым сиропом или невинные порошки.
Но была и другая сторона деятельности знаменитого врача. Он провел сотни блестящих хирургических операций, тысячам настоящим больным поставил правильный диагноз, издал выдающийся научный медицинский труд, был талантливым лектором в Московском университете. Сплетники и завистники упрекали его за богатство и скупость. Но своей популярности он достиг упорным добросовестным трудом, знаниями и дарованием. После его смерти обнаружилось, что он помогал многим бедным, положив одним от себя пансион и выдавая другим единовременное пособие. Многих неимущих он лечил бесплатно, устраивал в богадельни. И таких врачей, может быть, не столь знаменитых, но столь же трудолюбивых и знающих, в Москве с каждым годом становилось все больше.
Москва все более становилась центром хирургии. Особенно после создания в 1873 году Хирургического общества, первого в России. В него вошли многие гражданские, военные и университетские врачи. Среди учредителей был ряд видных хирургов – Костарев, Гааг, Новацкий, Стуковенков, Синицын, которые разослали коллегам краткое разъяснение задач, которые ставило перед собой новое общество:
«Ввиду современного направления врачебной науки, в которой хирургия все более и более приобретает почву, захватывая в свою область один за другим важнейшие отделы так называемых внутренних болезней; ввиду тех решительных преимуществ, которые представляет современная хирургия как для исследования и наблюдения патологических процессов, так и для лечения оных; ввиду все большего и большего распространения вполне рациональных местных способов лечения болезней вообще, за которыми, конечно, все будущее нашей науки; ввиду того, наконец, что в нашем отечестве хирургия всегда разрабатывалась с особенной любовью и тщанием и хирурги русские давно сумели занять почетное место среди ученых Европы; ввиду всего этого некоторые товарищи, доктора медицины, нашли благовременным основать в нашей столице Московское хирургическое общество с целью не только следить за указанным выше чисто хирургическим направлением современной науки, но и по мере сил своих и способствовать этому направлению, содействуя разрешению важнейших сюда относящихся вопросов.

Предлагаемое общество будет хирургическим не в тесном смысле этого слова, т. е. не будет при своих занятиях ограничиваться вопросами чисто хирургическими, но с одинаковым интересом будет заниматься всеми отраслями медицинской науки, насколько они стоят в связи с хирургией или составляют ее основание. Так, кроме хирургических вопросов, в занятиях общества займут видное место все вопросы по гинекологии, офтальмологии, по гортанным и ушным болезням, по дерматологии и сифилису».
Стремительное развитие медицины и здравоохранение в Москве во второй половине XIX века своими успехами, в первую очередь, обязано благотворительности богатых москвичей и, прежде всего, купцов. Именно они дали капиталы для постройки на Девичьем поле университетских клиник. На добровольные пожертвования москвичей были возведены десятки богаделен, больниц для рабочих, родильных домов, детских больниц, амбулаторий. В них работали десятки тысяч врачей, фельдшеров, акушерок, медицинских сестер. Это время назвали «золотым веком русской медицины».
Моровая язва
…Царица грозная, Чума,
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой,
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой…
Что делать нам? И чем помочь?
А. С. Пушкин
Развитие медицины и санитарии помогли Москве к концу XIX века почти полностью избавиться от самой страшной напасти – эпидемий или, как их называли в народе, моровой язвы. Иногда от нее вымирал чуть ли не весь город. Так случилось в 1654 году, когда от начавшегося летом морового поветрия к сентябрю почти полностью вымерли черные сотни (поселения простолюдинов), погибла большая часть стрельцов в полках, а уцелевшие разбежались. Народ считал это бедствие Божьим наказанием за церковные реформы, проводимые патриархом Никоном.
Через сто с лишним лет Москва вновь стала добычей чумы. Она появилась на исходе 1770 года. По тысяче человек в день косила моровая язва. Погонщики в дегтярных рубашках железными крюками набрасывали на свои черные фуры мертвые тела (будто стог метали) и с пьяными песнями тащились мимо церквей и кладбищ к бездонным ямам и рвам на краю города.
«В самом плачевном состоянии находилась в то время древняя российская столица, – писал современник. – Опустевшие дома, мертвые трупы, по улицам валявшиеся; печальные жители в виде бледных теней, вдоль и поперек города ища и не находя нигде себе спасения бродившие. Унылые звуки колоколов, отчаяния матерей, жалкие вопли невинных младенцев – вот несчастная картина того града, в коем незадолго пред тем раздавались радостные клики счастливых обитателей».
Нищим перестали подавать. Они обирали умерших и заражались сами. Никто не решался везти в зачумленный город хлеб. Подоспел голод. Во всех дворах горели от заразы смоляные костры. Пошли пожары. Но люди не спешили на выручку к соседу, другу, брату, все сидели взаперти и ждали конца света, предвещенного Иоанном Богословом.
Но самые отчаянные (или отчаявшиеся?) пожелали дознаться, что им сулят страшные слова из толстой церковной книги, и пришли к воротам дома главнокомандующего Москвы, фельдмаршала графа Петра Салтыкова. Оказалось же, что он, убоясь заразы, укатил в свои подмосковные деревни. Хорошо, когда есть куда катить, а как некуда?.. Прибежали ко двору губернатора тайного советника Ивана Юшкова… Тоже укатил. Обер-полицмейстера бригадира Николая Бахметева… Тоже в подмосковные. Московский архиерей Амвросий был еще здесь, но, хоть натерся чесноком и ежечасно поливал себя уксусом, выйти к народу не пожелал.
И тогда ударили в набатный колокол Царской башни Кремля. Ему вторили грозным воплем сотни колоколов приходских и монастырских церквей. Народ уверовал, что настал конец, и напоследок с кольями, камнями и рогатинами бежал к Кремлю. Одни бросились в его подвалы, повыкатывали бочки с вином и на площади Ивана Великого устроили пир. Другие принялись ломать церковные и господские ворота, разорять алтари и гостиные. Не пожалели ни святынь Чудова, Данилова, Донского монастырей, ни тела своего святителя Амвросия. Начался кровавый пир, получивший в учебниках истории имя «Чумной бунт 1771 года».
Народ требовал:
– Хлеба!
– Бани и кабаки распечатать!
– Докторов и лекарей из города выгнать!
– Умерших в церквах отпевать и хоронить по-христиански!
Пришлось на третий день Чумного бунта, 17 сентября 1771 года, бить по народу картечью, а потом «для наведения должного порядка» вызывать из Петербурга для наказания провинившихся москвичей фаворита императрицы графа Г. Г. Орлова.
Но среди всеобщей разрухи оставались в Москве, однако, оазисы, пощаженные чумой. Благодаря строгой изоляции из тысячи питомцев и надзирателей Воспитательного дома не заболел ни один. То же случилось и в некоторых частных домах, державших всегда свои ворота на запорах и постоянно поддерживавших во дворах смоляные костры.
Лишь русская зима пересилила иноземную чуму, и город постепенно стал приходить в себя.
Другая напасть, часто посещавшая город, – холера. С ней, как и с чумой, боролись главным образом устройством карантинов, запрещающих въезд и выезд из города. Вспышки холеры время от времени продолжались в течение всего XIX века, но особенно запомнилась москвичам холера 1830 года, бывшая тогда еще в новинку для ее жителей (многие даже называли ее чумой). Об этой эпидемии рассказала в своих воспоминаниях Е. П. Янькова:
«Брат князь Владимир Волконский, бывавший у меня почти что каждый день, приехал раз вечером и говорит мне: «Знаешь ли, сестра, говорят, что у нас в Москве неблагополучно; появилась какая-то новая болезнь, называемая холерой: тошнота, рвота, кружение головы, иногда сильное расстройство желудка, корчи, и в несколько часов человек умирает. Об этом поговаривают в Английском клубе»
Очень меня это встревожило. Думаю себе: «Совершенно я одна, никоторой из дочерей нет со мною, умру – некому будет и глаза мне закрыть».
На другой день приезжает ко мне брат Николай Александрович Корсаков и повторяет то же самое, сказывает, что кто-то был вчера в клубе совершенно здоров, плотно поел, приехал домой – корчи, рвота и – к утру положили на стол. Это взволновало меня еще более, послала я к Герардам просить, чтобы пришел ко мне Антон Иванович. Пришел, спрашиваю:
– Правда ли, что в Москве какая-то новая небывалая болезнь, холера.
– Ах, – говорит, – не скрою от вас, что совершенная правда, и много уже было смертных случаев. Поговаривают, что будут карантины, что Москву кругом оцепят и не будет ни выезда, ни въезда.
Час от часу не легчало. Ушел Герард, села я писать к Грушеньке и Клеопатре. Пишу той и другой: «Приезжайте скорее, коли нам суждено умереть, так уж лучше умирать вместе».
В ужасное я пришла уныние: пока еще, думаю, письма дойдут к той и другой, я совершенно одна; горькое было мое положение. Спрашиваю поутру у моего дворецкого, когда он возвратился со Смоленского рынка:
– Что слышно про холеру?
– Много, – говорит, – сударыня, мрет народу. По городу стали фуры разъезжать, чтобы подбирать тела, ежели будут на улицах валяться.
Каково было это слышать! Значит, это мор, и ждут, что люди станут как мухи валиться. Принесли повестку из съезжего дома, чтобы в домах были осторожнее, и что, ежели у кого будут заболевающие люди холерою, в домах отнюдь у себя не держать, но тотчас отправлять в больницы, и чтобы для очищения воздуха везде по комнатам ставить на блюдечках деготь и хлор…
Смертность с каждым днем все усиливалась, фуры разъезжали в Москве по улицам и переулкам и вместе с больными иногда хватали и пьяных. Почти во всех домах затворились ворота; боялись ходить по улицам, выезжали в крайних случаях, и каждый опасался принять кого-нибудь к себе в дом».
И все же в Москве справлялись с новой болезнью лучше, чем в других городах России. Так в самом благоустроенном городе государства Петербурге с 1830 по 1872 год насчитали двадцать три года, когда его посещала холера, тогда как в Москве за тот же период времени она появилась восемнадцать раз. Одна из последних московских холерных эпидемий случилась в 1892–1893 годах и отличалась лишь немногочисленными жертвами. Она захватила участки города в нижнем течении Москвы-реки, где проживали в большой скученности и дурных санитарных условиях рабочие фабрик и заводов. Одна из главных причин, почему холера отступила от Москвы, продолжая буйствовать в других русских городах, – постройка в конце 1890-х годов прекрасного Москворецкого водопровода и начало прокладки канализации.
Но появилась еще одна зараза – туберкулез (чахотка). От него в начале XX века ежегодно в городе на каждые десять тысяч человек умирало сорок пять. Смерть от чахотки стала превосходить смерть от любой другой болезни, если не считать старость за болезнь. Пришлось срочно позаботиться об устройстве при больницах специальных отделений для чахоточных. Конечно, это происходило не за счет государства, а лишь благодаря частным пожертвованиям.
Милосердие
Всего же более убогих не забывайте, но насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте, и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильному губить человека.
Владимир Мономах
Призрение бедных в Древней Руси покоилось на нравственно-религиозных началах. «Благотворительность была не столько вспомогательным средством общественного благоустройства, – писал в очерке «Добрые люди Древней Руси» историк В. О. Ключевский, – сколько необходимым условием личного нравственного здоровья. Она больше нужна была самому нищелюбцу, чем нищему».
Граница города в конце XVIII века шла по остаткам стены, обоими концами спускавшейся к Москве-реке, а за ветхостью разломанной. На ее месте, по высочайше конфирмованному плану, ровными рядами стали высаживать тенистые липы и красавицы березы. Скоро, очень скоро о стене из белого камня останутся лишь воспоминания да площади вместо снесенных и рухнувших без посторонней помощи Никитских, Петровских, Пречистенских, Яузских ворот.
Но камень разобранной стены Белого города еще продолжал служить людям. Ведь он пошел на строительство одного из любимейших москвичами здания, их народной гордости – рассчитанного на восемь тысяч детей Воспитательного дома. Гордость эта незыблема, ведь не надменному послу, не богатому вельможе, не царскому министру отдано красивейшее здание города – незаконнорожденным, брошенным гулящими матерями младенцам. Малюток отдают привратнику без всяких допросов и рекомендаций, переодевают во все казенное и препоручают кормилице. Не только зачатые в грехе, но и дети замужних крепостных баб нередко попадают в Воспитательный дом. И причина расставания навеки с любимым дитятей бывает удивительной – желание, чтобы ребенок не повторил несчастной жизни в неволе своих родителей, чтобы рос свободным человеком. Ведь устав Воспитательного дома гласит: «Все воспитанные в сем доме обоего пола и дети их и потомки в вечные роды останутся вольными и никому из партикулярных людей ни под каким видом закабалены или укреплены быть не могут».
Петербургские умники, конечно же, возмущались безнравственностью москвичей, решивших позаботиться о детях, зачатых в блуде, но жители Первопрестольной оттого еще пуще гордились своей благотворительностью, доброхотными подаяниями.
Наперекор петербургскому двору они беспрестанно осыпали деньгами и другую народную достопримечательность, хуже зубной боли досаждавшую Северной столице, – Павловскую больницу для бедных. Ее построили москвичи в память об излечении от тяжелой болезни цесаревича Павла Петровича. «Освобождался сам от болезни, о больных помышляет» – было выбито на медали с изображением Павла Петровича, отлитой москвичами в честь выздоровления сына императрицы.

Известный английский путешественник и историк Уильям Кокс, посетивший Россию в 1778 году, оставил обстоятельное описание московской больницы, удивившей бережной заботой о бедных даже чистоплотного лондонца: «…Это деревянное одноэтажное здание содержит двенадцать палат, лабораторию, аптеку и две комнаты для аптекаря, доктор и хирург помещаются в отдельных зданиях. Эта больница рассчитана на пятьдесят два человека, в самой большой палате, длиною в сорок семь футов и шириною двадцать два фута, стоит десять кроватей, смотря по величине комнаты, в каждом окне сделаны маленькие вентиляторы. Все комнаты оклеены обоями, у постелей – холщовые занавеси; занавеси и одеяла стираются раз в месяц, белье сменяется каждую неделю, каждому больному дается рубашка, подштанники, туфли, халат, носки, ночной колпак; подле каждой кровати стоит столик, накрытый скатертью, и висит полотенце, которое сменяется раз в неделю; больным дается оловянная тарелка, ложка, нож и вилка, оловянная кружка и чашка, они получают отличный белый и черный хлеб, те, которым прописана одинаковая диета, обедают вместе, прочие обедают отдельно, в каждой комнате висит на стене оловянный умывальник с подставленным под ним медным ведром. В больнице было сорок пять мужчин и пятнадцать женщин, последние помещаются отдельно. На каждые пять человек полагается две сиделки».

До чего только не додумается московская благотворительность! Но особенно она стала замечательной в XIX веке.
В дореволюционной России дело призрения почти всецело принадлежало частной инициативе. (К примеру, императорская Канцелярия прошений, куда поступали все просьбы о помощи на имя императора, в 1880—1890-х годах выделяла на помощь всем бедным империи 125 тысяч рублей в год, тогда как каждый великий князь, а их было несколько десятков человек, получал ежегодно только от Министерства императорского двора пенсион в 280 тысяч рублей.)
Народная мудрость гласит: в рай входят святой милостыней – нищий богатым питается, а богатый нищего молитвой спасается.
Охрана порядка
Шел по улице Тверской,
Меня гопнули доской.
Это что ж за мать ети —
Нельзя по улице пройти.
Частушка
В Москве в 1505 году были установлены на главных улицах решетки, которыми перегораживали дорогу на ночь, чтобы по сонному городу не разъезжали и не расхаживали нечистые на руку люди. Решеточные приказчики и сторожа поддерживали в то время порядок в городе. Над низшими чинами, как было и есть в России во все времена, возвышалось множество начальников – десятские, подьячие, объезжие головы, бояре. Правда, тогдашние бояре, ответственные за благопристойное поведение горожан и приезжих, должны были, в отличие от нынешних, непрестанно и днем и ночью ездить по улицам, доглядывая за сторожами, которые должны были прохаживаться по своим участкам.
Разбоя пятьсот лет назад было куда меньше в Москве, чем ныне. И дома не запирали, и ходили по вечерам без оглядки. Городская полиция, главным образом, следила за исполнением постановлений по борьбе с пожарами, от которых в большинстве своем деревянная, а не белокаменная Москва страдала даже больше, чем от иноземных захватчиков. Обывателям запрещалось сидеть допоздна с огнем. В летнее время печи и мыльни запечатывались. Приготовление пищи дозволялось только в кухнях (поварнях), а у кого их не было – в печах, специально устроенных в земле на огородах.
Когда в XVI веке в Москве появились стрельцы – служилые люди, вооруженные огнестрельным оружием и составлявшие постоянное войско, – то Стрелецкий приказ стал главной исполнительной полицейской властью. Но для стрельцов охрана порядка и благочиния в городе было делом попутным. Главная же забота, лежавшая на них, – охранять столицу Русского государства от иноземных захватчиков, внезапно являвшихся пограбить богатых москвичей, и от вспыхивавших время от времени народных бунтов.
Полицейские же функции были возложены в XVI–XVII веках на Земской приказ и подчиненные ему объезжие головы. Единственный исключительно полицейский чиновник того времени – земской ярыжка, который имел право беспрекословно брать под караул любого обывателя, замешенного в беспорядках на улице. Одет он был в красный с зеленым кафтан и имел на груди две вышитые буквы: «З» и «Я».
Хотя старая Москва и не знала кровожадных уличных дуэлей, какие затевали в Европе знатные господа, но жизнь от этого не становилась более чинной.
«Русский народ пресварливый, – рассказывает немецкий путешественник XVII века Адам Олеарий, – обзывают друг друга самыми грубыми и непотребными словами. Если дойдет у них до драки, то дерутся просто кулаками, которыми колотят друг друга изо всей силы по бокам и под брюхо. Не было еще примера, чтобы русские вызвали друг друга биться на саблях или огнестрельным оружием, как это делается в Германии и в других странах Европы. Но известно, что вместо того знатные господа, выезжая на лошадях, стегают нещадно друг друга кнутами».

Стрельцы
Охранение порядка среди крикливой и озорной толпы, наполнявшей московские торговые площади, было нелегким делом, и рядовые старосты и объезжие головы, пытаясь унять особенно горластых и задиристых, получали в ответ лишь еще пущую брань и угрозу побоища. Благочиние нельзя было водворить даже среди безместных попов, собиравшихся в ожидании найма для богослужения у храма Василия Блаженного и на Спасском (Фроловском) мосту. Патриарший тиун жаловался в своем донесении, что «безместные попы и дьяконы садятся у Фроловского моста и бесчинства чинят великие, меж собой бранятся и укоризны чинят скаредные и смехотворные, а иные меж собой играют и борются, и в кулачки бьются».
Каждый день утром в Кремль съезжались бояре, окольничьи, думные дворяне, стольники, стряпчие, жильцы. Каждый по своим делам и своим надобностям. Приезжали они, в большинстве, верхом на лошадях, в сопровождении своих слуг, которым отдавали коней под охрану. Из-за этого кремлевские площади во множестве переполнялись конницей, которая вела себя очень своевольно и нахально. Собравшиеся дворовые люди заводили между собою драки, бранились, кричали, свистели, скакали на лошадях, устраивали кулачные побоища, не давали прохода прохожим, толкали их и задирали. Особенно доставалось иноземцам, которых дразнили и всячески поносили.
Озорную московскую толпу не мог унять даже стрелецкий караул Кремля.
Конечно, если глядеть в древнюю даль из окна квартиры XXI века, может показаться ужасным такое безобразие в сердце России – Московском Кремле. Но тогда нравы были проще, да и на крестьянских окраинах столицы, где людям нечего было делить между собой, жилось гораздо спокойнее, чем в Кремле, где на каждом шагу встречались знатные люди, считавшие себя обиженными друг другом.
Поэтому охраняли в Москве, главным образом, один Кремль, который с наступлением темноты запирался. Чтобы часовые не спали, они должны были выкрикивать нараспев каждый по своей фразе, один за другим: «Пресвятая Богородица, спаси нас!», «Все святые, молите Бога о нас!», «Славен город Москва!», «Славен город Тверь!» и так далее, пока очередь не доходила опять до первого часового – и все повторялось сначала.
При Петре I в Москве в 1722 году была учреждена обер-полицмейстерская канцелярия и должность обер-полицмейстера. Император расширил права и обязанности полиции, попытавшись сделать из «правоохранительных органов» (как только до сих пор существует это отвратительное советское словосочетание?!) законную очеловеченную, а не бездушную исполнительную власть. Петр I писал о том, что нынче недосягаемая мечта для московского обывателя: «Полиция… споспешествует в правах и правосудии, рождает добрые порядки, всем безопасность подает от разбойников, воров, насильников и обманщиков и сим подобных; непорядочное и непотребное житие отгоняет и принуждает каждого к трудам и к честному промыслу, чинит добрых досмотрителей, тщательных и добрых служителей, города и в них улицы регулярно сочиняет и приносит довольствие во всем потребном к жизни человеческой, предостерегает все приключившиеся болезни, производит чистоту по улицам и в домах, запрещает излишество в домовых расходах и все явные прегрешения, призирает нищих, бедных, больных, увечных и проч. Неимущих защищает, вдовиц, сирых и чужестранных, по заповедям Божиим воспитывает юных в целомудренной чистоте и чистых науках. Полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков, и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности».
Можно подумать, что сии слова писал не царь-плотник, у которого слова не расходились с делом, а философ, далекий от реальной жизни. Зачитай этот меморандум ныне сотрудникам районного отделения милиции, они тебя на смех поднимут.
Но, оказывается, в Петровскую эпоху, да и позже, пытались из московской полиции сделать «душу гражданства и всех добрых порядков». Ей предписывалось наблюдать за строением домов как в Кремле, так и за его пределами; следить, чтобы печи клали с фундаментом, а трубы делались широкими и только опытными печниками; запрещать строить «черные избы» – без труб, где дым выходил через дыру в крыше; требовать мощения улиц и переулков камнями и починки мостовых местными обывателями; доглядывать, чтобы помету и мертвечины на улицах не бросали, а также не засаривали Яузу с Неглинной. Среди других бесчисленных обязанностей, которые говорят не только об обязанностях полиции, но и о проблемах московского быта, можно отметить: «В тесных улицах лавок, шалашей и полков не ставить», «Харчевникам иметь кафтаны, завески и покрывалы на полках белые», «Весы и меры иметь указные и цены на хлеб не возвышать», «Всякие подозрительные дома, похабства и запрещенные игры искоренять», «Бродящих нищих ловить и отсылать на каторгу», «В праздниках в рядах не сидеть и никакими товарами не торговать, кроме харчевных», «На дворах и по улицам ни из какого ружья днем и ночью не стрелять», «Бегаться на резвых лошадях в поле, а не в городе», «Чужестранных послов, посланников и министров и людей их не забирать, а требовать из коллегии иностранных дел».
В 1729 году в Москве учредили полицейский драгунский эскадрон, разделенный на двенадцать команд. За каждой командой, состоявшей из двух офицеров, двух урядников, шести солдат и барабанщика, закрепили определенную территорию, на которой поставили съезжий двор (сейчас бы его назвали отделением милиции).
Но, судя по многочисленным преданиям и документам, московская полиция, как, впрочем, и полиция других российских городов, в XVIII веке достигла апогея злоупотребления своей властью. Даже в дни ужасного московского бедствия – чумы 1771–1772 годов – полицейские офицеры сумели нажиться на горе. В их обязанности входило отправлять жителей, у которых появлялись признаки чумы, в карантины и надзирать за перевозкой и погребением умерших. Стражи «порядка» исхитрялись пятнать руки богатых людей ляписом (азотнокислое серебро, употреблявшееся врачами для прижигания). Когда спустя несколько дней пятна от ляписа принимали синеватый цвет, за этими господами приходили, чтобы, как зачумленных, отправить их в карантин. Чтобы спастись от этой верной смерти и остаться дома, богатые люди платили громадные взятки.
К концу XVIII века военно-полицейский государственный аппарат стал стремительно разрастаться и достиг своего апогея в царствование Николая II, когда каждый второй чиновник в России был полицейским.
Во главе московской полиции (как, впрочем, и петербургской) согласно уставу от 8 апреля 1782 года стоял обер-полицмейстер, являвшийся председателем Управы благочиния, которая охраняла государственный порядок и следила за исполнением законов. Обер-полицмейстер имел в подчинении трех полицмейстеров, каждый из которых отвечал за свою треть московской территории. Полицмейстеры отдавали приказы частным приставам, возглавлявшим полицейские части, те, в свою очередь, квартальным надзирателям, стоявшим во главе квартала, а уж они нижним чинам полиции – будочникам. Правда, на рубеже XVIII и XIX веков все еще городская стража набиралась из числа обывателей каждого отдельного участка. Их главной задачей было смотреть, чтобы по ночам печей не топили и вообще огонь не жгли во избежание ночного непредсказуемого пожара.

Содержание нижних полицейских чинов во все времена в Москве было ничтожным, и они не брезговали принимать подарки от окрестных обывателей. В дни Светлого Воскресения, Рождества Христова и своих именин полицейские чины принимали от трактирщиков, богатых домовладельцев и прочих местных негоциантов конверты с разными суммами денег – в зависимости от должности берущего и состоятельности дающего. Но это не имело ничего общего с современными поборами милиции. В старые времена взятка полиции бралась и давалась по мелочи и не ложилась бременем на обывателя. «Дающий и берущий, – вспоминает В. А. Нелидов, – смотрели на «даяние» как на прибавку к окладу, жить на который, да еще с семьей, было немыслимо». Зато и полиция относилась к обывателям по-человечески. «Я не раз слыхал от студентов, арестованным тогда по политическим делам, – пишет В. А. Нелидов, – что встречались случаи, когда пристав, сопровождавший жандармов, из своих средств оставлял семье студента деньги, чтобы перебиться. Он же предупредит и несчастного должника, бьющегося в ростовщических лапах, о том, когда ему грозит опись, и тот успевал принять меры».