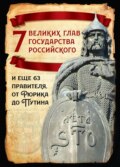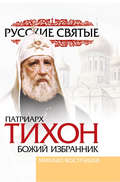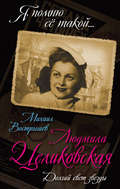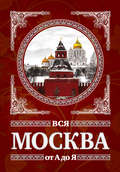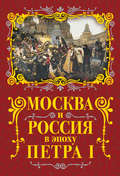Михаил Вострышев
Частная жизнь москвичей из века в век
Выслушав приветствие и спросив послов о здоровье цесаря, государь пожаловал их к руке. Думный дьяк громко повторял его слова, а толмач – переводил. После целования руки послов пригласили сесть на скамейку, стоявшую посредине палаты, а царю поднесли золотую лохань с водою и полотенце, чтобы он вымыл руки после басурманского поцелуя. Затем ему стали подносить посольские дары. Каждую вещь он принимал в свои руки и передавал ближнему боярину.
По окончании этой церемонии думный дьяк объявил послам, что государь их жалует к своему столу. Поблагодарив за милость, они низко поклонились и в сопровождении нескольких человек вышли в соседнюю палату, где ожидали с полчаса. Наконец их ввели в Грановитую палату, где столы ломились от целых гор кушаний, которые, по русскому обычаю, подавались не одно за другим, а сразу целыми десятками.
Накушавшись и наевшись безмерно, иноземцы возвращались на подворье, а стольник, по обычаю, отправлялся вслед и предлагал гостям, которые уже были не в состоянии что-либо съесть или выпить, еще один кубок вина от имени государя. Возвратившись во дворец, он докладывал царю, что обрадованные его милостью послы упились пьяны и лежат без памяти.
На другое утро послам было объявлено, что они могут теперь свободно гулять по городу. Для охраны, а главное – для надзора им дали отряд из нескольких стрельцов. Целых две недели еще пробыли они в Москве. Их приглашали присутствовать при торжественных выездах государя на богомолье, забавляться соколиной охотой, наблюдать за встречей татарских послов. Все эти мероприятия были обставлены с такой роскошью, что иноземцам Москва казалась сказочной страной.
Спустя две недели их снова позвали во дворец, вручили роскошные собольи меха в подарок как цесарю, так и самим послам, и в тот же день торжественно проводили из Москвы. До самой границы, меняясь, сопровождали их стрельцы. Наконец закончилось долгое и утомительное путешествие, о котором будет что порассказать дома, поделиться впечатлениями о диком и сказочно богатом стольном граде Москве.
Лишь при Петре I русские люди начали сами время от времени ездить за границу и принимать у себя иностранцев более-менее запросто. Хотя патриархальные москвичи причиной всех бед всегда выставляли Немецкую слободу, где находили себе приют чуждые им во всем люди.
С XVIII века иностранцы, главным образом, посещали Петербург, где был сосредоточен весь блеск императорского двора. В Москве же, хоть часть жителей и лопотала на своем тарабарском наречении и ходила молиться в иноверческие храмы, но считалась российскими подданными, и многие из них оставались здесь навсегда. Историк Н. Н. Бантыш-Каменский даже отметил, что после чумы 1771 года «на Москву напала другая зараза – французолюбие. Много французов и француженок наехало с разных сторон, и нет сомнения, что в числе их были очень вредные». Но французов русский народ до войны 1812 года любил за их почти русскую беспечность и незлобие: «Французик – веселая голова, живет спустя рукава, дымом греется, шилом бреется, сыт крупицей, пьян водицей».
Иностранцы, ставшие москвичами, переняли у коренных жителей города много как плохих, так и хороших обычаев. Среди хороших дел следует выделить создание широкой сети благотворительных обществ и учреждений. И если на первых порах она помогали только людям своей нации или вероисповедания, то с годами и многим другим нуждающимся.
Столица просвещения
Чем внимательнее всмотримся мы в умственное движение русское и в отношение к нему Москвы, тем более убедимся мы, что именно в ней постоянно совершается серьезный размен мысли, что в ней созидаются, так сказать, формы общественных направлений. Конечно, и великий художник, и великий мыслитель могут возникнуть и воспитаться в каком угодно углу русской земли; но составиться, созреть, сделаться всеобщим достоянием мысль общественная может только здесь. Русский, чтобы сдуматься, столковаться с русскими, обращается к Москве.
А. С. Хомяков
Первые рукописные книги создавались в московских монастырях. Старейшая из них, дошедшая до нашего времени, Сийское Евангелие 1339 года. В XIV–XVI веках создание рукописных книг было тесно связано с иконописными школами, которые искусно украшали их.
В XVI веке жизнь заставляла русских людей все чаще обращаться к иноземцам. Докторов, художников, мастеровых и ремесленников все больше и больше приглашали из-за границы. Москвичи считали их погаными еретиками и старались держаться от их жилищ подальше. Но не все русские люди брезговали иноземцами, кое-кто умел ценить их знания и мастерство.
К числу последних принадлежал и дьякон Николо-Гостунской церкви Иван Федоров. Он часто заглядывал в Немецкую слободу послушать рассказы, какие быстрые успехи делает на Западе просвещение, благодаря тому, что Иоганн Гутенберг сто лет назад изобрел типографский станок и подвижные буквы. Изобретение книгопечатания очень удешевило книги и сделало их доступнее. Иван Федоров уже раньше слышал об этом дивном изобретении от своего приятеля Петра Мстиславца, выходца из Западной Руси, лежавшей поблизости от стран просвещенной Европы. Теперь ему захотелось самому попробовать изготовить печатный станок. В свободное от церковной службы время он стал запираться у себя в доме и упорно работать. Готовил формы, отливал металлические буквы, делал первые опыты печатания. Опыты удались, но не было средств, чтобы расширить дело. И тут помог случай.
Прослышал Иван Федоров, что царь ищет человека, который мог бы печатать книги, и добился приема у него. В присутствии митрополита и бояр он показал Ивану Васильевичу отлитые буквы и свои первые опыты печатания, подробно рассказал о своей работе и заверил в успехе и пользе печатного дела. Царь остался доволен, он ободрил Федорова и дал денег на постройку Печатного двора. Это произошло в 1553 году.

Царь Иван Грозный на Печатном дворе
Но отпущенные деньги были вскоре израсходованы, постройка остановилась, и московский люд стал смеяться над печатником, называя его за дружбу с иноземцами басурманом.
Только через десять лет сбылась мечта Ивана Федорова, и на Никольской улице, наконец, достроили большое деревянное здание со слюдяными окнами, украшенными искусной резьбой. Это была первая русская друкарня (печатня).
В течение нескольких месяцев в друкарне кипела работа. Петр Мстиславец стоял около ящиков, где лежало множество металлических букв разной величины, и составлял слово за словом страницы книги «Деяния апостольские». Иван Федоров тщательно просматривал набранное и внимательно следил, как на сделанном по его указаниям печатном станке на набор накладывались листы бумаги. Работа шла успешно, все буквы и заглавные виньетки получались чистыми и изящными. Наконец 1 марта 1564 года печатание первой книги было закончено. Царь работой остался чрезвычайно доволен, щедро вознаградил первопечатника и велел приступить к изданию Часовника и Евангелия. Через год и этот заказ был выполнен.
Но многие люди не разделяли радость Федорова, его окружали зависть, непонимание и злоба, порожденные невежеством. Переписчики книг видели в нем врага, который распространением дешевых печатных изданий лишал их хорошего заработка. Близкие к царю люди завидовали милостям, каких удостоился первопечатник. Духовные лица, сличая печатный Апостол с рукописным, заметили, что Федоров исправил в тексте несколько ошибок, и сочли его исправления за отступление от православия. Против него было выдвинуто тяжкое обвинение в ереси. Пошли толки, что печатание книг – не божье дело, а дьявольское. Федорова стали обвинять в чернокнижии и колдовстве.

Первопечатник Иван Федоров
Однажды ночью яркое зарево поднялось над Никольской улицей. Это горела друкарня, подожженная озлобленной чернью. Сбежавшийся народ не только не помог тушить пожар, но ломал и грабил все, что удавалось спасти от огня. «Проклятый колдун!» – кричали на Федорова из толпы. Ему вместе с Петром Мстиславцем пришлось бегством из Москвы спасать свою жизнь.
Но дело, начатое Иваном Федоровым в Москве, не заглохло и после разгрома первой печатни. Здесь у него осталось несколько учеников, которые возобновили работу друкарни. А через триста лет недалеко от того места, где стоял первый Печатный двор, благодарные москвичи воздвигли памятник Ивану Федорову – «друкарю книг пред тем невиданных».
Всего в XVI веке было издано около 17–18 книг. В XVII веке книгопечатание находилось в ведении патриарха и подвергалось церковной цензуре. Было напечатано 483 книги преимущественно богослужебных. Но постепенно стали издавать и светскую литературу, главным образом учебную. Так, например, в 1634 году напечатали первый русский букварь.
Количество светской литературы резко увеличилось в эпоху Петра I. В Москве были отпечатаны букварь Ф. П. Поликарпова, «Арифметика» Л. Ф. Магницкого, а также первая русская печатная газета «Ведомости».
В 1756 году в одной из башен Кремля была открыта типография Московского университета, надолго ставшая лучшей типографией России. С ней связана и деятельность Н. И. Новикова, взявшего в 1779 году ее в аренду на десять лет. Но расцвет книгоиздания в Москве пришелся на XIX век.
Следом за появлением книг стали появляться и книжные лавки. Судя по воспоминаниям А. Болотова, во времена Екатерины II они уже могли удовлетворить самую требовательную публику: «Пуще всего хотелось мне запастись тут какими-нибудь экономическими книгами. До сего во всей моей библиотеке не было ни одной экономической. Потому что как я ехал домой для посвящения себя навсегда деревенской жизни, то считал уже необходимостью познакомиться и с экономией. И как я всего меньше разумел оную, то и надеялся научиться оной из книг, и потому желал в Москве запастись хотя несколькими на первый случай. Но сколь же удовольствие мое было велико, когда при расповедывании о том, нет ли и в Москве книжной и такой лавки, где б продавались не одни русские, но вкупе и иностранные книги, услышал я, что есть точно такая подле Воскресенских ворот. С превеликой поспешностью побежал я в оную. Но сколь радость и удовольствие мое увеличилось еще больше, когда нашел тут лавку, подобную почти во всем такой, какую видел я в Пруссии в Кенигсберге, и в которой продавалось великое множество всякого рода немецких и французских книг в переплете и без переплета. Я спросил каталог, и, как мне его подали, то спешил отыскать в нем и потом пересматривать все экономическое. И как по счастию случилось со мною тогда довольное еще число оставшихся денег, то накупил я несколько десятков оных, и как вообще экономических, так в особливости и садовых, и повез их с собою, как новое какое сокровище, в деревню».

Книгоноша
В 1783 году московскую публику известили печатным объявлением о появлении в городе первой библиотеки, которой могли пользоваться все желающие: «Любим Рамбах, живущий против Оперного дома на Петровке, немного на правую руку, второй деревянный дом, с высоким позволением установляет библиотеку, состоящую из лучших романов, комедий, опер, книг исторических, политических и нравоучительных, стихотворств и пр. Те, которые любят чтение, могут оные получать для занимания у него на год, на полгода, на три месяца, на один месяц и на неделю за малую цену. Реестр его книгам, в котором находится также и цена, могут присылать брать в вышеупомянутом его, Рамбаха, доме всякое утро от 9 до 1 часа».
Ровно сто лет все московские общественные библиотеки были платными. И лишь 13 сентября 1883 года известная благотворительница В. А. Морозова пожертвовала городскому управлению десять тысяч рублей на учреждение бесплатной читальни имени И. С. Тургенева и, кроме того, взяла на себя первоначальное обзаведение читальни книгами и содержание ее в течение первого пятилетия. Рассмотрев предложение Морозовой, особая комиссия при Государственной думе признала, что библиотека должна дать «возможность пользования книгами тем слоям населения, которым по состоянию их средств существующие библиотеки недоступны».
На средства Морозовой выстроили специальное здание, и 28 января 1885 года состоялось открытие Тургеневской читальни. К 1910 году фонд «Тургеневки» составил 14 тысяч томов. Пополнялся он и в последующие годы. Лишь в 1972 году первая бесплатная городская библиотека прекратила свое существование, так как ее здание уничтожили при прокладке Новокировского проспекта.
Наука врачевания
Фарисеи спросили: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, а больные.
Евангелие от Матфея, 9, 12
Большинство людей усердно заботятся о своем здоровье. Человека, умеющего врачевать, издавна почитали за кудесника, человека ученого или, во всяком случае, умеющего напрямую разговаривать с богами.
В стародавние времена лечили, главным образом, раны, полученные в бою и на охоте, да вывихи и переломы, без которых не обойдешься в повседневной жизни. Люди умирали, не прожив и трех-четырех десятков лет, умирали от эпидемий и множества иных болезней, справиться с которыми не умели самые первостатейные врачи. Лишь с развитием цивилизации, принесшей в мир много зла и горестей, появились области медицины, успешно начавшие справляться с человеческими недугами – научная хирургия, прививки, приборы для диагностики…
Но вряд ли человечество когда-нибудь сумеет полностью победить болезнь. И все же, пока на Земле будут жить последователи Гиппократа, Пастера, Коха, не исчезнут врачебное искусство, врачебная наука и врачебная этика, с помощью которых людям будут продлевать жизнь, устранять причины боли, предупреждать инфекции.
Как лечились москвичи? Большинство и сто, и пятьсот лет назад народными способами. Захворает больной – привяжет себе черного хлебного мякиша, вымоченного в квасе, к голове, нюхает весь день напролет хрен, а пучок своих волос зароет под калиткой. И надеется, что болезнь как рукой снимет. Конечно, обращались иногда к знахарям и ведунам. Но больше надеялись на Божью помощь. В энциклопедии древнерусского домашнего быта первой половины XVI века «Домострое» даются советы недужным, «како врачеватися»: «Аще Бог пошлет на кого болезнь или какую скорбь, ино врачеватися Божиею Милостию, да слезами, да молитвою, да постом, да милостынею к нищим, да истинным покаянием. Да отцов духовных подвизати на моление Богу, и молебны пети, и воды святите с честных крестов и со святых мощей, и с чудотворных образов, и маслом свящатися, да и по чудотворным по святым местам обещатися и приходящее молитися со всякою чистою совестию: тем цельба всяким различным недугам от Бога получити, тем очистися от грех и душевная и телесная болезнь иссушите».
В решениях Стоглавого собора 1551 года впервые была провозглашена необходимость государственной заботы о больных и увечных, и для них стали устраивать богадельни. Для царя же и его окружения, за неимением своих ученых лекарей, приглашали иностранцев.
Первые иноземные доктора известны в Москве со времени царствования Ивана III, то есть второй половины XV века. Из Италии вместе с архитекторами приезжали в столицу Русского государства и врачи. Однако участь их не всегда была удачна. Леон Жидовин, неудачно лечивший великого князя Ивана Ивановича был казнен через шесть недель после его смерти. Антон Немчин, также неудачно лечивший татарского царевича Каракача, был выдан головой его сыну, отведен на Москву-реку и зарезан под мостом. Но это не остановило предприимчивых иностранцев, и при Василии III их число увеличивается. К тому же бояре стали заводить у себя лекарей-самоучек.
Но чаще всего врачам, как и прочим иноземцам, направлявшимся в Московское государство, чинили всяческие препятствия приграничные с Россией государства – Польша и Германия. Лишь в 1553 году при открытии англичанами свободного морского проезда в Россию через Белое море приток иностранцев увеличился. Иваном IV Грозным было приглашено из Западной Европы немало врачей, аптекарей и цирюльников. Большинство лиц врачебного персонала по просьбе русского царя присылались английским королем Филиппом и английской королевой Марией. Так, в 1557 году вместе с послом Дженкинсоном в Россию прибыл английский доктор Стандиш, удостоившийся получить от царя «соболью шубу, крытую травчатым бархатом, и 70 рублей». Его неоднократно приглашали к царскому столу.
В 1581 году английская королева Елизавета прислала с Горсеем доктора Роберта Якоби (его в русских документах того времени именуют то Романом, то Романом Елизарьевичем) с аптекарем и фельдшерами. Это был человек, пользовавшийся у себя на родине хорошей репутацией. Весьма тепло отзывается о нем в письме Ивану IV от 19 мая 1581 года и королева Елизавета: «Упование на него положи и надейся на него».
Королева и после отъезда врачей в Россию не переставала заботиться о них. Так в мае 1582 года в памятной записке, о чем королева должна спросить при приеме русских послов, замечено: «Спросить о здоровье царя и его сыновей. На это будет отвечено, что один из них умер. Благоволит ее величество воспользоваться случаем спросить при этом, где был во время болезни этого сына доктор Якоби, ее лекарь, которого она рекомендовала царю, и как могло случиться, что он не был ранее допущен в присутствии царя, так как, по великому его искусству в его науке можно предполагать, что он спас бы сказанного царского сына».
Опять Елизавета вспомнила о докторе Роберте Якоби в письме Ивану IV от 8 июня 1583 года: «Сверх того, так как посланный нами к вам в прошлом году врач Роберт Якоби весьма нами любим, мы просим вас обходиться с ним, как добрые государи обходятся с лицом испытанным и стяжавшим чрезвычайные похвалы за многие свои добрые качества. Никогда бы мы не отпустили его от себя, если бы не жертвовали многим ради нашей дружбы и желания угодить вашему величеству. Пребывая в этом доброжелательстве к вашему величеству, мы можем лишь ожидать всего лучшего от вашего благорасположения к сказанному Якобию».
Каждая просьба Елизаветы о Якоби совпадала с периодом, когда в Московском государстве усиливались казни и пытки и все, окружавшие Ивана Грозного, трепетали за свою жизнь. Якоби, вероятно, не раз писал в Англию, прося высокого покровительства королевы, чтобы иметь хоть малую гарантию за целость своей головы.
Иван IV относился к врачам очень хорошо, о чем свидетельствуют слова князя Курбского, что «аще убо дохтору своему, именем Арнольфу итальянину, великую любовь всегда показываше».
Арнольф Линзей был превосходным врачом и математиком, он всю свою жизнь пользовался особым расположением царя и погиб в 1571 году во время московского пожара.
До чего простиралось расположение Ивана IV к Роберту Якоби видно из того, что последний играл довольно видную роль в сватовстве Грозного к леди Мэри Гастингс – дочери графа Гунтингтона и племяннице королевы Елизаветы. Он по этому поводу неоднократно беседовал с царем, который даже поручил Богдану Бельскому, Афанасию Нагому и Андрею Щелканову «по тою девку дохтора Романа расспросить подлинно». Якоби устроил даже аудиенцию у царя послу Иерониму Боусу, которого Иван IV не желал принимать ввиду нарушения этим установленного этикета.
Доктор Якоби играл не только немалую политическую роль, но даже вмешивался в религиозные вопросы. Он вместе с проповедником Колем изложил письменно тезисы английской веры, и «царь, наградив щедро авторов, приказал прочесть тезисы публично пред многими из своей Думы и знати».
Несмотря на все это, Иван IV лекарства из рук врачей не принимал. Оно подносилось ему ближним боярином, и это считалось гарантией, что оно не заключает в себе отравы. Кроме того, при поступлении на службу врачей заставляли поклясться не класть в лекарства дурных кореньев, а во время постов ничего скоромного.
Иноземные врачи, как чуждые русским по религиозным воззрениям и обычаям, не пользовались расположением бояр и народа. В эпоху казней им приписывалось дурное влияние на царя. Особенно худую славу по себе оставил доктор Елисей Бомелий (Бомелиус), про которого говорили, что он занимается волхованием и виноват в религиозном вольнодумстве царя.
Бомелий родом был голландец и, по свидетельству иностранцев, побывавших в Москве, был негодяем, подучавшим царя на убийства и составлявшим отраву, от которой погибали несчастные, прогневившие Ивана Грозного. Но и его настигла злая участь: по обвинению в сношениях с польским королем Стефаном Баторием его всенародно сожгли в Москве.

Иноземные врачи
Другие современники доказывают, что Бомелий был весьма образованным человеком, учился медицине в Кембридже и слыл там за искусного астролога и математика. В Лондоне народ стекался к нему, считая колдуном. Были у него почитатели и среди английской знати. Обвиненный в богохульстве, он по распоряжению архиепископа Мешью Паркера был заточен в тюрьму, откуда его освободили под условием, что он немедленно покинет Англию. Бомелия привез в Москву в 1570 году русский посол Савин. Царь приблизил его к себе и занимался с ним астрологией и алхимией.
Иван IV часто болел. Однажды он слег с тифом, и врачи прописали ему мешок блох. Но как это «лекарство» должны были применить – неизвестно. Москвичи же за то, что не сумели вовремя собрать нужное количество блох, были обложены денежной пеней в семь тысяч рублей.
В последние годы жизни Иван IV страдал «какой-то страшной болезнью». От него исходил отвратительный запах, тело покрылось волдырями и ранами. Царь страдал как физически, так и душевно. Он искал спасения в делах благотворения и молитве, у знахарей и заморских врачей. Но тщетно – не только исцеления, но и облегчения не было.
Особенно ухаживал за царем в это время его врач Эйлофф, который, по словам официальных документов, «ежедневно видел царские очи». Ходили слухи, что Эйлофф отравил Грозного.
Придворные врачи Ивана IV не имели права посещать больных без его разрешения. Сам же он нередко направлял их к больным боярам. Так, ранив постельника Гвоздева, царь послал за доктором Арнольфом. Тот нашел Гвоздева уже мертвым и сказал: «Царь и великий князь, будь лишь ты здрав, а тот уже перешел от жизни к смерти. Бог и ты, великий государь, могли умертвить его, я же воскресить его не в силах».
Первое достоверное известие о русском враче относится к этой эпохе. Это был пермский торговый человек Строганов, считавшийся «искусным в лечении недугов». Он залечивал раны, нанесенные Грозным своему любимцу Борису Годунову. Царь, лично осматривая «завороты», сделанные Строгановым на ранах своего пациента, одобрил его искусство, и в воздаянии за него пожаловал Строганова званием гостя, разрешив ему писать свое отчество с окончанием «вичем», что в то время считалось большим отличием.
Царь Федор Иванович был человеком небольшого роста, опухший, бледный и болезненный. Он нередко пользовался советами доктора Марка Ридлея – бывшего английского придворного врача, человека весьма ученого и опытного. Но, главным образом, сын Ивана Грозного искал исцеления у святых икон и мощей святых подвижников.
Доктора должны были сами приготовлять медикаменты. Лекарственные же вещества приобретались в семенных, зеленных и медовых торговых рядах. С приездом в Москву в 1581 году Джеймса Френчама была устроена первая в России аптека. Ею заведовал один из ближних бояр, и она была для нужд царя и его семейства, но довольно скоро из нее стали выдавать лекарства и боярам. Простой же народ покупал лекарственные травы, коренья и мази в лавках Зелейного ряда.
В 1673 году при Гостином дворе была открыта так называемая Новая аптека Гутменша, а в 1682 году у Никитских ворот, рядом с первым гражданским госпиталем третья аптека «для того, чтобы со всяким рецептом ходить в город неудобно».
В документах XVII века неоднократно упоминаются аптекарские сады или аптечные огороды. Здесь под наблюдением иностранных ботаников-огородников рядом с лекарственными растениями росли ягодные кусты и плодовые деревья. Когда осенью 1661 года создавали «новый аптекарский двор, что у Каменного моста», то сажали там черную, белую и красную смородину, вишню и сливу, для чего были взяты саженцы из частного сада Никиты Ивановича Романова, в котором также росли «аптекарские всякие травы».
Аптекарские сады и огороды служили не только для разведения лекарственных растений, но и для приготовления здесь же самих лекарств, для чего имелись специальные фармацевтические лаборатории.

Знахарь
В 1701 году император Петр I издал указ о закрытии всех зелейных лавок, торгующих лекарствами, и о даровании права открытия и содержания вольных аптек всем желающим.
Но простолюдины больше полагались на народную медицину. Француз Маржерет подметил, что если русский человек чувствует себя больным, то выпивает хорошую чарку вина, всыпав в нее предварительно заряд ружейного пороха или толченого чеснока, а затем немедленно идет в баню, где потеет два-три часа.
В XVII веке число врачей увеличивается. При царе Алексее Михайловиче на русскую службу было принято несколько десятков докторов, аптекарей и алхимиков, главным образом англичан и немцев. В большом количестве стали появляться лица низшего медицинского образования – лекари. Современники так разделяли их: «Дохтур совет свой дает и приказывает, а сам тому неискусен, а лекарь прикладывает и лекарством лечит, а сам ненаучен, а обтекарь у них у обеих повар». То есть, доктор – теоретик, лекарь – практик.
По прибытию в Москву иноземный врач посещал сначала Посольский, а затем Аптекарский приказ. Он должен был предъявить свой диплом и рекомендательные письма от коронованных особ или коллегии врачей и приводился к присяге.
Иностранные врачи сначала ходили по Москве в русском платье. Но после того, как однажды патриарх по ошибке благословил и иностранцев, последним было запрещено носить русское платье. И хоть их никто не принуждал к русской вере, они молились в лютеранских и реформатских храмах, дома им приходилось развешивать православные иконы, иначе никто из русских к ним бы не заходил, да и прислугу невозможно было бы нанять.
Начало хирургии в России следует отнести к 1706 году, когда в Москве были основаны госпиталь и медико-хирургическое училище, которые возглавил Николай Бидлоо. Петр I поддержал это важное начинание. И немудрено, ведь император имел склонность к хирургии и, наряду с математическими инструментами, носил при себе два ланцета для кровопускания, анатомический нож и клещи для выдергивания зубов. Известно несколько случаев, когда государь весьма успешно производил на людях несложные хирургические операции.
В медико-хирургическом училище преподавание велось исключительно на латинском языке, и лишь в 1764 году было разрешено читать лекции на русском и немецком языках. Но здесь воспитанники получали только самые элементарные знания и навыки. Докторами же медицины на протяжении всего XVIII столетия могли стать или иностранцы, или русские, получившие образование в европейских университетах.
Москвичи же в своем подавляющем большинстве продолжали лечиться, как и век, и два назад. Захворает барин, привяжет к голове мякиш черного хлебца, вымоченного в квасе, нюхает беспрестанно хрен, а пучок своих волос зарывает под калиткой. И ждет, что вот-вот головную боль как рукой снимет. Родня, ключницы, дворники, приживалки – все собираются на консилиум. Как лечить барина?.. Дуют, заговаривают, поят зельем с нашептыванием, зарывают в землю записочки.
Развитие русской медицины как науки, а не волхования, началось в Москве, да и во всей России с основанием Московского университета. Третий его факультет, открытый в 1758 году, был медицинский. Здесь в 1764 году профессор Эразмус открыл «кафедру анатомии, хирургии и повивального искусства». Обучение длилось от пяти до десяти лет. Большинство студентов происходили из духовного сословия. К сожалению, до конца XVIII века преподавание велось, главным образом, умозрительно. Лишь в 1787 году при Московском военном госпитале была открыта клиническая палата на десять коек, которую обслуживали университетские студенты и преподаватели. В 1791 году университет получил право возводить выпускников в степень доктора медицины. Но совершенствоваться во врачебном искусстве выпускникам все равно приходилось в заграничных учебных заведениях. Знаменитый хирург Н. И. Пирогов вспоминал, что за все время своего обучения на медицинском факультете Московского университета ему не пришлось вскрыть ни одного мускула даже у трупа: «Хирургия – предмет, которым я почти вовсе не занимался в Москве, – была для меня в то время наукой неприглядною и вовсе непонятною. Об упражнениях в операциях над трупами не было и помину. Из операций над живыми мне случилось видеть только несколько раз литотомию[6] у детей и только однажды видел ампутированную голень. Перед лекарским экзаменом нужно было описать на словах и на бумаге какую-нибудь операцию на латинском языке, и только!»
Получил практические навыки хирурга Пирогов лишь в Дерптском университете…
Московский врач Матвей Мудров подметил, что медицина на Руси издревле – народная, благотворительная, а заезжие лекари-иностранцы сделали ее одной из самых высокооплачиваемых профессий в обеих русских столицах. Врач стал предметом роскоши, доступной лишь немногим. Необходимо было вырастить собственных врачей, в совершенстве владеющих медицинской наукой, бескорыстных и трудолюбивых.
– Научитесь прежде всего лечить нищих, – учил Мудров с кафедры Московского университета, – вытвердите фармакопею бедных; вооружитесь против их болезней домашними снадобьями: углем, сажей, золой, травами, кореньями, холодной и теплой водой; употребите в пользу бедных ваших больных стихии – огонь, воздух, воду, землю – пособия, никаких издержек не требующие, и к этому приличную пищу и питье, ибо бедность не позволяет покупать лекарства из аптеки…
Мудров создал при университете анатомический театр, возглавил строительство Клинического и Медицинского институтов, после пожара 1812 года отдал свою медицинскую библиотеку в общественное пользование. Он поднял преподавание медицины почти до уровня западноевропейского, упорядочил составление и ведение истории болезни, учил лечить не болезнь как таковую, а отдельно каждого больного, словом и делом постоянно доказывал, что врачу мало одной книжной науки, ему необходимы врачебное искусство, постоянная практика, умение исцелять.
– До́лжно исследовать настоящее положение болезни, – наставлял он учеников, – искать в больном, где она избрала себе ложе. Для сего нужно врачу пробежать все части тела больного, начиная с головы до ног, а именно – первее всего надобно уловить наружный вид больного и положение его тела, а затем исследовать душевные, зависящие от мозга состояние ума, тоску, сон; вглядеться в лицо его, глаза, лоб, щеки, рот и нос, на коих часто, как на картине, печатлеется и даже живописуется образ болезни. Надо смотреть и осязать язык, как вывеску желудка, спросить о позывах к пище и питью и к каким именно, внимать силе голоса и ответов, видеть и слышать дыхание груди его и вычислить биение сердца и жил с дыханием. И вот врач, раб природы и слуга больного, делается наконец повелителем болезни!..