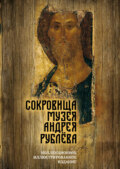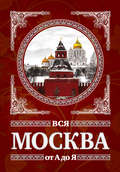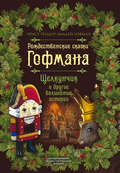Михаил Вострышев
Частная жизнь москвичей из века в век
Москва в жилищном хозяйстве навсегда осталась городом неимоверных контрастов.
Изменчивость погоды
Год на год не приходится.
Пословица
Жизнь появилась на Земле, по словам ученых, более 900 миллионов лет назад (архейская эра). Но бурное участие в развитии Земли и, в первую очередь, ее климата, растительный и животный мир стал принимать 325 миллионов лет назад (палеозойская эра). Сравнительно недавно, по сравнению с предыдущими цифрами, 25 миллионов лет назад, температура воздуха стала понижаться, и сейчас мы живем в одну из холодных эпох. В последние два миллиона лет средняя температура продолжала колебаться в пределах десяти градусов, отчего то Северный Ледовитый океан почти полностью освобождался ото льда, то Европу сковывал ледниковый панцирь. Последнее значительное потепление началось примерно 15 тысяч лет назад, когда вечная мерзлота отступила на несколько сот километров в Сибири и Северной Америке, а Европа полностью освободилась от нее.
Прежде всего надо отметить, что следует отличать погоду – состояние атмосферы (ясность, облачность, температура воздуха, влажность и т. п.) в данном месте, в данное время от климата – многолетнего режима погоды, свойственной той или иной местности.
Климат последнего тысячелетия, когда появился и стал набирать силу город Москва, тоже можно разбить на несколько периодов. Сравнительно теплыми оказались VIII–XIV века. Древние викинги на легких суденышках достигали Гренландии и устраивали там поселения. Похолодание на 1,3–1,4 градуса приходится на IV–IX века, когда полярные льды сковали побережье Гренландии и Исландии, а горные ледники в Альпах заняли обширные пространства. Новое потепление началось во второй половине XIX века и достигло своего максимума в 1930–1940 годы. На территории Руси, особенно в ее центре, где возвышалась Москва, колебания климата почти не ощущались.
Чудесен своей природою, зверем, птицею, дарами леса был дремучий московский край. Воды в достатке и для утоления жажды, и для земледелия. Ни тебе вулканов, ни разрушительных смерчей. Хотя сильные ветры все же случались. Но ветер взбесится – лишь с плохой хаты сорвет крышу. Кто дом строил на совесть, из соснового леса московских окрестностей, тому не были страшны ни дождь, ни ветер. Хороший дом спасет и в лютый мороз, который «и железо рвет, и на лету птицу бьет». Тяжелее всего пережить зиму. Но вот подходит она к концу. Наступает март с водою, апрель с травою и май с цветами. «Не пугай, зима, – весна придет! Не страши, непогода, – солнышко ведет ведрышко!» – говорил народ.
Добрые радостные чувства всегда вызывало «светило из светил» – Солнце. Оно пригревает землю-кормилицу, заливает весь мир светом, радует теплом непривычное к холоду тело человека. За эту службу ему почет и уважение: «Что мне золото – светило бы солнышко», «Не страши, непогода, солнышко ведет ведрышко», «Ото всех уйдешь кривыми путями-дорогами, только не от очей солнечных».
Но не вздумай прогневить красно солнышко! Это было давно, гласит предание, когда еще не было Солнца на небе, и люди жили в потемках. Но вот выпустил Бог из-за пазухи Солнце, все смотрят на него и дивятся. А пуще всех – бабы. Повынесли они решета, давай набирать света, чтобы осветить хаты. Хаты тогда еще без окон строились. Поднимут решето к Солнцу, свет льется через край, а только внесут его в хату – нет ничего! А Солнышко все выше и выше поднимается, уже припекать стало. Вздурели бабы – сильно притомились за работой, хоть света не добыли. А тут еще сверху жжет. И вышло такое окаянство: начали они на Солнце плевать. Бог прогневался и превратил нечестивых в камень…
О Солнце, Луне, звездах нельзя слова дурного вымолвить – от них польза человеку. «Красна солнышка мне не взвидеть!» – клялись в Древней Руси.
Другое дело гроза, вихрь, землетрясение, наводнение, засуха – они приносили несчастье. «С огнем не шути, с водой не дружись, ветру не верь». Беда тому, кто затеет с ними ссору, предостерегали старики молодежь.
Первые достоверные сведения о русской погоде содержатся в летописях, где отражаются исключительные явления природы, перед которыми человек чаще всего оказывался совершенно безоружным.
991 год: «Наводнение многое и много зла сотвори».
994 год: «Жары вельми тяжкие».
1002 год: «Дожди мнози… умножение плодов всяческих».
1028 год: «Знамение змеевидное явилось в небе [по-лярное сияние], так что видно было его отовсюду».
1088 год: «Земля стукнула [землетрясение]. Знамение в солнце. Великий змей от небес».
1107 год: «Тряслася земля перед рассветом ночью».
1128 год: «Бысть вода велика, в Волхове потопи люди и жита и хоромы снесе».
1135 год: «Прогремел гром зимой, и много вреда учинил».
1167 год: «Того же лета бысть ведро и жары велицы и сухмень чрез все лето и пригоре всяко жито и всякое обилие, и озера высохша, болота же выгореша, и лесы и земля горела».
1224 год: «Бысть ведро велие и мнози лесы, и боры и болота згораху и дымове сильнии тогда бяху, яко не видети человеком; бо яко мгла на земли прилегла».
Сведения о природных явлениях были основаны, прежде всего, на наблюдениях самого летописца или пришедших в его монастырь из других земель богомольцев. Особенно катастрофическим в Древней Руси, по мнению очевидцев, стал 1230 год, когда случилось довольно сильное землетрясение, а после него с 25 марта по 20 июля повсюду шли сильные дожди. Вдобавок к этим несчастьям 14 сентября ударили сильные морозы. Все это стало причиной повсеместного голода.
Лучшие традиции киевского, новгородского, псковского, ростовского летописания нашли дальнейшее развитие в Москве, где первые летописи появились в начале XIV века и где, наряду с повествованиями о войнах, пожарах, строительстве храмов, важных политических и экономических событиях, обязательно говорилось о разрушительных бурях, затяжных дождях, сильных засухах и морозах. Это был голос народа, земледельцев, которые более, чем князья и бояре, зависели от капризов погоды и более обращали на нее внимание. Было подмечено, что в XII веке случились лишь две засухи. Вторая половина XIII века изобиловала частыми бурями, сильными наводнениями, холодными зимами. В XIV веке было отмечено двадцать голодных годов из-за засухи и других экстремальных явлений. В XV веке больше всего ущерба земледельцам при-несли холодные продолжительные дожди. Как, впрочем, и в следующем столетии. На XVII век приходится рекордное количество голодных лет – двадцать шесть. Большими колебаниями погоды отмечен XVIII век, когда Москва несколько раз пострадала от наводнений (1702, 1709, 1716, 1718 и 1765 годы) и от засухи (девятнадцать раз за столетие).

Наводнение в Дорогомиловской слободе
Основная причина всех природных явлений – солнечная энергия. Большое значение также имеет близость морей и океанов, лесные массивы, высота местности. Изменчивость погоды мы наблюдаем и в течение одного дня, и месяца, да и очередной год никогда не похож на предыдущий. Как писал Александр Пушкин в «Евгении Онегине»:
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе…
Погода во многом зависит от величины снежного покрова, ведь талые воды питают возрождающуюся зелень, которая охлаждает и увлажняет воздух. Наиболее резко погода изменяется при воздушных вихрях – циклонах и антициклонах. Удаленность Москвы от морей и океанов существенно влияет на ее климат. Зима здесь продолжительная и холодная, лето умеренно теплое. И все же большие массы воздуха из Арктики, с Атлантического океана, из Средней Азии и из Сибири достигают столицы. Оттого москвичей нередко поджидают зимние оттепели и обложные дожди в летнее время. Ветры же в Москве дуют чаще всего с запада и юго-запада.
Ныне мы не в силах в полной мере почувствовать особенности московского климата тысячелетней давности. Столица, закованная в камень и асфальт, застроенная громадными зданиями, выбрасывающими в воздух неисчислимую массу пыли и грязи, создала в XX веке «городскую мглу», которая поглощает значительную часть солнечных лучей, не пропуская их к воде и земле. Особенно изменился климат зимы, как из-за отопления зданий, так и загрязненного снега, который уже не в силах отражать в полной мере тепловую радиацию. Свою лепту в изменение климата внесла и местная циркуляция воздушных масс, когда более теплый городской воздух поднимается вверх, а ему на смену притекает более холодный воздух Подмосковья.
Метеорологические наблюдения в древней Москве были лишь визуальными. «Как к тебе сия наша грамота придет, – писал царь Алексей Михайлович в 1650 году стольнику и ловчему А. И. Матюшкину, – и ты бы записывал, в который день и которого числа дождь будет, да отписать бы тебе о птицах, как их носят и как они летят, и что на Москве у вас делается». Метеорологические наблюдения заносились в «Дневальные записки» созданного в середине XVII века Приказа тайных дел. Они более регулярны, чем в летописях, но и более скудны: «Шел дождь с перемешкою», «Шел дождь велик и град в орех», «В ночи было тепло». В Петербурге, после учреждения 28 января 1724 года Академии наук, уже с 1 декабря следующего года приступили к постоянным метеорологическим наблюдениям с помощью специальных приборов. В Москве же первым стал измерять атмосферное давление, температуру воздуха, направление и скорость ветра военный врач Лерхе (записи с 13 сентября 1731 года по 15 февраля 1732 года). Позже главнокомандующие Москвы обязаны были еженедельно сообщать Екатерине II не только о ценах на хлеб и городских происшествиях, но и об ущербе, причиненном урожаю ураганами, ливнями, градом, наводнениями и засухами. «С исхода апреля месяца, – пишет императрице Я. В. Брюс, – продолжаются великие дожди и стужи, и на низких местах от тех совсем яровое вымокло». К регулярным же наблюдениям в первопрестольной столице приступили в 1820 году по почину профессоров Московского университета. С 1853 года эти наблюдения стали ежечасными, и не прекращаются по сей день. Благодаря им установлено, что полгода мы живем при температуре ниже плюс 5 градусов и являемся страной с довольно холодным климатом. Средняя температура января – минус 10,5 градусов, июля – плюс 18 градусов. Осадков за год выпадает около 550–600 мм, устойчивый снежный покров сохраняется с декабря по конец марта. Конечно, год на год не приходится, цифры эти средние. А самый ранний снег выпал 8 сентября 1896 года, самый поздний – 6 июля 1904 года (по новому стилю). Абсолютный минимум температуры составил минус 42 градуса (1942 год), максимум – плюс 38 градусов (1972 год).
О необычных явлениях природы, в том числе и погоды, в Москве лучше всего судить по наблюдениям писателей и ученых XIX–XX веков. Ведь и восемь веков назад происходило почти то же самое, с той лишь разницей, что жилища москвичей были попроще, запас продовольствия поменьше и каждое странное изменение погоды имело для горожан не только жизненно важное значение, но и вселяло в большинство народа суеверный страх.
Во все времена особенно пугали людей землетрясения. Конечно, они никогда не могли быть в Москве столь же разрушительны, как в Китае, Армении или Румынии. Но это было очень редкое для этих мест явление и потому внушало особую тревогу. «Теперь же землетрясение своими глазами увидели, – писал в 1230 году епископ Владимирский Серапион. – Земля, от создания укрепленная и неподвижная, повелением Божиим ныне движется, от грехов наших колеблется, беззакония нашего вынести не может». Проповедник призывает к покаянию перед постигшими Русскую землю бедами, среди которых «страшное трясение» лишь следствие княжеских распрей и иноземного нашествия. «Исчезла крепость, – говорит он, – князей и воевод, в плену соотечественники, поросли сорной травой разоренные села, русское богатство стало корыстью врагов», и вся земля «иноплеменникам в достояние бысть».
Московский летописец отметил землетрясение 1 октября 1445 года: «В 6 час нощи тоя потрясеся град Москва, Кремль и посад весь и храми колебашеся». Вряд ли спящие проснулись от этого странного события. Но кто бодрствовал, воспринял его как предвестник беды, ведь ничего прежде никто из них не ощущал. Правда, через тридцать лет нечто подобное повторилось в столице Русского государства: весной 1474 года рухнула даже недостроенная церковь Пресвятой Богородицы и был «трус в граде Москве».
Слабые отголоски далеких карпатских землетрясений москвичи ощущали еще несколько раз, вернее, слышали, как ни с того ни с сего вдруг начинали звонить колокола.
Первое московское землетрясение, о котором остались подробные записи, произошло 14 октября 1802 года. Его свидетелем был знаменитый историограф Н. М. Карамзин, оставивший для потомков его описание: «14 октября, на исходе второго часа пополудни, мы чувствовали легкое землетрясение, которое продолжалось секунд двадцать и состояло в двух ударах, или движениях. Оно шло от востока к западу, и в некоторых частях города было сильнее, нежели в других: например, сколько можно судить по рассказам, на Трубе, Рождественке и за Яузою. В иных местах его совсем не приметили. Оно не сделало ни малейшего вреда и не оставило никаких следов, кроме того, что в стене одного погреба (в Городской части) оказались трещины, а в другом отверстие в земле, на аршин в окружности… Удары были чувствительнее в высоких домах; почти во всех качались люстры, в иных столы и стулья. Многие люди, не веря глазам, вообразили, что у них кружится голова. Работники, бывшие на Спасской башне, уверяют, что стены ее тряслися. Те, которые шли по улице или ехали, ничего не чувствовали, и большая часть жителей только на другой день узнала, что в Москве было землетрясение».
Следующее московское землетрясение описал очевидец А. П. Павлов: «11 января 1838 г., в 10-м часу вечера, в студенческом общежитии в верхнем этаже старого Университета у стен стояли столики с горевшими свечами… Вдруг столики с горевшими на них свечами стали отодвигаться от стены, а неплотно затворенные двери начали хлопать, что продолжалось секунд около 10. На лицах свидетелей этого явления выразилось молчаливое изумление, и только вырвалось у кого-то одно слово: «Землетрясение!» На другой день мы слышали, что в верхних этажах некоторых высоких московских домов в посудных шкафах было перебито немало посуды, а в некоторых стенах верхних этажей образовались трещины».
Несколько последующих землетрясений, в том числе 10 ноября 1940 года и 4 марта 1977 года, не принесли городу никакого урона. Их сила не превышала 3–4 балла.
Более всего преданий, связанных с погодными катаклизмами, сочинено о грозе. В языческие времена главным персонажем этого красочного грозного явления природы был повелитель громов Перун, утолявший летнюю жажду земли живительными дождями, приносившими земле плодородие. После крещения Руси его постепенно сменил святой Илья-пророк, разъезжающий по небесной тверди на запряженной крылатыми конями колеснице и поражающий стрелами-молниями злых демонов и прочую нечисть. По своему усмотрению он выбивает градом поля грешников, поражает насмерть злых людей. Каждый раз 20 июля/2 августа, в день церковной памяти святого пророка Илии, на Руси ждали дождя и грома, совершали торжественные крестные ходы, чтобы умилостивить грозного и справедливого пророка.
Число гроз в Москве в среднем за год равно двадцати двум. Их возникновение чаще всего связано с жаркой погодой и большой влажностью воздуха, неустойчивым состоянием атмосферы, когда температура воздуха быстро понижается при подъеме вверх, возникают сильные восходящие потоки и образуются кучевые облака, вскоре переходящие в беспорядочное нагромождение грозовых. Они переполняются влагой и атмосферным электричеством и освобождаются от них в виде сильных ливней и электрических разрядов – молний.
Молнии в Москве от самого ее основания и до конца XIX века являлись причиной множества пожаров. Они часто ударяли в деревья, особенно в дубы, которые имеют разветвленные и глубоко залегающие корни. Дальше, по ниспадающей, ее объектами становились другие лиственные породы, ель, сосна. И почти никогда молния не выбирала объектом своего удара бук. Она превращала деревья в горящие щепки, которые разлетались на десятки метров в стороны и являлись причиной опустошительных пожаров. Нередко молния ударяла и в печные трубы, разрушая их и уничтожая огнем все жилище.
Грозу русские люди нередко связывали со Страшным судом и слагали об этом печальные песни.
Как сойдет с неба Илья-пророк —
Загорится матушка сыра-земля,
С востока загорится до запада,
С полудён загорится да до ночи.
И выгорят горы с раздольями,
И выгорят леса темные.
Грозы в Москве и Подмосковье нередко сопровождаются градом, иногда мелким, а иногда достигающим величины грецкого ореха. У крупной градины, разрезанной пополам, можно увидеть слоистое, как у луковицы, строение. Это говорит о постепенном наращивании слоев льда во время пребывания градины в облаке. Исключительно крупный град, величиной с кулак и весом каждой градины более 400 грамм, выпал в нашей столице 16/29 июня 1904 года. Он убивал мелкий скот, уничтожал посевы и оставлял ровные, без трещин дыры в крышах стеклянных теплиц.
Но самым страшным и частым природным явлением для москвичей всегда были засухи. Недаром же именно этому событию посвящен первый дошедший до нас русский метеорологический трактат «Слово о вёдро», созданный в Киеве в середине XI века. Вслед за засухой по следам шел голод. На Руси издавна страшились трех бедствий, время от времени навещавших города и села, – повальных болезней, пожаров и голода. От мора спасала лютая русская зима, от пожаров, уничтожавших жилища, – лес и плотницкий топор, от голода в засуху – запасы зерна впрок.
Другой, более редкий, но тоже нелюбимый гость в Москве был ураган. По мнению некоторых геологов, около 200 миллионов лет назад в Подмосковье и на территории современной столицы существовало несколько вулканов, и до сих пор остается возможность зарождения над ними смерчей. Один из них пронесся над городом 16/29 июня 1904 года, сопровождавшийся крупным градом, о котором было рассказано выше. Тогда в воздухе летали куски железа с крыш, бревна, камни, лошади, люди. Вот что сообщает очевидец этого события: «В Москве подняло с земли на две сажени вверх городового Алексеева и одного рабочего, отнесло их на пятьдесят сажень и перебросило через забор в сад. Городовые Медведев и Сотников, стоявшие на своих постах, были приподняты на десятисаженную высоту. Помощника брандмейстера Лефортовской части Баландина подняло на девять сажень и со страшной силой ударило о забор, причем голову ему буквально раздробило. Все они умерли». Одна из воздушных воронок пересекла Москву-реку и на несколько секунд обнажила ее дно. Погибло около ста человек, несколько сотен было ранено.
Шквальный ветер, сопровождавшийся грозой, ливнем и градом, пронесся над Москвой и 28 мая 1937 года. Дождевые капли, раздробленные ветром, неслись сплошной завесой, из-за свиста ветра не было слышно ударов грома, дневной свет померк, лишь вспышки молнии на миг освещали город. Наибольшей силы ветер достиг в Петровском парке, в который он ворвался, набрав силу на незастроенном Ходынском поле. Ветер срывал крыши, валил заборы, вырывал с корнем деревья.
Наделавший тоже немало вреда удар разбушевавшейся стихии москвичи ощутили на себе совсем недавно – в ночь с 20 на 21 июня 1998 года. Более двух часов бушевал ураган, срывая крыши гаражей и корежа стойки рекламных щитов, с корнем вырывая тысячи деревьев. «Как Мамай прошел», – говорили утром вышедшие на улицу москвичи.
Надо заметить, что засушливые и сырые летние месяцы, суровые и теплые зимы, сильные бури, грозы и снегопады, поздние весенние заморозки и наводнения не переводились на московской земле никогда. Вот только ночное небо в городе в стародавние времена было звездным, солнце наши предки видели чаще, а воздух… Нет, нам не дано понять чистоты воздуха, которым дышали первые москвичи.
Водная гладь
На тихих берегах Москвы
Церквей, венчанные крестами,
Сияют ветхие главы
Над монастырскими стенами.
Кругом простерлись по холмам
Вовек не рубленные рощи.
А. С. Пушкин
На высоком берегу Москвы-реки, при впадении в нее Неглинной, в стародавние времена появилось небольшое селение, ставшее спустя несколько столетий самым великим городом Русской земли.
Реки служили защитой от чужеземных захватчиков и являлись удобной и единственной торговой дорогой.
«При взгляде на карту, – писал в 1909 году немецкий социолог А. Гетнер, – сперва можно удивиться, что Москва возникла не на Волге или Оке, а на маленькой Москве-реке. Первым поводом для основания ее послужило, должно быть, безопасное положение на крутом холме; со стороны реки Кремль выглядит величественным замком, и с его возвышения открывается широкий горизонт. Но и Москва-река ведь не малая: она годится для судоходства и не очень маленьких судов. Как раз в этом положении между главными реками у Москвы удобная связь во все стороны, в то время как положение городов на Волге и Оке является гораздо более односторонним. Москва была естественной столицей Великороссии, да и для всей восточноазиатской равнины трудно найти другое место с таким удобным положением, с такими удобными путями сообщения».
Товары из европейских городов везли через Смоленск по Днепру до Ламского Волока (недалеко от нынешнего Волоколамска), и здесь суда переволакивали по суше в притоки Москвы-реки, чтобы потом спуститься в Оку и Волгу, направляясь к волжским болгарам, в Каспийское море и окрестные восточные страны. «В Москве такое изобилие всех вещей, необходимых для жизни… – писал в 1662 году барон А. Мейерберг, – что ей нечего завидовать никакой стране в мире… Хотя она лежит весьма далеко от всех морей, но благодаря множеству рек имеет торговые сношения с самыми отдаленными областями».
Москва-река берет свое начало в Смоленской области. Возле деревни Старьково до сих пор существует лесное болотце, прозванное Московской лужей. Из него вытекает ручеек Коноплянка, который впадает в Михалевское озеро и по выходе из него уже именуется Москвой-рекой. Как и многие другие русские реки, она имеет очень извилистое русло, ее причудливые излучины (крутые повороты) придают городу живописное своеобразие.
Вскрывается Москва-река обычно около 10 апреля. Ледостав наступает примерно 19 ноября. В пределах центральной части города из-за стока теплых отработанных вод река замерзает крайне редко.

Самые ранние документы, рассказывающие о быстром повышении уровня воды в Москве-реке, относятся к XV–XVII векам. Но и по ним можно догадаться, какие немалые бедствия приносили весенние паводки в более ранние времена.
«Сия же зима вельми люта бысть, мразы быта велики и снега, а на весне на Москве и везде поводь зело велика бысть» («Воскресенская летопись», 1496 г.).
«Ко всему этому присоединилось неслыханное наводнение. В то время, когда мы находились в Москве, реки, протекающие через город, выступили из своих берегов, и вода была столь велика, что около тысячи домов отчасти было подмыто, отчасти разрушено совершенно» («Записки Жолкевского», 1607 г.).
«На Пасхе, которая была 15 апреля, лед на реках растаял, и мы пошли смотреть реку Москву, протекающую под Кремлем. Когда в этот день Пасхи лед растаял от теплого воздуха, солнечного жара и дождя, мы увидели на реке вещь удивительную: по ней свободно плыли горы снега и льда. Она в эту ночь опрокинула наружную стену Кремля (наружная стена Кремля – защитная стенка от размывов берега при весенних паводках; вторично возведена в XVIII веке), потопила и разрушила множество домов с немалым числом людей и вырвала с корнем большое количество деревьев. Прежде люди ходили по ней, а теперь стали плавать на лодках из улицы в улицу, от дома до дома, что продолжалось в течение нескольких дней, пока река не начала убывать и не вернулась в свое обычное положение, и в августе месяце ее переезжали вброд, на лошадях, – так она стала маловодна» («Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию, описанное его сыном архидьяконом Павлом Алеппским», 1665 г.).
Около тысячи притоков принимает Москва-река на своем протяжении. На территории города самым значительным из них всегда была Яуза. Вытекая из болот Лосиного Острова, она пересекает Мытищи и уже в городе пополняет свои воды за счет речек с чудесными старинными названиями: Чермянка, Лихоборка, Каменка, Горячка, Капытовка, Рыбинка, Хапиловка, Синичка, Золотой Рожок… Большинство из них за прошедшее столетие или вовсе засыпали, или взяли в трубы, точнее – в коллектор (трубопровод большого поперечного сечения).
Яуза в IX–XI столетиях была частью великого торгового пути из Смоленска в Волгу, в Персию и Аравию. При ее устье существовали пристань и склады. Здесь перегружали товары с больших судов на малые и наоборот. Мелкие суда по Яузе шли до Мытищ, где посуху переволакивались в Клязьму, по которой достигали Оки, что сокращало путь на несколько сот километров.
Другой знаменитый приток Москвы-реки – Неглинная, начинавшаяся в болотистой низине возле нынешней Самотечной площади, при слиянии небольших речек Самотеки и Напрудной. Еще в XIX веке Неглинную навсегда упрятали в подземную темницу. А проте-кала она по нынешнему Цветному бульвару, пересекала Трубную, Театральную и Манежную площади и, спустившись Александровским садом к Большому Каменному мосту, впадала здесь в Москву-реку.
И опять – грусть об исчезнувшей с карты города речке. Ведь в журчании воды красоты поболее, чем в стеклянно-бетонном небоскребе. Владимир Солоухин писал:
Шумит великая столица,
Шуршит машинами над ней,
И что же ей, Неглинке, снится
Среди подземных кирпичей?
Кувшинки, синие стрекозы,
Чуть розоватый свет зари?
Луга, песчаные откосы
И на быстринке пескари?
Берега Неглинной почти на всем протяжении ее течения были изрезаны мелкими оврагами и ручьями, и, значит, долина реки была сильно заболочена. Одно из таких «мокрых мест» существовало на месте здания Манежа, при впадении в Неглинную наиболее крупного ее притока Успенский Вражек.
На своем протяжении Москва-река имеет около тысячи притоков. Вступая в город в районе Строгино и покидая столицу у Бесединского моста, она принимает здесь около семидесяти притоков. Наиболее крупные из них, после Яузы и Неглинной, – Сходня, Сетунь, Городня, Нищенка, Химка, Котловка, Чура, Таракановка, Пресня, Филька (Хвилка), Кровянка, Рачка. Среди них следует особо выделить Сетунь, чье русло является более древним по отношению к современной долине Москвы-реки и где на левом берегу недалеко от устья обнаружены следы древнего городища.
Большинство московских рек и ручьев издревле питались как за счет подземных вод, так и многочисленных болот. Недаром существует старая поговорка: «Москва стоит на болоте, в ней ржи не молотят, а больше нашего едят». Все правобережье Москвы-реки против Кремля между современными Большим Каменным и Москворецким мостами до XVIII века представляло собой заболоченную местность с небольшими озерами – «старицами». Громадные непроходимые болота находились на пойменных берегах большинства ее притоков. Ныне почти все болота и озера засыпаны, но под толщей земли нередко залегают массивные торфянистые и илистые прослойки. К примеру, в районе Нагатино («на гати»).
Красота нашей столицы зависит, в первую очередь, от Москвы-реки и ее берегов, богатых крутыми склонами, холмами и низинами. В «Книге о Московском посольстве» (XVI век) Иовий пишет: «Это самый славный из всех городов Московии как по своему положению, которое считается срединным в стране, так и вследствие замечательного удобного расположения рек, обилия жилища и громкой известности весьма укрепленной крепости». Наталья Кончаловская писала:
Москва-река, тебе хвала!
В веках ты видела немало.
Когда б ты говорить могла,
Ты многое бы рассказала.
Ты б рассказала нам о том,
Как люди начали селиться,
За тыном – тын, за домом – дом
Росло на берегу твоем
Начало будущей столицы.
Река молчит. Но люди заставили говорить камни. Археологи вели раскопки на высоких холмах по речным берегам и обнаружили более десятка селений, стоявших здесь не меньше, чем две тысячи лет назад. Найдены также отчетливые следы заселения человеком московских окрестностей даже за десять тысяч лет до наступления нашей эры.

Москва-река не только была торговым путем и заслоном от врага, но и кормилицей. Она снабжала население питьевой водой и рыбой, привлекала к себе птиц и зверей, к ней сгоняли на водопой скот. На ее берегах произрастали многие дикие и лекарственные растения, ягоды и грибы. Весенние разливы способствовали плодородию почв, используемых под огороды и сенокосы. Даже во второй половине XIX века рыболовы добывали на удочку (применение сетей и верш в черте города запрещалось) в год не менее 500 пудов плотвы и еще столько же иной рыбы: язей, ершей, ельца, подуста. Что уж тут говорить про времена первых московских князей! Тогда обилие и разнообразие рыбы было столь велико, что можно было накормить ею всю Русь. Но другие княжества не нуждались в чужих речных дарах – у самих такого добра было в достатке.
В старину на территории нынешней Москвы протекало не менее 150 речек и ручьев, существовало свыше 800 болот, прудов, озер и стариц.
Все болота и большинство озер в прошлые столетия уничтожили. Притоки же Москвы-реки, хоть и текут теперь в своем подавляющем большинстве под землей, продолжают способствовать сохранению в городе зелени. Их поймы не были полностью застроены и стали бульварами. Красногвардейский бульвар в рай-оне Пресни обязан своим существованием ручью Студенец, Звездный и Ракетный бульвары в Останкине – Копытовке, Самотечный и Цветной бульвары, а также Александровский сад – Неглинной. О речке Ольшенке напоминает местность между улицами Костромская и Пришвина…
Но, даже гуляя по заасфальтированному городу и разглядывая таблички с названиями улиц, мы убеждаемся, что Москва стояла на мокром месте: Балчуг[3], Левобережная, Кашенкин Луг, Песчаная, Краснопрудная, Черногрязская, Озерная, Заречная, Затонная, Ключевая…