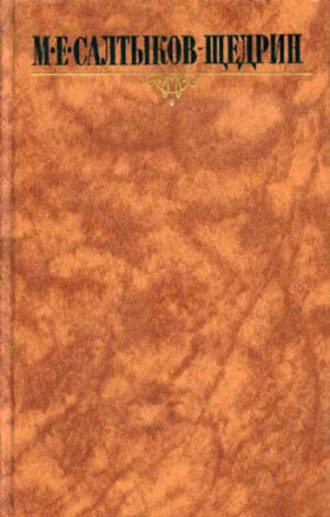
Михаил Салтыков-Щедрин
Невинные рассказы
– Ну, дай бог здоровья начальникам… отпустили тебя, Петруня… и нассделали с праздником, – сказал старик.
Покуда старик говорил, сзади у печки послышались сначала вздохи, апотом и довольно громкие всхлипывания. Петруня как-то болезненно весьсжался, услышав их.
– Ну вот, пошла баба голосить! уйми ты ее, Иван! – обратился старик кстаршему сыну, – нешто лучше бы было, кабы не отпустило сына-то… так тыбы радовалась, не чем горевать!
– Так неужто ж и пожалеть нельзя! – отозвалась из угла баба, – собирались ноне женить в мясоед парня, ан замест того вон он куда угодил…и не чаяли!
Петруня, казалось, еще более сжался при последних словах матери.
– Ничего, с богом… не на грех идет! чай, еще не сколько мученья-топринял, Петруня? – спросил дедушко.
– Мученьев, дедушко, нет; а вот унтер сказывал, что через десять дён впоход идти велено, – отвечал Петруня тихо и дрожащим голосом.
– Ну что ж, и в поход пойдешь, коли велено! Да ты слушай, голова! и яведь молоденек бывал, тоже чуть-чуть в некруты в ту пору не угодил… уж ичто хлопот-то у нас в те поры с батюшкой вышло!
– То-то "чуть-чуть"! – в сердцах ворчала мать, – вот не сдали же, атут как есть один сын, да и тот не в дом, а из дому вон бежит!
– А кто ж тебе не велел другого припасти! – сказал дедушкополушутливо, полудосадливо, – то-то вот, баба: замест того, чтоб потешитьсыночка о празднике, а она еще пуще его в расстрой приводит! Ты пойми, глупая, что он у тебя в гостях здесь! Вот ужо вели коней в саночкизапречь… погуляй покуда, Петруня, с робятками-то, погуляй, милой!
Иван, однако, не принимал никакого участия в разговоре. Он спокойнораздевался в это время и вместе с тем делал обычные распоряжения по дому. Но это равнодушие было только кажущееся, а в сущности он не менее женыпечалился участью сына. Вообще, нашего крестьянина трудно чем-нибудьрасшевелить, удивить или душевно растрогать. Ежеминутно имея прямоеотношение лишь к самой незамысловатой и неизукрашенной действительности, ежеминутно встречая лицом к лицу свою насущную жизнь, которая частопредставляет для него одну бесконечную невзгоду и во всяком случае многогоникогда ему не дает, он привыкает смело смотреть в глаза этой суровоймачехе, которая по временам еще осмеливается заговаривать льстивымиголосами и называть себя родной матерью. Поэтому всякая потеря, всякаянеудача, всякое безвременье составляют для крестьянина такой простой факт, перед которым нечего и задумываться, а только следует терпеливо и бодроснести. Даже смерть наиболее любимого и почитаемого лица не подавляет его ине производит особенного переполоха в душе; мало того: я не один раз видална своем веку умирающих крестьян, и всегда (кроме, впрочем очень молодыхпарней, которым труднее было расставаться с жизнью) замечал в них какое-тотвердое и вместе с тем почти младенческое спокойствие, которое многие, конечно, не затруднились бы назвать геройством, если бы оно не выражалосьстоль просто и неизысканно. Все страдания, все душевные тревоги крестьянинпривык сосредоточивать в самом себе, и если из этого правила имеютсяисключения, то они составляют предмет хотя добродушных, но всегда общихнасмешек. Таких людей называют нюнями, бабами, стрекозами, и никогдарассудливый мужик не станет говорить с ними об деле. Правда, дрогнет иногдау крестьянина голос, если обстоятельства уж слишком круто повернут его, изменится и как будто перекосится на миг лицо, насупятся брови – и только;но жалоба, суетливость и бесплодное аханье никогда не найдут места в егогруди. Повторяю: невзгода представляется для крестьянина столь обычнымфактом, что он не только не обороняется от него, но даже и не готовится кпринятию удара, ибо и без того всегда к нему готов. Всю чувствительность, все жалобы он, кажется, предоставил в удел бабам, которые и в крестьянскомбыту, как и везде, по самой природе, более склонны представлять себе жизньв розовом цвете и потому не так легко примиряются с ее неудачами.
– Рекрут, что ли, у вас? – спросил я Ивана.
– Рекрут, сударь, сыном мне-ка приходится.
– А велика ли у вас семья?
– Семья, нечего бога гневить, большая; четверо нас братовей, сударь, да детки в закон еще не вышли… вот Петрунька один и вышел.
– Тяжело, чай, расставаться-то?
Иван с изумлением взглянул на меня, и я, не без внутренней досады, должен был сознаться, что сделанный мною вопрос совершенно праздный и ни кчему не ведущий.
– Божья власть, сударь! – отвечал он и, обращаясь к старику, прибавил:– Обедать, что ли, сбирать, батюшка?
– Вели сбирать, Иванушко, пора! чай, и свет скоро будет!.. Да законями-то пошли, что ли?
– Давно Васютку услал, приведут сейчас.
Петруня между тем незаметно скрылся за дверь. Несмотря на то, что избабыла довольно просторная, воздух в ней, от множества собравшегося народа, был до того сперт, что непривычному трудно было дышать в нем. Кроме сыновейстарого дедушки с их женами, тут находилось еще целое поколение подросткови малолетков, которые немилосердно возились и болтали, походя пичкая себяхлебом и сдобными лепешками.
– Кто-то вот нас кормить на старости лет будет? – промолвила между темхозяйка Ивана, по-прежнему стоя в углу и пригорюнившись.
– Чай, братовья тоже есть, семья не маленькая! – отвечал дедушко, струдом скрывая досаду.
– Да, дожидайся, пока они накормят… чай, по тех пор их и видели, поколь ты жив.
– Не дело, Марья, говоришь! – заметил второй брат Ивана.
– Ее не переслушаешь! – отозвался третий брат.
Окончания разговора я не дослушал, потому что не мог долее выноситьэтого спертого, насыщенного парами разных похлебок воздуха, и вышел всенцы. Там было совершенно темно. Глухо доносились до меня и голосаямщиков, суетившихся около повозки, и дребезжащее позвякивание колокольцев, накрепко привязанных к дуге, и еще какие-то смутные звуки, которыенепременно услышишь на каждом крестьянском дворе, где хозяин живетмало-мальски запасливо.
– Как же быть-то? – сказал неподалеку от меня милый и чрезвычайномягкий женский голос.
– Как быть! – повторил, по-видимому, совершенно бессознательно другойголос, который я скоро признал за голос Петруни.
– Скоро, чай, и сряжаться станете? – снова начал женский голос посленепродолжительного молчания.
Петруня не промолвил ни слова и только вздохнул.
– Портяночки-то у тебя теплые есть ли? – вновь заговорил женскийголос.
– Есть.
– Ах, не близкая, чай, дорога!
Снова наступило молчание, в продолжение которого я слышал толькоучащенные вздохи разговаривающих.
– Уж и как тяжко-то мне, Петруня, кабы ты только знал! – сказалженский голос.
– Чего тяжко! чай, замуж выдешь! – молвил Петруня дрожащим голосом.
– А что станешь делать… и выду!
– То-то… чай, за старого… за вдовца детного…
– За старого-то лучше бы… по крайности, хоть любить бы не стала, Петруня!
– А молодого небось полюбила бы!.. То-то вот вы: потоль у вас и мил, поколь в глазах! – сказал Петруня, которого загодя мучила ревность.
– Ой, уж не говори ты лучше!.. умерла бы я, не чем с тобойрасставаться – вот сколь мне тебя жалко!
– А меня небось в сражениях убьют, покуда ты здесь замуж выходитьбудешь!.. детей, чай, народишь!.. Вот унтер намеднись сказывал, что всраженье как есть ни один человек цел не будет – всех побьют!
Вместо ответа мне послышались тихие, словно детские, всхлипывания.
– Ну что ж, и пущай бьют! – продолжал Петруня, находя какое-то горькоеудовольствие в страданиях своей собеседницы.
Всхлипывания послышались горче прежнего.
– Ах, пропадай моя голова… хочешь, сбегу, Мавруша? – внезапноспросил Петруня.
– Что ты, что ты, Петруня! что ж это будет! – отвечала Маврушаголосом, в котором слышался испуг.
– Убегу, да и все тут, – продолжал Петруня, – уйду в леса к старцам…ищи, лови тогда!
– Стариков-то твоих, чай, в ту пору так и засудят! – робко заметилаМавруша.
Петруня молчал.
– В разоренье поди приведут? – продолжала Мавруша, как бы рассуждаясама с собой.
То же молчание.
– Нет, ты уж лучше не бегай, Петруня! как-нибудь, бог даст, исвидимся!
– То-то «свидимся»! замуж, чай, хочется, а не «свидимся»! Ты бынапрямки так и говорила… а то «свидимся». Так бежать, что ли?
– Куда ж бежать? коли для меня ты хочешь бежать, так я за тобой ведьбежать не могу!
Петруня заплакал.
– Петруня! желанный ты мой! – прошептала Мавруша.
Петруня заплакал пуще прежнего.
– Ох, да хоть бы не плакал ты! – сказала Мавруша каким-то утомленным, замученным голосом.
– Вот каково дело, что и пособить нечем! – говорил Петруня, обрываясьпочти на каждом слове, – куда я теперь денусь? Ох, да подумай же ты, Мавруша, как бы нам хорошо-то было!.. жили бы мы теперь с тобой… и мясоедвот на дворе… И все-то ведь прахом пошло… точно ничего и не было! Намеднись вот унтер сказывал, верст тысячи за две поведут… так когда жетут свидеться!
– Петруня! где же ты запропал! – раздался сзади меня голос женщины.
– Здесь; обедать, что ли? – откликнулся Петруня.
– Обедать дедушко зовет.
– Сейчас. Прощай, Мавруша! ноне к ночи надо опять в город ехать…прощай! может, уж и не свидимся!
– Разве на село-то не пойдете с партией? хошь бы посмотрела я на тебя!
– Нет, по почтовой пойдем; вот разве что: ужо дедушко коней посулил…погуляем, что ли?
– Не пустят, Петруня, – тихо отвечала Мавруша, – а уж как бы непогулять! Старики-то ноне у меня больно зорки стали: поди и теперь, чай, ищут меня!
– Ну, так ин бог с тобой, прощай же, Мавруша.
Голоса стихли, но Петруня несколько времени еще не приходил в избу; минуты с две слышались мне и глубокие вздохи, и неясный шепот, прерываемыйрыданиями, и стало мне самому так обидно, тяжко и больно, как будтовнезапно лишили меня всего, что было дорого моему сердцу. "Вот, – думал я, – простая, кажется, с виду штука, а поди-ка переживи ее!" И должносознаться, что до тех пор никогда эта мысль не заходила мне в голову.
– Иди, что ли! – снова раздался сзади меня голос денщицы.
– Иду, иду! – отвечал Петруня. – Прощай, Мавруша! – продолжал онкаким-то гортанным, задыхающимся голосом, – прощай же, касатка!
И вслед за тем он бегом взбежал на лестницу и направился быстрымишагами в избу.
Когда я через четверть часа снова вошел в избу, вся семья обедала, нообщий ее вид был нерадошен. Какое-то принуждение носилось над ней, и хотядедушко старался завести обычную беседу, но усилия его не имели успеха. Иван молчал и смотрел угрюмо; Марья потихоньку всхлипывала; Петруня сидел сзаплаканными глазами и ничего не ел; прочие члены семьи, хотя и менеезаинтересованные в этом деле, невольно следовали, однако ж, за общимнастроением чувств; даже малолетки, обыкновенно столь неугомонные, как-топритихли и сжались. Одним словом, тут только и было праздничного, чтокушанья, которых было перемен шесть и которые однообразно следовали одно задругим, ни в ком не возбуждая веселья. Я тоже невольно задумался, глядя наэту семью… и о чем задумался?
"Что-то делается, – думал я, – в том далеком-далеком городе, который, как червь неусыпающий, никогда не знает ни усталости, ни покоя? Радуютсяли, нет ли там божьему празднику? и кто радуется? и как радуется? Не подпалли там праздник под общее тлетворное владычество простой обрядности, безвсякого внутреннего смысла? не сделался ли он там днем, к которому надоособенным образом искривить рот в виде улыбки, к которому надо накупитьмного конфект, много нарядов, в который, по условному обычаю, следуетпризвать в гостиную детей, с тем чтоб вдоволь натешиться их благоприличнымиманерами, и затем вновь отослать их в детскую, считая все обязанности вотношении к ним уже исполненными до следующего праздника? Сохранил ли тампраздник свое христианское, братское значение, в силу которого сама собойобновляется душа человека, сами собой отверзаются его объятия, само собойраскрывается его сердце? Ведь праздник есть такая же потребностьчеловеческой жизни, как радость – потребность человеческого сердца: этопотребность успокоения и отдыха, потребность хоть на время сбросить с себятяжесть жизненных уз, с тем чтоб безусловно предаться одному ликованию!"
И передо мной незаметно раскрылся знакомый ряд картин, свидетелеймоего прошедшего, картин, в которых много было движения, много суеты, многодаже каких-то неясных очертаний и смутных намеков на жизнь, радость инаслаждение… Но была ли это радость действительная, было ли это то чистоенаслаждение, которое не оставляет после себя в сердце никакого осадкагоречи? Вот он, этот громадный город, в котором воздух кажется спертым отмножества людских дыханий; вот он, город скорбей и никогда неудовлетворяемых желаний; город желчных честолюбий и ревнивых, завистливыхнадежд; город гнусно искривленных улыбок и заражающих воздухпризнательностей! Как волшебен он теперь при свете своих миллионов огней, какая страшная струя смерти совершает свой бесконечный, разъедающий оборотсреди этого вечного тумана, среди миазмов, беспощадно врывающихся со всехсторон! Сколько мучений, сколько никем не знаемых и никем не разделенныхнадежд, сколько горьких разочарований, и вновь надежд, и вновьразочарований!
"Господи! надо же было над Петруней такой беде стрястись! Кабы не это, сидел бы он здесь беззаботный и радостный; весело беседовало бы теперь затрапезой честное потомство слепенького дедушки… и надо же было слепомуслучаю пройти беспощадным своим плугом по этому прекрасному зеленому лугу, чтоб взбуровить его ровную поверхность и исполосать ее черными, безобразными бороздами!"
Размышления эти были прерваны докладом о том, что лошади готовы. Горько мне было садиться одному в сани, горько было расставаться с людьми, особливо в этот праздник, когда, и вследствие воспоминаний прошедшего, ивследствие всего склада жизни, необходимость общества людей как-то особенноживо чувствуется. Казалось бы, что общего между мной и этою случайновстреченною мной семьей, какое тайное звено может соединить нас друг сдругом! и между тем я несомненно сознавал присутствие этой связи, янесомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая, без ведома для меня самого, приобщает меня к первоначальным ивечно бьющим источникам народной жизни.
II
На дворе было еще темно, хотя свет, очевидно, готовился уже вступить вправа свои; мороз сделался как будто еще лютее прежнего; крепкий верховойветер сильно буровил здесь и там снежную равнину и, подняв целые столбыснега, направлял свой путь далее, с тем чтоб опять через минуту вернутьсяи, подняв новые снежные столбы, опять нестись куда-то далеко-далеко. Холоди ветер тем более были для меня ощутительны, что я ехал в открытых санях, потому что должен был, после необходимых объяснений с становым приставом, опять вернуться на станцию, где, вследствие всех этих соображений, я изаблагорассудил оставить свою повозку.
Вот и те три сосенки, о которых толковал мне старик; сквозь мутноеоблако частого, тонкого снега я видел только очертания их, но, вероятно, душа моя была слишком особенным образом настроена, что за плавнымпокачиванием широких их вершин мне именно слышалось, будто они жалуются иговорят о том, как надоела им эта долгая, почти бесконечная жизнь, какустали они от этих отвсюду вторгающихся ветров, которые беспрепятственно ибезнаказанно оскорбляют их, то обламывая самые крепкие их побеги, торазбрасывая мохнатые их ветви в какой-то тоскливой беспорядочности. Вот иозеро, которое подало мне о себе весть особенностью звука, издаваемогокопытами лошадей, и ветками, которые часто натыканы здесь по обеим сторонамдороги… Я глянул в даль, и, не знаю почему, там, на самом конце ее, представился мне становой пристав, в виде страшного, лохматого чудовища, ссемью головами, с длинными железными когтями и долгим огненным языком. Итак ясно и отчетливо мелькало передо мной это странное и, к счастию, совершенно невероятное видение, что мне стало жутко, и я поспешил плотнеезакутаться в шубу, чтоб не видать его кривляний.
Через полчаса я въезжал в огромное торговое село, в котором было многодомов совершенно городской постройки. В одном из них помещалась квартирастанового пристава, и я еще издали мог налюбоваться на множество огней, которые, очевидно, были зажжены на детской елке. Огни горели весело и, проходя сквозь обледенелые стекла окон, принимали самые изменчивые иразнообразные цвета.
Становой, или, как его обыкновенно зовут крестьяне, «барин», был дома. Звали его Ермолаем Петровичем, по фамилии Бондыревым; по наружности же былон мужчина дюжий, и вследствие того постоянно отдувался и дышал тяжело, словно запаленная лошадь. Лицо его, пухлое и отеклое, было покрыто слоемжирного вещества, который придавал его коже лоск почти зеркальный; огромнаяего лысина, по общему отзыву сослуживцев, имела свойство испускать из себяоблако тумана в следующих двух случаях: во время губернаторской ревизии, когда, как известно, сердечные движения в уездном чиновнике делаютсяособенно сильны и остры, и по выпитии двадцать пятой рюмки очищенной. Голосу него был сильный, густой бас, сопровождаемый легкою хрипотой, и выходилиз гортани как бы колом. К величайшему моему удивлению, это несоразмерноепреобладание материи нимало не тяготило его; вообще он был на службе легок, как пух, и когда исполнение служебных обязанностей требовало с его стороныуже слишком усиленной деятельности, то вся его досада проявлялась в томтолько, что он пыхтел и ругался пуще обыкновенного. Впрочем, он был, всущности, малый добродушный, и когда принимал благодарность, то всегдаговорил спасибо, и этим весьма льстил самолюбию доброхотных дателей.
– Милости просим побеседовать в комнату, ваше высокоблагородие! – сказал он, встретив меня в прихожей, – у меня нынче праздник, детки вотразвозились…
– А мне надо бы скорее ехать, – отвечал я не совсем впопад, все ещенаходясь под влиянием лохматого чудовища.
– Что же так-с? часом раньше, часом позже – дело не волк, в лес неуйдет-с. Заодно уж у нас покушаете, а после обеда и в путь-с. Мне ведь тожес вами надо будет отправляться, так если сейчас же и ехать, не будет ли ужочень это обидно? Ведь праздник-с…
Я остался и отчасти был даже доволен этой задержкой, потому что оченьустал с дороги. В комнате, в которую ввел меня Бондырев, было все егосемейство и сверх того еще несколько посторонних лиц, с которыми он, однакож, не заблагорассудил меня познакомить. Он только указал мне рукой надетей, сказав: "А вот и потроха мои!" – и затем насильственно усадил меняна диван. Из семейных были тут: жена Ермолая Петровича, бабочка летдвадцати пяти, которая была бы недурна собой, если бы не так усердномазалась свинцовыми белилами и не носила столь туго накрахмаленных юбок; мать ее, худенькая, повязанная платком старуха с фиолетовым носом, которуюБондырев, неизвестно почему, величал "вашим превосходительством", и четверодетей, которые основательностью своего телосложения напоминали ЕрмолаяПетровича и чуть ли даже, подобно ему, не похрипывали.
– Не угодно ли чаю с дороги? – спросила меня жена.
– Что чай! вот мы его высокоблагородие водочкой попросим, – отозвалсяБондырев, – я, ваше высокоблагородие, этой китайской травы в рот не беру – оттого и здоров-с.
– Вы из «губернии» изволите ехать? – обратилась ко мне старуха теща.
– Да, я недавно оттуда.
– Так-с. А как, я думаю, там теперича хорошо должно быть! Председательствующие, по случаю праздника, в соборе в мундирах стоят… самгенерал, чай, насупившись…
– Ну, пошла, ваше превосходительство, огород городить! – заметилБондырев, – ну, скажите на милость, зачем генералу насупившись стоять! чай, для праздника-то Христова и им бровки свои пораздвинуть можно!
– Ах, батюшка мой! насупившись стоит по той причине, что озабоченочень!.. обуза ведь не маленькая!
– А по мне, так всего лучше певчие… это восхитительно! – вступиласьжена, – при слабости нерв, даже слушать почти невозможно!
– Нет, вот на моей памяти бывали в соборе певчие – так это именно, чтовсех в слезы приводили! – перебила теща, – уж на что был в ту поругубернатор суровый человек, а и тот воздержаться никак не в силах был! Особливо был тут один черноватенький: запоет, бывало, сначалатихонько-тихонько, а потом и переливается, и переливается… даже словножурчит весь! Авдотья Степановна, второго диакона жена, сказывала, что емупо два дня есть ничего не давывали, чтоб голос чище был!
– Вот распроклятая-то жизнь! – молвил Ермолай Петрович, подмигнув мнеглазом, и потом, обращаясь к теще, прибавил. – А как посмотрю я на вашепревосходительство, так все-то у вас одни глупости да малодушества на уме.
Но ее превосходительство, должно быть, уж привыкла к подобнымапострофам, потому что, нимало не конфузясь, продолжала:
– Уж я, бывало, так и не дышу, словно туман у меня в глазах, как ониэто выводить-то зачнут! Да, такой уж у меня характер: коли перед глазами уменя что-нибудь божественное, так я, можно сказать, сама себя не помню…так это все там и колышется!
Мадам Болдырева глубоко и сосредоточенно вздохнула.
– Да, в деревне ничего этого не увидишь! – сказала она.
– Где увидать! – одни выходы у его превосходительства чего стоят! Всечиновники, бывало, в мундирах стоят, и каждому его превосходительство свойреприманд сделает! И пойдут это потом каждый день закуски да обеды – однихсвиней для колбас сколько в батальоне, при солдатской кухне, откармливали!
– Ну, это-то заведенье и доднесь, пожалуй, осталось – скорбеть об этомнечего! – флегматически объяснил Ермолай Петрович. – А что, вашевысокоблагородие, не угодно ли будет повторить от скуки? Водка у нас, осмелюсь вам доложить, отличная: сразу, что называется, ожжет, а потом ипойдет ползком по суставчикам… каждый изноет-с!
– Вот у моего покойника, – снова обратилась ко мне теща, – хорошуводку на стол подавали. Он только и говорит, бывало: "Лучше ничем меняоткупщик не почти, а водкой почти!"
– Ну, это опять неосновательно, – заметил Бондырев, – пословицагласит: пей, да ума не пропей, – стало быть, зачем же я из-за водки другиестатьи буду неглижировать?
– Да ведь и он, сударь, не неглижировал, а так только к слову этоговаривал. Он водку-то через куб, для крепости, переганивал…
– Ну, а ваши как дела? – спросил я Бондырева.
– Слава богу, ваше высокоблагородие, слава богу! дай бог здоровьядобрым начальникам, милостями не оставляют… ныне вот под суд отдали!
– Как так?
– Да просто-с. Чтой-то уж, ваше высокоблагородие, будто и не знаете?чай, и вы тут ручку приложили!
– В первый раз слышу.
– Что ж-с, и тут мудреного нет! известно, не читать же вашимвысокоблагородиям всего, что подписывать изволите!
– Скажите, по крайней мере, за что вы отданы под суд?
– А неизвестно-с. Оно конечно, довольно тут на справку вывели, ижизнь-то, кажется, наизнанку всю выворотили… одних неисполнительностейштук до полсотни подыскали – даже подивился я, откуда весь этот сорвыгребли. Да-с; тяжеленька-таки наша служба; губернское-то правление не точтоб, как мать, по-родительски тебе спустило, а пуще считает тебя, как бысказать, за подкидыша: ты, дескать, такой-сякой, все зараз сделать должен!
– По пословице, Ермолай Петрович, по пословице! – "Свекровь снохеговорила: сношенька, будет молоть; отдохни – потолки!"
Последние слова произнес неизвестный мне старик, стоявший до сих пор вуглу и не принимавший никакого участия в разговоре. По всему было видно, что этот новый собеседник принадлежал к числу тех жалких жертвпровинциального бюрократизма, которые, преждевременно созрев под сениюкрючкотворства, столь же преждевременно утрачивают душевные свои силы, вследствие неумеренного употребления водки, и затем на всю жизнь делаютсянеспособными ни к какому делу или занятию, требующему умственныхсоображений. Он был одет в вицмундир старинного покроя с узенькимифалдочками и до такой степени порыжелый, что даже самый опытный глаз не могбы угадать здесь признаков первобытного зеленого цвета. Но всегозамечательнее в этом человеке был необыкновенный грибовидный его нос, накотором, как на палитре сочетались всевозможные цвета, начиная отчисто-телесного и кончая самым темным яхонтовым. Нос этот, как послеоказалось, был источником горьких несчастий и глубоких разочарований длясвоего обладателя.
– Это жаль, однако ж, – сказал я Бондыреву, ощущая невольное угрызениесовести при виде человека, которого погибели я сам некоторым образомсодействовал.
– Ничего, ваше высокоблагородие! мы в уголовной-то словно в банькевыпаримся… еще бодрей после того будем!
– Это истинно так! – пояснил обладатель носа.
– А что, видно, и тебе горловину-то прочистить хочется? – обратился кнему Бондырев. – Ваше высокоблагородие! позвольте представить! Егор ПавловАбессаломов, служит у меня в вольнонаемных; проку-то от него, признаться, мало, так больше вот для забавы, для домашних-с держу… Театров у нас нет, так по крайности хоть он развлечет.
– Ну уж, нашли какую замену! – презрительно процедила жена.
– А что ж! по деревне, лучше и быть не надо! – продолжал ЕрмолайПетрович, – об ину пору он нас, ваше высокоблагородие, до слез мимикойсвоей смешит!
– Если его высокоблагородию не гнусно, так я и теперь своепредставление сделать могу! – отрекомендовался Абессаломов, выпрямляясь какбы пред наитием вдохновения.
– Прикажите, ваше высокоблагородие! Не чем так-то сидеть, так хоть надиковинки наши посмотрите… катай, Абессаломов!
– "Июля пятого числа"… – начал Абессаломов.
– Нет, стой! Не так рассказываешь! – прервал его Ермолай Петрович, – аты коли охотишься рассказывать, так рассказывай делом: и в позицию стань, иначало сделай! Развозов! марш сюда и ты!
Последние слова относились к молодому человеку, служившемуписьмоводителем у Бондырева. Как оказалось впоследствии, он должен был внекоторых местах подавать Абессаломову реплику, через что представлениюсообщалась особенная живость и вместе с тем усугублялся комизм. Очевидно, что кто-то (чуть ли даже не сам Бондырев) с любовью работал над этойпотехой, чтоб возвести ее от простого рассказа до степени драматическойпьесы.
Абессаломов стал в позицию, то есть выдвинул вперед одну ногу, правуюруку отставил наотмашь и, выпрямившись всем корпусом, голову закинулнесколько назад. Все присутствующие улыбались, а некоторые даже откровеннофыркали, заранее предвкушая предстоящее им наслаждение. Абессаломов начал:







