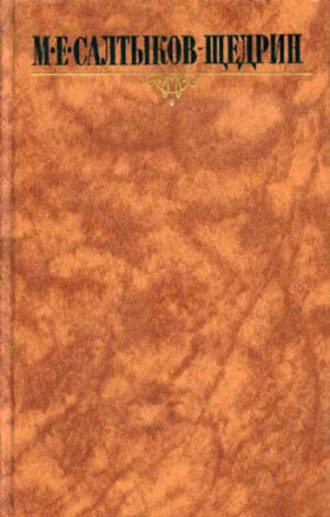
Михаил Салтыков-Щедрин
Невинные рассказы
– Итак, это дельце в архив можно сдать? – говорит Иван Фомич, веселопотирая руки.
– Как видно-с.
– Да-с; это, что называется…
– Всегда должно было ожидать.
– А ведь сначала-то оно было пошло… тово…
– Да, бойко, бойко было пошло.
– Политика – и больше ничего!
– Конечно, политика! Да оно и натурально, – продолжает ораторствоватьГолубчиков, – мы только тем и крепки, господа, что никогда никаких вредныхнововведений не принимали, а жили, с помощью божией, как завещали нампредки.
– Однако Петр Великий, ваше превосходительство?.. – учтиво замечаетГенералов.
– Ну что ж… хоть и Петр Великий! бороды сбрить приказать изволил – ибольше ничего!
– Регулярное войско завел-с! – диким голосом отзывается из отдаленногоугла батальонный командир, который упорно молчал, покуда, по его мнению, разговор касался гражданской части.
– Уж Петр Михайлыч не может утерпеть без того, чтоб за свою часть незаступиться! – говорит Иван Фомич, ласково подмигивая.
– В гражданскую часть не вступаюсь-с, а своего дела не упущу-с! – как-то особенно исправно скандует командир, как будто получает за этоблагодарность по корпусу.
– Ну что ж!.. хоть бы и регулярное войско! – не смущается Голубчиков, – это только для спокойствия – и больше ничего! Однако никаких этаких машинили, например, чтоб Иван назывался Матвеем, а Матвей Сидором (как нынче) – ничего этого не бывало!
– А нынче это бывает? – любознательно спрашивает Корепанов.
– Бывает-с, – холодно отвечает Голубчиков.
Нет сомнения, что размышления и соображения насчет величественногохода нашей истории могли бы завлечь нас довольно далеко, но появление милойхозяйки дома весьма естественно прерывает тонкую нить наших историческихразысканий. Анна Федоровна издревле пользуется репутацией любезности инеотразимой очаровательности. Еще в Казани, в доме своих родителей, она ужеумела быть самою приятною и самою занимательною изо всех туземных девиц, несмотря на то, что в этом городе, при помощи разных учебных заведений, уровень любезности вообще стоит довольно высоко. Потом, приняв к себе вкомпанию генерала Голубчикова, Анна Федоровна сделала с ним не столькоартистическое, сколько полезное путешествие по России, успела очароватьПермь, оставила отрадное впечатление в Рязани и овладела всеми сердцами вСимбирске. В настоящее время она председательствует в нашем городе, ипредседательствует с тем тактом, который ясно свидетельствует, что, и невыходя из министерства финансов, женщина может оставаться обворожительною. Хотя она является в нашем (мужском) обществе на минуту, тем не менее ниодного из нас не оставит без того, чтоб не подарить какою-нибудьлюбезностью, доказывая тем осязательно, что для умной женщины минута имеетне шестьдесят секунд, а столько, сколько ей захочется. Мне сказывали (незнаю, в какой степени это достоверно), что она даже секретаря своей палатыне оставляет без вопроса о здоровье жены и детей его в то время, когда этотдостойный муж, посидев с утренним визитом в кабинете егопревосходительства, с пустыми руками и красный как рак перебегает через залв прихожую.
– Вы, конечно, серьезными делами заняты, messieurs? – обращается она, окидывая всех нас ласковым взором.
– Нет, тряпками! – любезно отзывается генерал, который между дамаминашего общества пользуется репутацией милого гроньяра.
– Однако мужчины имеют о бедных женщинах самое обидное понятие! какбудто мы только и можем быть заняты что тряпками… – говорит генеральша, слегка вздыхая.
И затем, сделав каждому из нас приятный вопрос ("la sante de madameest toujours bonne?" или: "а у вашего Колечки уже прорезались зубки, ИванФомич?"), она удаляется, увлекши за собой во внутренние покои Корепанова, который, как человек молодой и холостой, может, конечно, принести большеудовольствия ее demoiselles, нежели нам.
После этого из внутренних покоев к нам высылается превосходносервированный чай с превкусными сдобными булками, причем генерал весьмаприветливо замечает: "Вот это так дамское дело… хозяйничать… чайразливать…"
– А ведь русский народ именно добрый народ! – говорит Иван Фомич, который, как любитель отечественной старины (он в свое время, служа вдепартаменте, целый архив в порядок привел), сгорает нетерпением навестиразговор на прежнюю тему.
– Кроткий народ! – подтверждает генерал Голубчиков.
– И терпелив-с! – отзывается командир.
– Н-да; этакой народ стоит того, чтоб о нем позаботиться! – говоритгенерал, и в глаза его внезапно закрадывается какое-то удивительноеблаженство, чуть-чуть лишь подернутое меланхолией, как будто он в ту жеминуту рад-радехонек был бы озаботиться, но это не от него зависит.
– В нынешнем году все пайки простил-с! – вмешивается командир.
– Все? – спрашивает Голубчиков, вконец побежденный таким великодушием.
– Решительно все-с!
– Какая, однако ж, похвальная черта!
– Желательно было бы, знаете, изучить его, – предлагает Иван Фомич.
– То есть в каком же это смысле?
– Ну там… нужды… желания…
– Гм… я, однако ж, не думаю, чтоб это могло принести ожидаемуюпользу.
– Почему же, ваше превосходительство?
– А потому, ваше превосходительство, что тут нет именно того, что мы, люди образованные, привыкли разуметь под именем нужд и желаний.
– Согласитесь, однако ж, что нужды и желания могут рождаться не толькосами по себе, но и посредством возбуждения, ваше превосходительство! Оставьте, например, меня в покое – ну, я, конечно, не буду иметь ни нужд, ни желаний, а предпиши-ка мне кто-нибудь: "Ты, любезный, обязан иметь нуждыи ощущать желания"… поверьте, ваше превосходительство, что те и другиеявятся непременно!
– Все это очень может быть, но позвольте один нескромный вопрос: лучшели будет?
– Если ваше превосходительство изволите рассматривать вопрос с этойточки зрения…
– Не видим ли мы примеров, что желания только отравляют жизньчеловека?
– Этого, конечно, нельзя отрицать-с…
– Не встречаем ли мы на каждом шагу, что те люди самые счастливые, укоторых желания ограниченны, а нужды не выходят из пределов благоразумия?
– Это все конечно-с…
– Следовательно, ваше превосходительство, на это дело надо взглянутьне с одной, а с различных точек зрения…
Иван Фомич соглашается безусловно, и разговор, по-видимому, истощается. Сознаюсь откровенно, мы не недовольны этим. Уже давнозаглядываемся мы на зеленые столы, расставленные в зале, а искреннийприятель мой, Никита Федорыч Птицын (званием помещик), еще полчаса томуназад, предварительно толкнув меня в бок, сказал мне по секрету: "Что зачушь несут наши генералы! давно бы пора за дело, а потом и водку пить!" Ихотя я в то время старался замять такой странный разговор, но внутренно – не смею в том не покаяться! – не мог не пожелать, чтобы Иван Фомич какможно скорее согласился с генералом и чтоб все эти серьезные дела былиотложены.
Но и на этот раз надеждам нашим не суждено сбыться, потому что едвалишь генерал открывает рот, чтоб сказать: "А не пора ли, господа, и задело?" – как двери с шумом отворяются, и в комнату влетает генерал Рылонов(в сущности, он не генерал, но мы его в шутку так прозвали), запыхавшийся иозабоченный.
– Слышали, ваше превосходительство? – обращается он к хозяину дома. – Шалимов в трубу вылетел!
– Съел Забулдыгин! – восклицаем мы хором.
– Скажите пожалуйста! – отделяется голос Голубчикова, – и так-таки безвсяких онёров?
– Безо всего-с; даже никуда не причислен-с.
– Что называется, умер без покаяния! – справедливо замечает ИванФомич.
Пехотный командир дико гогочет. Голубчиков долго не может прийти всебя от удивления и время от времени повторяет: "Скажите пожалуйста!"
– А ведь нельзя сказать, чтоб глупый человек был! – говорит Генералов.
– Ничего особенного, – возражает Рылонов.
– Все около свечки летал!
– А главное, то забавно, что свечку-то нашу сальную за солнцепринимал…
– Ан и обжег крылышки!
– Ах, господа, господа! Как знать, чего не знаешь! Как солнышка-тонет, так и сальную свечку поневоле за солнце примешь! – говорит Голубчиков, впадая, по случаю превратности судеб, в сугубую сентиментальность.
– Все, знаете, какого-то смысла искал…
– Даже в нашей канцелярской работе…
– Смешно слушать!
– Всех столоначальников с ног смотал!
– И что, например, за расчет был ссориться с Забулдыгиным? – продолжает Голубчиков, – решительно не могу понять! Я сам вот, как видите, не раз ему говорил: "Да плюньте вы на него, Николай Иваныч!" Так нет, кудатебе. "Плюнуть-то, говорит, я на него, пожалуй, плюну, только ведь ирастереть потом надо, ваше превосходительство!"
– Ан вот и растирай теперь!
– Грани теперь в Питере мостовую, покуда приличное место отыщешь…
– Это, как по-нашему говорится: cherche – замечает командир.
– А плюнул бы, так и все бы ладно!
– Оно конечно, ваше превосходительство, что лучше плюнуть, но ведь, сдругой стороны, и сердце иногда болит! – возражает статский советникГенералов.
– И ой-ой, еще как болит! – развивает Иван Фомич.
– И все-таки плюнуть! – упорствует Голубчиков, – да помилуйте, господа, что ж это за ребячество! Ну, вы представьте себе, например, меня: ну, иду я по улице и встречаю на пути своем неприличную кучу… Неужели ястану огрызаться на нее за то, что она на пути моем легла? нет, я плюну нанее и, плюнувши, осторожно обойду.
– Нет-с, ваше превосходительство, я насчет этого не могу пристать квашему мнению, – возражает Иван Фомич, – конечно, на кучу, так сказать, неодушевленную и, следовательно, не своим произволом накиданную, сердитьсясмешно, но в овраг ее свалить все-таки следует-с.
– А если овраг уж завален?
– И, ваше превосходительство! в губернском городе чтоб не нашлосьместа для нечистот! – да это боже упаси!
– А я все-таки продолжаю утверждать, что следует плюнуть, и большеничего!
– Нет, вы мне объясните, за что они передрались? – спрашиваетГенералов.
– Да верно ли это?
– Ты, генерал, не соврал ли?
– Ведь ты, ваше превосходительство, здоров врать-то!
– Помилуйте-с, сейчас из клуба-с; Забулдыгин сам всем рассказывает!
– Чай, шампанское на радостях лакает?
– Не без того-с.
– Ну, значит, крупно наябедничал!
– А жаль молодого человека. Еще намеднись говорил я ему: "Плюньте, Николай Иваныч!" – так нет же!
Для объяснения этой сцены считаю не излишним сказать несколько слов оШалимове и Забулдыгине.
Шалимова мы вообще не любили. Человек этот, будучи поставлен природоюв равные к нам отношения, постоянно предъявлял наклонности странные и дажеотчасти подлые. Дружелюбный с низшим сортом людей, он был самонадеян и дажезаносчив с равными и высшими. К красотам природы был равнодушен, а кчеловеческим слабостям предосудительно строг. Глумился над пристрастиемгенерала Голубчикова к женскому полу, хотя всякий благомыслящий гражданиндолжен понимать, что человек его лет (то есть преклонных), и притом имеющийхорошие средства, не может без сего обойтись. Действия Забулдыгина порицалоткрыто и (что всего важнее) позволял себе разные колкости насчет егодействительно не соответствующего своему назначению носа. Вообще же виделпредметы как бы наизнанку и походил на человека, который, не воздвигнув ещенового здания, желает подкопаться под старое. Желание тем более пагубное, что в последнее время уже неоднократно являлись примеры исполнения его. Следовательно, удаление такого человека должно было не огорчить, нообрадовать нас. И думаю, что принесенное Рылоновым известие произвелоименно подобного рода действие; хотя же генерал Голубчиков и заявил приэтом некоторое сожаление, но должно полагать, что это сделано имединственно по чувству христианского человеколюбия.
Что же касается Забулдыгина, то человек этот представляет некоторыйпсихический ребус, доселе остающийся неразгаданным. По-видимому, и вмнениях о природе вещей он с нами не разнствует, и на откупа смотрит сразумной точки зрения, и в гражданских доблестях никому не уступит; тем неменее есть в нем нечто такое, что заставляет нас избегать искренних к немуотношений. Это «нечто» есть странный некий административный лай, который, как бы независимо от него самого, природою в него вложен. Иной раз он, видимо, приласкать человека хочет, но вдруг как бы чем-либо поперхнется и, вместо ласки, поднимет столь озлобленный лай, что даже вчуже слышатьбольно. Такие люди бывают. Иной даже свой собственный нос в зеркале увидити тут же думает: "А славно было бы, кабы этот поганый нос откусить илиотрезать!" Но если он о своем носе так помышляет, то как мало должен пещисьо носах, ему не принадлежащих! Очевидно, сии последние не могут озабочиватьего нисколько. Многие полагают, что озлобление Забулдыгина происходитчастью от причин гастрических (пьянства и обжорства), частью же отогорчения, ибо, надо сказать правду, Забулдыгин немало-таки потасовок вжизни претерпел. Но нам от этого не легче, потому что лай Забулдыгина нетолько на Шалимова с компанией, но и на всех нас без различия простирается, хотя с нашей стороны, кроме уважения к отеческим преданиям и соблюденияиздревле установленных в палатах обрядов, ничего противоестественного илипасквильного не допускается. А потому в сем отношении поступки Забулдыгиная ни с чем другим сравнить не умею, кроме злобы ограниченной от породышавки, лающей на собственный свой хвост, в котором, от ее же неопрятности, завелись различные насекомые.
Пора, однако ж, кончить с Шалимовым и Забулдыгиным, воспоминание окоторых отравляет приятные часы нашего существования. Уже давно ждут насгостеприимные зеленые столы, и генерал Голубчиков с любезной улыбкойостанавливается перед каждым из нас, предлагая по карточке. В продолжениепоследующих двух часов со всех сторон раздаются лишь веселые возгласы, имогу сказать смело, что даже проигрыш денег, обыкновенно располагающийчеловека к скорби и унынию, не нарушает общего приятного настроения духа.
В особенности отличается пехотный командир, который за картами хочетвознаградить себя за несколько часов тягостного молчания, наложенного им насебя в продолжение вечера.
– Греческий человек Трефандос! – восклицает он, выходя с треф.
Мы все хохочем, хотя Трефандос этот является на сцену аккуратно каждыйраз, как мы садимся играть в карты, а это случается едва ли не всякийвечер.
– Фики! – продолжает командир, выходя с пиковой масти.
– Ой, да перестань же, пострел! – говорит генерал Голубчиков, покатываясь со смеху, – ведь этак я всю игру с тобой перепутаю.
Таким образом мы приятно проводим остальную часть вечера, вплоть досамого ужина.
Кто что ни говори, а карты для служащего человека вещь совершеннонеобходимая. День-то-деньской слоняясь по правлениям да по палатам, поневоле умаешься и захочешь отдохнуть. А какое отдохновение может бытьприличнее карт для служащего человека? Вино пить – непристойно; книжкичитать – скучно, да пишут нынче все какие-то безнравственности; разговоромпостоянно заниматься – и нельзя, да и материю не скоро отыщешь; с дамамилюбезничать – для этого в наши лета простор требуется; на молодых утешаться– утешенья-то мало видишь, а все больше озорство одно… Словом сказать, везде как будто пустыня. А карты – святое дело! За картами и время скорееуходит, и сердцу волю даешь, да и не проболтаешься. Иной раз и чешется языкчто-нибудь лишнее сказать, ан тут десять без козырей соседу придет – ну ипромолчишь поневоле. Нет, карты именно благодетельная для общества вещь – это не я один скажу.
Но вот и ужин. Кушанья подаются не роскошные, но сытные и здоровые. Подкрепивши себя рюмкой водки, мы весело садимся за стол и с новой силойвозобновляем прерванную преферансом беседу. Вспоминается милое староевремя, вспоминаются молодые годы и сопровождавшие их канцелярские проказы, вспоминаются добрые начальники, охранители нашей юности и благодетели нашейстарости, – и быстро летят часы и минуты под наплывом этих веселыхвоспоминаний!
Так проводим мы свободные от служебных занятий часы, и могу сказать посовести, что наступающий затем сумрак ночи не вызывает за собой никакихвидений, которые могли бы возмутить наш душевный покой. И в самом деле, перелистывая книгу моей жизни (книгу, для многих столь горькую), я нахожу вней лишь следующее:
Такого-то числа, встал, умылся, помолился богу, был в палате, гдепользовался правами и преимуществами, предоставленными мне законом идревними обычаями родины; обедал, после обеда отдыхал, вечер же провел вбезобидных для ближнего разговорах и увеселениях.
Такого-то числа, встал, умылся, помолился богу, был в палате и т. д.,то есть одно и то же ровно столько раз, сколько по благости провидения, суждено будет прожить мне дней в земной сей юдоли.
ДЕРЕВЕНСКАЯ ТИШЬ
Утро. Кондратий Трифоныч Сидоров спал ночь скверно и в величайшейтоске слоняется по опустелым комнатам деревенского своего дома. Комнатцелый длинный ряд, и слоняться есть где; некогда он гордился этим рядомзал, гостиных, диванных и проч. и даже называл его анфиладою, произнося ннесколько в нос; теперь он относился к анфиладе иронически и, принимаягостей, говорит просто: «А вот и сараи мои!»
На дворе зима и стужа; в комнатах свежо, окна слегка запушило снегом; вид из этих окон неудовлетворительный: земля покрыта белой пеленою, речкаскована, людские избы занесло сугробами, деревня представляется издаликакою-то безобразною кучею почерневшей соломы… бело, голо и скучно!
Походит-походит Кондратий Трифоныч – и остановится. Иногда потрет себеладонью по животу и слегка постонет, иногда подойдет к окну и побарабанит встекло. Вон по дороге едут в одиночку сани, в санях завалился мужик; проезжает мимо барского дома и шапки не ломает.
– "Ладно!" – думает Кондратий Трифоныч.
И опять начинает ходить по своим сараям, и опять остановится. Посмотрит на сапоги, просторно ли они сидят на ноге, вытянет ногу, чтобудостовериться, крепко ли штрипки пришиты и не морщат ли брюки.
– Ванька! квасу! – кричит Кондратий Трифоныч.
Ванька бежит из лакейской и подает на подносе стакан с пенящимсяквасом. Но Кондратию Трифонычу кажется, что он не подает, а сует.
– Что ты суешь? что ты мне суешь? – вскидывается он на Ваньку.
– Ничего я не сую! – отвечает Ванька.
"Ладно!" – думает Кондратий Трифоныч.
И опять начинается ходьба. Кондратий Трифоныч останавливается передстенными часами и пристально смотрит на циферблат, посредине циферблатакрупными буквами изображено: London, а внизу более мелким шрифтом: Nossoffa Moscou. Все это он сто раз видел, над всем этим сто раз острил, но онвсе-таки смотрит, как будто хочет выжать из надписи какую-то новую, неслыханную еще остроту. Часы стучат мерно и однообразно: тик-так, тик-так;Кондратий Трифоныч вторит им: "тикё-такё, тикё-такё", притоптывая в тактногою. Наконец и это прискучивает; он снова подходит к окну и начинаетвглядываться в деревню. Оттуда не слышно ни единого звука; только серыедымки вьются над хижинами добрых поселян. Кондратию Трифонычу, неизвестно счего, приходит на мысль слово «антагонизм», и он начинает петь: "Антагонизм! антагонизм!", выговаривая букву н в нос. Все это заканчиваетсясвистом, на который опять вбегает Ванька.
– Ты что на меня глаза вытаращил? – напускается на него КондратийТрифоныч.
– Ничего я не вытаращил! – отвечает Ванька.
– Ладно! – говорит Кондратий Трифоныч, – пошел, позови Агашку!
Через минуту является Ванька и докладывает, что Агашка не идет.
– Почему ж она не идет?
– Говорит: не пойду!
– Только и говорит?
– Только и говорит!
– Ладно!
В голове Кондратия Трифоныча зреет мысль: он решается все терпеть, всевыносить до приезда станового. Поэтому, хотя внутри у него и кипит, но онэтого не выражает; он даже никому не возражает, а только думает про себя: "Ладно!" – и помалчивает… до приезда станового.
Не дальше как вчера на ночь Ванька снимал с него сапоги и вдруг ни стого ни с сего прыснул.
– Ты чему, шельма, смеешься? – полюбопытствовал Кондратий Трифоныч.
– Ничего я не смеюсь! – отвечал Ванька.
– Этакая бестия! смеется, да тут же в глаза еще запирается!
– Чего мне запираться? кабы смеялся, так бы и сказал, что смеялся! – упорствовал Ванька.
– Ладно!
С этих пор в нем засела мысль, с этих пор он решился терпеть. Однотолько смущает его: все свои грубости Ванька производит наедине, то естьтогда, когда находится с Кондратьем Трифонычем с глазу на глаз. ВыйдетКондратий Трифоныч на улицу – Ванька бежит впереди, снег разгребает, спрашивает, не озябли ли ножки; придет к Кондратию Трифонычу староста – Ванька то и дело просовывает в дверь свою голову и спрашивает, не угодно ликвасу.
– Услуга-парень! – замечает староста.
– Гм… да… услуга! – бормочет Кондратий Трифоныч и обдумываеткакой-то план.
Он считает обиды, понесенные им от Ваньки, и думает, как бы такимобразом его уличить, чтоб и отвертеться было нельзя. Намеднись, например, Ванька, подавая барину чаю, скорчил рожу; если бы можно было устроить, чтобэта рожа так и застыла до приезда станового, тогда было бы неоспоримо, чтоВанька грубил. В другой раз на вопрос барина, какова на дворе погода, Ванька отвечал: "Сиверко-с", – но отвечал это таким тоном, что если быможно было, чтоб тон этот застыл в воздухе до приезда станового, то, конечно, никто бы не усумнился, что Ванька грубил. И еще раз, когда бариноднажды делал Ваньке реприманд по поводу нерачительно вычищенных сапогов, то Ванька, ничего не отвечая, отставил ногу; если бы можно было, чтоб онтак и застыл в этой позе до приезда станового, тогда, разумеется…
– Нет, хитер бестия! ничего с ним не поделаешь! – восклицает КондратийТрифоныч и ходит, и ходит по своим сараям, ходит до того, что и пол-тословно жалуется и стонет под ногами его: да сядь же ты, ради Христа!
Он уже давно заметил, что между ним и Ванькой поселилась какая-тохолодность, какая-то натянутость отношений. Услышавши, что об этом предметевесьма подробно объясняется в книжке, называемой "Русский вестник", онсъездил к соседу, взял у него книжку и узнал, что подобная натянутостьотношений называется сословным антагонизмом.
– Ну, а дальше что? – допрашивал Кондратий Трифоныч, но книжкаговорила только, что об этом предмете подробнее объясняется в другой такойже книжке.
– Оно конечно, – рассуждал по этому поводу Кондратий Трифоныч, – оноконечно… Ванька сапоги чистит, а я их надеваю, Ванька печки топит, а яоколо них греюсь… ну да, это оно!
И с тех пор слово «антагонизм» до такой степени врезалось в егопамять, что он не только положил его на музыку, но даже употребляет длявыражения всякого рода чувств и мыслей.
И ходит Кондратий Трифоныч по своим опустелым сараям, ходит иостанавливается, ходит и мечтает. Мало-помалу мысль его оставляетВаньку-подлеца и обращается к другим предметам. Он думает о том, что вдругбудущим летом во всех окрестных имениях засуха, а у него у одного всёдожди, всё дожди: что окрестные помещики не соберут и на семена, а он всесам-десят, все сам-десят. Он думает о том, что кругом все тихо, а у него вимении вдруг землетрясение! слышится подземный шум, люди в смятении, животные в ужасе… вдруг – вв!.. зз!.. жж!.. и, о радость, на том самомместе, где у него рос паршивый кустарник, в одну минуту вырастает высокий ичастый лес, за который ему с первого слова дают по двести рублей задесятину. Он думает о том, что мужики его расторговались, что они помнятего благодеяния и подносят ему соболью шубу в пятнадцать тысяч рублейсеребром. Он думает о том, что в Москве сгорело все сено, сгорели все дроваи неизвестно куда девался весь хлеб, что у него, напротив того, вследствиесобственной благоразумной экономии, а также вследствие различных поощренийприроды, всего этого накопилось множество, что он возит и продает, возит ипродает… Он думает о том, что вышло повеление ни у кого ничего непокупать, кроме как у него, Сидорова, за то, что он, Сидоров, в такую-тодостопамятную годину пожертвовал из крестьянского запасного магазинастолько-то четвертей, да потом еще столько-то четвертей, и тем показалревность беспримерную и чувствительность, подражания достойную… Он думаето том, что в доме его собрались окрестные помещики и что он им толкует опревосходстве вольнонаемного труда над крепостным. "Конечно, господа, – говорит он им, – в настоящее время помещик не может получать дохода, сидяна месте сложа руки, как это бывало прежде; конечно, он прежде всего долженупотребить свой личный труд, свою личную, так сказать, распорядительность"…
Но вот мысли его от усиленной работы начинают мешаться. Перед глазамиего от беспрерывного коловратного движения показываются зеленые круги; белая колокольня, стоящая перед барским домом, начинает словноподплясывать; дворовая баба, проходящая по двору, словно не идет, а наодном месте пошатывается, и что-то у ней под фартуком, что-то у ней подфартуком…
– Есть, что ли, мне хочется? – спрашивает сам себя Кондратий Трифонычи с злобою замечает, что часовая стрелка показывает только десять.
– А ведь у ней под фартуком что-то есть, – продолжает он, но не даетсвоим предположениям дальнейшего развития, а только прибавляет: – Ладно!
Надоело ходить, надоело мыслить… Кондратий Трифоныч садится на дивани примечает, что пыль со стола не сметена. В былое время, то есть до" антагонизма", он вскипел бы при виде такого беспорядка, он кликнул быВаньку и тут же задал бы ему трепку. Теперь этот беспорядок приносит емуболее удовольствия, нежели огорчения, ибо он видит в нем улику.
– Ванька! – кричит Кондратий Трифоныч, и в голосе его слышится ужеторжество победы, – это что?
– Стол-с, – отвечает Ванька с самым невозмутимым хладнокровием.
– А на столе что?
– Пыль-с.
– Ну?
Ванька молчит.
– Ладно! – говорит Кондратий Трифоныч и через минуту имеетудовольствие слышать, как Ванька хихикает с кем-то в передней.
Кондратий Трифоныч снова предается мечтаниям. Он мечтает о том, какбыло бы хорошо, если бы он был живописцем; тогда бы он срисовал бынахальную Ванькину рожу в тот момент, когда он отвечает: "Пыль-с", – ипредставил бы эту картинку становому. Но с другой стороны, где жеручательство, что становой не примет этой картинки за вымышленноепроизведение собственной его, Кондратия Трифоныча, фантазии? где свидетели, которые подтверждали бы, что Ванька, отвечая: «Пыль-с», имел именно такое, а не иное выражение лица?
– О, черт побери! Эти приказные вечно с своими канцелярскимизакавычками! – восклицает Кондратий Трифоныч и начинает выискивать мечтанийболее практических.
Он мечтает о том, как было бы хорошо, если бы становой вдруг в этусамую минуту вырос из земли, так чтоб Ванька не опомнился и никак не успелстереть пыль со стола. Представляет он себе изумленную, ополоумевшую мордуВаньки и невольно и сладко хихикает.
– "Пыль-с", – дразнит он Ваньку, почти подплясывая на месте.
– Это что? – грозно спрашивает Ваньку воображаемый становой.
– "Пыль-с", – опять дразнится Кондратий Трифоныч и опять подплясываетна месте.
Становой наконец убеждается; он приказывает срубить целую березу ивручает ее десятским. Ваньку уводят… На другое утро Ванька являетсяшелковый; целый день все что-то чистит и стирает; целый день метет пол иоправляет баринову постель, целый день ставит самовары и мешает в печкахдрова…
Но с другой стороны (о, черт возьми!), где же ручательство, чтостановой именно велит березу срубить? Где ручательство, что он не ответитКондратью Трифонычу, что он и сам мог бы стереть пыль со стола?
– О, черт побери! эти приказные вечно с своими канцелярскимизакавычками! – восклицает Кондратий Трифоныч и начинает выискивать мечтанийеще более практических.
Он мечтает, что никаких закавычек больше нет, что он призываетстанового (который нарочно тут и стоит, чтоб закавычек не было) и говоритему: "Ванька мне мину сделал!"
– Сейчас-с, – говорит становой и летит во весь дух распорядиться.
Потом он опять призывает станового и говорит ему: "Ванька пыли состола не стер!"
– Сейчас-с, – говорит становой и летит распорядиться.
Но вот и опять мысли мешаются, опять образуются зеленые круги, опятьподплясывает белая длинная колокольня. Надоело сидеть, надоело мыслить…
– Черт знает, есть, что ли, мне хочется? – опять спрашивает себяКондратий Трифоныч и с тоскою взглядывает на часы. Тоска обращается вненависть, потому что часовая стрелка показывает половину одиннадцатого.
– За попом, что ли, спосылать? – рассуждает сам с собой КондратийТрифоныч и тут же решает, что спосылать необходимо.
Кондратий Трифоныч малый незлой и даже покладистый для своихдомочадцев, но с некоторого времени нрав у него странным образомпеременился. Ванька, с свойственною ему легкомысленностью, отзывался обэтой перемене, что Кондратий Трифоныч спятил; ключница Мавра выражаласьскромнее и говорила, что барин задумывается, что на него находит. Как бы тони было, но перемена существовала и произошла едва ли не в ту самую минуту, как он прочитал, что есть на свете какой-то сословный антагонизм. С техсамых пор он вообразил себе, что он – одна сторона, а Ванька – другаясторона и что они должны бороться. Ванька представлял собою интересы всехчистящих сапоги и топящих печки, Кондратий Трифоныч – интересы всех носящихсапоги и греющихся около истопленных печей. Ясно, что стороны эти не могутпонимать друг друга и что из этого должен произойти антагонизм. И вот онборется утром, борется за обедом, борется до поздней ночи. Но Ванька непонимает, что такое антагонизм, и, очевидно, уклоняется от борьбы. Оннаправляет свои обязанности по-прежнему, то есть по-прежнему не стираетпыли со столов, по-прежнему забывает закрыть трубы в печах, а КондратийТрифоныч видит во всем грубые мины, злостные позы a la неглиже с отвагой истарается Ваньку изобличить. Из этого выходит, что Ванька, как толькозабьется в переднюю, первым делом начинает хихикать и представляет, какбарин к нему пристает. Кондратий Трифоныч слышит это и говорит: "Ишь, шельма, смеется!", а того никак понять не хочет, что Ванька даже и неподозревает, что ему, Кондратию Трифонычу, хочется борьбы. И таким образомумаявшись к вечеру, оба засыпают; Кондратий Трифоныч видит во сне, что онсделался медведем, что он смял Ваньку под себя и торжествует; Ванька видитво сне, что он третьи сутки все чистит один и тот же сапог и никак-такивычистить не может.
– Что за чудо! – кричит он во сне и как оглашенный вскакивает с одрасвоего.
"Ишь ведь каналья, даже во сне не оставляет в покое!" – думает в этовремя Кондратий Трифоныч, пробужденный неестественным криком Ваньки.
И таким образом проходят дни за днями. Выигрывает от этогоположительно один Кондратий Трифоныч, потому что такое препровождениевремени, по крайней мере, наполняет пустые дни его. С тех пор как завелось" превосходство вольнонаемного труда над обязательным", с тех пор как, сдругой стороны, опекунский совет закрыл гостеприимные свои двери, глуповские веси уныли и запустели. Заниматься решительно нечем, да и не длячего: все равно ничего не выйдет. Говорят, будто это оттого происходит, чтокредиту нет и что Сидорычам подняться нечем; может быть, жалоба эта исправедлива, однако до Сидорычей ни в каком случае относиться не может. Недостаток кредита не губит, а спасает их, потому что, будь у них деньги, они накупили бы себе собак, а не то чтоб что-нибудь для души полезноесделать. А то еще подниматься! Повторяю: веси приуныли и запустели; в весяхделать нечего, потому что все равно ничего не выйдет. То, что оживляло их вбывалые времена, как-то: взаимные банкеты и угощения, а также распоряженияна конюшне, то в настоящее время не может уже иметь места: первые – попричине недостатка кредита, вторые – потому что не дозволены. Каким жеобразом убить, как издержать распроклятые дни свои? Поневоле ухватишься заантагонизм, хотя в сущности, никакого антагонизма нет и не бывало, а было иесть одно: "Вы наши кормильцы, а мы ваши дети!" Вот и Кондратий Трифонычухватился за антагонизм, и хотя он не сознается в этом, но все-таки жизньего с тех пор потекла как-то полнее. По крайней мере, теперь у него естьполитический интерес, есть политический враг, Ванька, против которого оннаправляет всю деятельность своих умственных способностей. Смотришь, андень-то и канул незаметным образом в вечность, а там и другой наступил, идругой канул…







