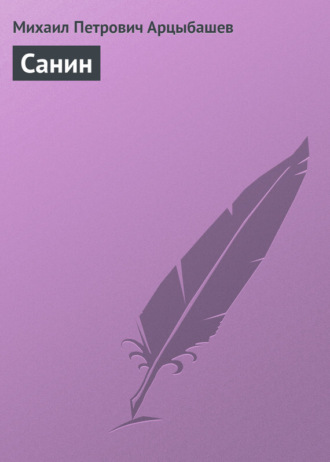
Михаил Петрович Арцыбашев
Санин
XLI
В этот день Юрий встал поздно, в гнетущем расположении духа, с дурным вкусом во рту и с тонкой сверлящей болью в висках. Сначала он ничего не мог вспомнить, кроме крика, звона стекла, бледных огней и странного для пьяных одуревших глаз ясного и прозрачного света утра. Потом припомнил, как Шафров и Петр Ильич, пошатываясь и бормоча хрюкающие звуки, ушли в номер спать, а он и страшно бледный от выпитой водки, но твердый, как всегда, Иванов еще долго оставались на балконе, не обращая внимания на солнечное утро, голубое вверху и зеленое внизу – на лугах и сверкающей белым золотом реке.
Они спорили, и Иванов с торжеством доказывал Юрию, что такие люди, как он, никуда не годятся; что они не смеют взять от жизни то, что им принадлежит, и что самое лучшее им погибнуть без следа и семени. Он с непонятной злорадностью повторял фразу Петра Ильича: «Таких людей я остерегаюсь называть людьми», – и дико смеялся, точно топил Юрия. А Юрий почему-то не обижался и слушал, возражая только на обвинение в скудности переживаний, говоря, что, напротив, именно у таких людей жизнь особенно тонка и сложна, но что, правда, им лучше погибнуть. И Юрию было нестерпимо грустно, хотелось плакать и каяться. Он со стыдом припомнил, что как будто пытался каяться и все ходил вокруг и около эпизода с Карсавиной, чуть-чуть не бросив эту чистую, милую девушку под ноги торжествующему грубому человеку. Но Иванов был так пьян, что, кажется, ничего не заметил, и Юрию ужасно хотелось теперь верить, что это – так.
Иванов, вопя без причины, ушел на двор, и вдруг все куда-то исчезло. Стало необычайно пусто, и Юрий остался совершенно один. Зрение его было сужено пьяным туманом, и перед ним качалась только грязная залитая скатерть, хвостики обгрызанной редиски и стаканы с окурками и сгустками пива. Юрий сидел, опустив голову, качался и чувствовал себя человеком, оставленным всем миром.
Потом вернулся Иванов, и вместо с ним пришел где-то пропадавший Санин. Он был весел, шумен и совершенно трезв, и как-то странно, не то чересчур ласково, не то насмешливо, смотрел на Юрия. Дальше в воспоминаниях было белое пустое пятно, а потом Юрий припомнил лодку, воду, какой-то никогда не виданный молочно-розовый туман. Они ехали по холодной прозрачной воде, шли по ровному песку, освещенному солнцем как будто откуда-то снизу. Остро болела голова и тошнило.
«Черт знает, какая гадость! – подумал Юрий. – Недоставало еще пьянства…»
И, брезгливо стряхнув все эти воспоминания, как грязь, налипшую на ноги, Юрий начал углубленно продумывать то, что произошло в лесу.
В первое мгновение перед ним встал этот необыкновенный, таинственный лес, – глубокий, неподвижный мрак под деревьями, странный свет месяца, белое холодноватое тело женщины, ее закрытые глаза, одуряющий тягучий запах, жгучее желание, доходящее до бешенства.
Воспоминание наполнило все его тело томной и сладострастной дрожью, но что-то испуганно кольнуло в висок, сжало сердце, и чересчур подробно вспомнилась та растерянная безобразная сцена, когда он без всякого желания валил девушку на траву, а она не хотела, толкалась, вырывалась, и он видел, что уже не может и не хочет, а все-таки лез на нее.
Юрий содрогнулся от стыда и ощутил даже свет дня. Ему захотелось уйти во тьму, закопаться в землю, чтобы и самому не видеть своего позора. Но через мгновение, как это ни было трудно, Юрий уверил себя, что омерзительно было не то, что он испортил и обезобразил могучий порыв страсти, а то, что на минуту был близок к сближению с девушкой.
Страшным, почти физическим усилием, похожим на то, как если бы он поборол человека, во много раз сильнее его, Юрий повернул свое чувство и увидел, что поступил так, как и надо было.
«Было бы подло, если бы я воспользовался ее порывом!»
Но перед ним возник новый и еще более мучительный вопрос: «Что делать дальше?»
И среди хаоса разноречивых мыслей и желаний выкристаллизовалось одно: «Надо порвать все!.. Овладеть ею, потешиться и бросить я не могу, я не такой человек и слишком близко чувствую чужие страдания, чтобы самому причинять их. А жениться?..»
Необыкновенной пошлостью прозвучало для Юрия даже слово это. Он, Юрий, с его необыкновенной, совершенно особенной организацией, вечно колеблющейся на гранях великих мыслей и великих страданий, не может создать себе мещанское счастье, с женой, детьми и хозяйством. Юрий даже покраснел, как будто кто-то оскорбил его самой мыслью о возможности в нем хотя бы мгновенного предположения о таком исходе. «Значит, оттолкнуть ее, уйти?»
Как величайшее счастье, безвозвратно уходящее, как потеря самой жизни, мелькнул перед ним отдаляющийся образ девушки. Как будто отказываясь от нее, он вырывал ее из самого сердца, и за нею тянулись кровавые жилы, обрываясь со смертельными кровоточащими ранами. Все потемнело кругом, на душе стало пусто и тяжко, и даже самое тело как будто ослабело.
«Но ведь я ее люблю! – с последним взрывом мучительного недоумения мысленно закричал себе Юрий. – Как же может быть, чтобы я сам так и порвал свое собственное счастье!.. Это нелепо, безобразно!»
«А что же?.. Жениться?»
И опять, устыдившись возможности даже мысли об этом, Юрий погрузился в мучительную и недоумелую тоску. Самое солнце перестал он видеть, перестал сознавать свою жизнь, потерял охоту видеть и слышать. И, стараясь хоть не думать больше об этом, Юрий сел к столу и стал читать на днях написанное им подражание Экклезиасту:
«В мире нет ни доброго, ни злого».
«Иные говорят: что естественно – то добро, и человек прав в желаниях своих».
«Но это ложь, ибо все естественно, ничто не рождается из мрака и пустоты, но имеет одно начало».
«Так говорят другие: то – добро, что от Бога, но это ложь, ибо если есть Бог, то все от него, даже богохульство».
«Говорят третьи: то добро, что творит доброе людям. Но есть ли такое? Что добро одному, то зло другому: рабу добро – его свобода, господину – рабство раба; богатому – в сохранении благ его, бедному – чтобы погиб богатый; отверженному – чтобы покорить, отвергающему – чтобы не покориться; нелюбимому – чтобы полюбила его, счастливому – чтобы отвергла всех, кроме него; живущему – чтобы не умирать, рождающемуся – чтобы умерли и очистили ему место под солнцем; человеку – в гибели зверей, зверям – в гибели человека… И так все, и так от века и до края веков, и никто перед другим не имеет права на доброе одному ему».
«Вот принято между людьми, что творить добро и любовь лучше, чем творить зло и ненависть Но это скрыто: ибо если есть возмездие, то лучше человеку творить добро и себя принести в жертву, а если нет его, то лучше взять свою долю под солнцем».
«Вот еще пример лжи, что в людях: вот живет некто, отравляющий свою жизнь для других. И говорят ему: дух твой переживет тебя, ибо сохранится в делах людей, как вечное семя. Но это ложь, ибо знают, что в цепи времен равно живет дух творчества и дух разрушения, и неведомо, что восстанет и что распадется».
«Вот еще: думают люди о том, как будут жить после них, и говорят себе, что это хорошо и дети их пожнут плоды их. Но не знаем, что будет после нас, и не можем вообразить те тьмы тем, что будут идти по стезям нашим. И не можем их любить или ненавидеть, как не можем любить и ненавидеть тех, что были раньше нас. Оборвана связь между временами».
«Так говорят: уравняем людей перед источником радости и горя и одною мерою воздадим всем. Но ни один человек не может воспринять радости и горя, боли и наслаждения больших, чем он сам, и когда доля людей не равна – они не равны, и когда уравнена мера их, не уравняются сердца их вовек».
«Так говорит гордость: великие и малые!»
«Но каждый человек – восход и закат, вершина и пропасть, атом и мир».
«Вот говорят: велик ум человеческий! Но ложь это, ибо ограничено зрение – и не видит человек ни безумия, ни разума своего в беспредельной вселенной, где разум и безумие растекаются, как жидкий воздух».
«Что знает человек?»
«И Адам знал, как есть и пить ему и во что одеться, по потребности его и семя свое сохранил; и мы знаем то же и сохраним семя свое в будущее. Но Адам не знал, что сделать ему, чтобы не умирать и не бояться, и мы не знаем этого. Много придумано знаний, но не придумано жизни и счастья, чтобы наполнить их».
«Человек от обуви до короны во всем имел цель спасти тело свое от боли и смерти. И вот видим: не простою ли палкой Каин поверг Авеля и не тою ли же палкою можно уничтожить первого из людей, стоящего на последней ступени познания? Не дольше ли всех жил Мафусаил, но и он умер: не счастливее ли всех был Иов, но и его съедала скорбь: и не всякий ли из людей, испытав в жизни своей столько счастия и горя, сколько поднимут плечи его, умрет тою же смертью, что и праотец его… Теперь, когда люди венчают богов знания, и вопиют, и похваляются!»
«Равно пожирают черви!»
Холодное чувство проползло по спине Юрия, и видение белых червей, копошащихся толстым слоем над всею землею от края и до края ее, потрясло его. Необычайно значительным показалось ему то, что он написал.
– А ведь это все так! – молотом стукнуло в душе его, и горделивое чувство творчества смешалось с острым приливом тоски.
Он отошел к окну и долго бесцельно смотрел в сад, где слоем желтых и красных листьев уже золотились дорожки, а вновь умершие листья, тихо кружась в воздухе, беззвучно падали вниз. Мертвые желтые краски ложились повсюду, умирали листья, умирали миллиарды насекомых, живших только светом и теплом. И все умирало в тихом и спокойном сиянии дня.
Юрий не мог понять этого спокойствия, и ясная смерть вызывала в его душе беспредметную тяжелую злобу.
«Вот… дохнет и сияет, точно ей пряник преподнесли!» – с нарочитой грубостью подумал он, и ему хотелось придумать слова еще более грубые и обидные.
Их приходило много, но они висли в пустоте и падали бессильно на голову самого Юрия. И такая злость, до самых корней волос, охватила его, что Юрий даже задохнулся.
А за окном стоял золотой сад, за садом река отражала в себе зеленовато-голубое осеннее небо, за рекою шли поля, посеребренные паутиной, за полями опять река и в ней опрокинутый лес, потом берега, дубы, тихие дорожки, и там ходит кто-то.
XLII
Ходит пьянственный певчий, Петр Ильич.
Когда наступает осень и дачное место становится пусто и тихо, как маленькое кладбище минувшего веселья, в нем проявляется какая-то особенная изящная красота: тоненькие ажурные решеточки, как кружево, пронизывают деревья и кусты, и хмель нависает на них красными гирляндами; игрушечные дачные домики сквозят в золотых узорах поредевших веток; на опустелых куртинах одиноко высятся красные астры и о чем-то думают, покачивая холодно прекрасными головками; балконы и зеленые скамейки еще как будто хранят следы минувшей веселой и шумной жизни, и кажется, что эта жизнь была полной только веселья, смеха и счастья, особенной нарядной жизнью.
Иногда в опустелой аллее показывается, как отсталая птица от улетевшей стаи, одинокая задумчивая женская фигурка, и она кажется удивительно красивой, печальной и таинственной. Запертые окна и двери рождают тишину, и чудится, что это именно она, осенняя тишина, живет теперь здесь своей загадочной нечеловеческой жизнью.
Петр Ильич медленно ходит по заброшенным дорожкам, шурша своей палкой в нападавших желтых листьях.
Когда здесь людно, шумно и весело, он никогда не приходит. Быть может, он инстинктивно чувствует свою старость, убожество и неприглядность, а люди, с их смехом и яркими лицами, мешают ему слышать что-то, слышное ему одному.
Он ходит мимо дач, садится на покинутую лавочку и долго, до тех пор пока не потемнеет уже холодеющее осеннее небо, смотрит перед собою, должно быть ощущая веяние вечности, незримо проходящей над этим местом людской радости и забавы.
Потом идет вниз к реке, под важными, зелеными и желтыми дубами, и смотрит на затихшую хрустальную воду. Ложится на сухую редкую траву и по часам лежит, уткнувшись головой в землю, слушая ее безмолвный говор и дыша ее важным, спокойным дыханием.
Заходит он в места самые дикие, где река подошла к горе, а гора хотела задавить ее и не могла. Река смеялась над горой, вся дрожа голубым и серебристым смехом, а гора хмурилась, и деревья шумели. Иногда огромные дубы бросались с крутого берега в воду и топили поникшие изломанные ветви в бегущей и смеющейся глубине.
Река играет струйками – голубыми от неба и зелеными от земли, – и кажется, будто кто-то быстро пишет на ней непонятные таинственные письмена. Пишет и стирает, и опять быстро пишет и стирает…
О чем говорят эти письмена, никто никогда не прочтет, но, очевидно, они доходят до сердца Петра Ильича, по целым часам следящего за ними, и делают его тихим и спокойным, как догорающий вечер человеческой жизни.
Лес, река, поля, небо и земля дают ему нечто, чего не дала ему пьяная убогая жизнь и что наполняет его душу до нижайших глубин. И вид старого певчего во время таких хождений торжественно задумчив и важен.
Возвращаясь и встречая кого-нибудь из немногих знакомых, он что-то рассказывает, с важным видом стремясь передать то, чего передать не может. И всегда почему-то заканчивает одной и той же фразой:
– И зимой… там прекрасно!.. Тишина-а… снежинки зыблются, зыблются… снегирки поют!..
Голос его переходит в высокий тенор и тает в воздухе, и чувствуется, что этот человек, несмотря на все свое убожество, умеет как-то особенно воспринять самую тонину красоты жизни, и когда освободится от работы за кусок хлеба, от водки и болезней, то наполняет свою жизнь так хорошо и полно, что душа его становится счастливой.
XLIII
«Осень… Уже осень… Потом будет зима, снег… Потом весна, лето, опять осень… зима, весна, лето… Тоска! А что буду делать в то время я? То же, что и теперь, – с тоской усмехнулся Юрий. – В лучшем случае отупею и вовсе не буду думать ни о чем! А там старость и смерть!»
Опять через его голову бесконечной чередой пошли мысли: и о том, что жизнь прошла от него в стороне, и о том, что нет вовсе никакой особенной жизни, а всякая жизнь, даже жизнь героев, полна скуки, томительных периодов подготовки и безрадостных концов. Вспомнил он, что всегда жил в ожидании начала чего-то нового, глядя на то, что делал в эту минуту, как на временное; а это временное вытягивалось точно гусеница, разворачивало все новые и новые коленца, и уже становилось видно, что бледный хвост этой гусеницы скрывается в старости и смерти.
«Подвига, подвига! – с тоской сжал руки Юрий. – Чтобы сразу сгореть и исчезнуть, без страха и томления! Только в этом и жизнь».
Тысячи подвигов, один героичнее другого, нарисовались перед ним, но каждый взглянул ему в лицо черепом смерти. Юрий закрыл глаза и совершенно ясно увидел бледненькое петербургское утро, мокрые кирпичные стены, виселицу, бледным силуэтом влипшую в мутное серое небо… Или чье-нибудь озверелое лицо, дуло револьвера у виска, ужас, которого нельзя, кажется, перенести и который надо пережить, удар выстрела прямо в лицо… Или нагайки бьют по лицу, по спине… и по оголенному заду…
«И на это надо идти?.. С этим уже не считаться?» – сказал себе Юрий и тоскливо махнул рукой.
Подвиги побледнели, куда-то ушли и растаяли, а на месте их выглянуло глумливое лицо собственного бессилия и сознания, что все эти мечты о подвигах – детская забава.
«С какой стати я принес свое „я“ на поругание и смерть, для того чтобы рабочие тридцать второго столетия не испытывали недостатка в пище и половой любви!.. Да черт с ними, со всеми рабочими и нерабочими всего мира!..»
И опять Юрий почувствовал прилив бессильной злобы, беспредметной и мучительной для него самого. Неодолимая потребность что-то сбросить, встряхнуться овладела им. Но невидимые когти держали крепко, и вползающее чувство окончательной усталости стало подступать к мозгу и сердцу, наполняя живое тело мертвой апатией.
«Хоть бы убил меня кто-нибудь… – вяло подумал Юрий. – Неожиданно, сзади, чтобы я и не заметил своей смерти… Тьфу, какие глупости лезут в голову!.. И почему непременно кто-нибудь, а не я сам? Неужели я действительно такое ничтожество, что у меня не хватит силы покончить с собой даже при полном сознании, что жизнь доставляет только одни мучения?.. Ведь все равно умирать рано или поздно придется?.. Что ж это… копеечный расчет!.»
Но тут Юрий мысленно как бы пригнул себя к земле и, скривив лицо, посмотрел на себя сверху, с презрением и болезненной насмешкой.
«Нет, шалишь, брат, дудки! Ты только подумать мастер, а как дойдет до дела… Куда уж тут!»
Маленький холодок у сердца, любопытный и трусливый почувствовал Юрий.
«А попробовать?.. Так, не серьезно… в шутку!.. Не то чтобы… а так… все-таки любопытно!..» – как бы извиняясь перед кем-то, сказал он себе.
Было очень трудно и стыдно достать револьвер из ящика стола, и пугала нелепая мысль, как бы сегодня вечером на бульваре не узнали, не догадались Дубова, Шафров, Санин и больше всего Карсавина, какие детские опыты над собой производит он.
Воровски сунув револьвер в карман, Юрий вышел на крыльцо в сад. На ступеньках тоже лежали сухие желтые, как трупы, листья. Юрий пошевелил их носком, прислушался к слабому шороху и стал насвистывать долгую и печальную мелодию.
– Что затянул? – шутя спросила Ляля, с книгой и зонтиком проходя из сада в дом. Она ходила к реке на свидание с Рязанцевым и возвращалась свежая и счастливая от поцелуев. Им никто не мешал видеться, где и когда угодно, но в тайне, в пустоте и молчании заглохшего сада было что-то острое, отчего поцелуи были судорожнее и уже трогали в Ляле новые желания. – Точно молодость свою хоронишь! – прибавила она, проходя.
– Глупости, – сердито возразил Юрий и с этого момента почувствовал приближение чего-то, сильнее его самого.
Как животное в предсмертной тоске, он стал томиться и искать себе место. Во дворе его не было, там все раздражало, и Юрий пошел к реке, по которой плавали желтые листья и паутина, сбросил в воду сухую ветку и долго смотрел, как расходились от нее мелкие быстрые круги и вздрагивали плавающие листья. Потом опять пошел к дому, где последние красные цветы, красным трауром, одиноко и печально высились посреди помятых и пожелтелых клумб. Юрий постоял над ними и опять ушел в середину сада.
Там уже все было желто, и ветки бархатно чернелись в кружеве золотых листьев. Было только одно зеленое дерево – дуб, важно хранивший свои резные листья. На скамейке, под дубом, сидел и грелся на солнышке большой рыжий кот.
Юрий грустно и нежно стал гладить пушистую спинку и почувствовал, что слезы подступают к горлу.
– Пропала вся жизнь, пропала вся жизнь… – машинально повторял он слова, казавшиеся ему бессмысленными, но трогавшие за самое сердце, точно тоненьким острием подрезывая его.
«Но ведь это все вздор!.. У меня вся жизнь впереди… Мне еще двадцать шесть лет!» – мысленно крикнул он, на секунду вдруг освобождаясь от тумана, в котором бился, как муха в паутине.
«Эх, не в том дело, что двадцать шесть лет, и не в том дело, что вся жизнь впереди!.. – махнул он рукой. – А в чем?..»
Неожиданно всплыла мысль о Карсавиной, о том, что после вчерашней омерзительно позорной сцены невозможно встретиться с ней, а не встретиться нельзя. Представилась встреча, стыд ошеломляюще наполнил и сердце, и голову и мелькнула мысль, что лучше умереть, чем это.
Кот выгнул спинку и умильно замурлыкал, точно самовар завел песню. Юрий внимательно поглядел на него и стал ходить взад и вперед.
«Жизнь заела… скучно, скверно… А впрочем, не знаю что… Но лучше смерть, чем увидеться с ней!»
Прошел, тяжело шагая, кучер с ведром воды. И в ведре плавали мертвые желтые листья. На крыльцо дома, видное сквозь ветки, вышла горничная и смотрела на Юрия, что-то говоря. Юрий долго не мог понять, что она говорит ему. Между ним и всем, что его окружало, стала таять и рваться связь. И с каждым мгновением он незаметно становился все дальше и дальше, уходя от всего мира в темную глубину своего одинокого духа.
– Ах да, хорошо… – сказал он, наконец разобрав, что горничная зовет его обедать.
«Обедать? – испуганно спросил он себя. – Идти обедать!.. Значит, все по-старому, и опять жить, мучиться, опять надо решать, как быть с Карсавиной, с моими мыслями, со всем?.. Надо скорее, а то надо идти обедать и я не успею!»
Странная торопливость охватила его, а дрожь стала бить все тело, тонко проникая во все суставы, в руки, ноги, в грудь. Горничная, заложив руки под белый фартук, стояла на крыльце и не уходила, видимо стараясь надышаться осенним воздухом сада.
Юрий воровато зашел за дуб, чтобы не видно было его с крыльца, и, выглядывая на горничную – не заметит ли она, – как-то очень быстро и неожиданно выстрелил себе в грудь.
«Осечка!» – радостно мелькнуло у него в голове, вместе с мгновенным мучительным желанием жить и страхом умереть. Но уже он видел перед собою верхушку дуба, голубое небо и посреди него куда-то прыгающего желтого кота.
Горничная с криком метнулась в дом, и, как показалось Юрию, возле него сейчас же очутилось множество людей. Кто-то лил ему на голову холодную воду, и на лбу у него прилип желтый лист, очень мешавший ему. Встревоженные голоса зазвучали вокруг, кто-то плакал и кричал.
– Юра, Юра… зачем?
«Это Ляля плачет», – подумал Юрий и в ту же минуту раскрыл глаза и в диком животном отчаянии стал биться и кричать:
– Доктора… позовите скорее!..
Но с невероятным ужасом понял, что уже все кончено и ничто не поможет. Листья, лежавшие у него на лбу, быстро отяжелели и сдавили голову. Юрий вытянул шею, чтобы из-за них увидеть еще хоть что-нибудь, но листья еще быстрее разрослись во все стороны и покрыли все.
И Юрий уже не сознавал, что произошло в нем.







