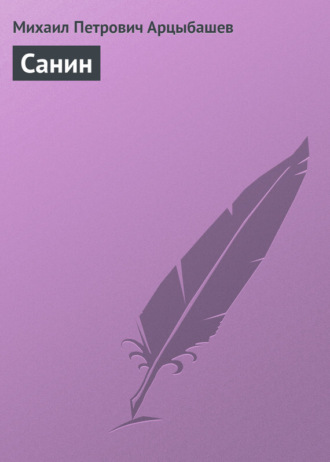
Михаил Петрович Арцыбашев
Санин
XXXI
Мгновенно и страшно изменилось лицо жизни Зарудина. Насколько легка, понятна и беззаботно приятна была она прежде, настолько безобразно ужасной и неодолимой предстала теперь. Точно она сбросила светлую улыбающуюся маску, и из-под нее выглянула хищная и страшная морда зверя.
Когда Танаров на извозчике вез его домой, Зарудин даже перед самим собою старался преувеличить боль и слабость, чтобы только не открывать глаз. Ему казалось, что это еще как-то отдаляет позор, который со всех сторон тысячами глаз смотрит на него и ждет увидеть его взгляд, чтобы побежать за ним, хохоча, кривляясь и тыча пальцами прямо в лицо.
Во всем, и в худой спине синего извозчика, и в каждом прохожем, и в окнах, за которыми мерещились злорадно любопытные лица, и в самой руке Танарова, поддерживающей его за талию, избитому Зарудину чудилось молчаливое, но откровенное презрение. И это ощущение было так неожиданно и неистово мучительно, что по временам Зарудину и в самом деле становилось дурно. Тогда ему казалось, что он сходит с ума, и хотелось или умереть, или проснуться.
Мозг отказывался верить в то, что произошло, и все казалось, что это – не так, что есть какая-то ошибка, что он сам чего-то не понимает, а это что-то делает все совсем другим, вовсе не таким ужасным и непоправимым. Но факт ясный и непреложный стоял перед ним, и душу его все чернее и чернее покрывала тьма отчаяния.
Зарудин чувствовал, что его поддерживают, что ему больно и неловко, что руки у него в пыли и крови, и ему даже странно было, что еще можно ощущать что-нибудь, что тело его не уничтожилось и продолжает дрянно и бессильно жить своим чередом, когда без следа, невозвратимо исчезло все то, что составляло красивого, щеголевато самоуверенного и веселого Зарудина.
Иногда, когда дрожки кренились на поворотах, Зарудин чуть-чуть приоткрывал глаз и сквозь мутные слезы узнавал знакомые улицы, дома, церковь, людей. Все было такое же, как всегда, но теперь казалось бесконечно далеко, чуждо и враждебно ему. Прохожие останавливались и с недоумением смотрели им вслед, и Зарудин опять быстро закрывал глаза, почти теряя сознание от стыда и отчаяния.
Дорога тянулась бесконечно, и ему казалось, что пытке этой не будет конца.
«Хоть бы скорей, хоть бы скорей!..» – тоскливо мелькало у него в голове, но тут же представлялись лица денщика, квартирной хозяйки, соседей, и казалось, что лучше уж уехать так, бесконечно ехать и никогда не открывать глаз.
А Танаров, мучительно стыдясь Зарудина и не глядя по сторонам, изо всех сил, какими-то непонятными способами старался показать каждому встречному, что он тут ни при чем, что побили не его. Он был красен, холодно потен и растерян. Сначала он что-то говорил, возмущался, неестественно утешал, но потом замолчал и только сквозь зубы подгонял извозчика. По этому и по тому, как неверна была его не то поддерживающая, не то отстраняющая рука, Зарудин угадывал его чувства, и то, что этот ничтожный, всегда бывший бесконечно ниже его Танаров, вдруг получил право стыдиться его, дало последний и решительный толчок сознанию, что все кончено.
Зарудин не мог сам перейти двор, и его почти перенесли Танаров и выбежавший навстречу перепуганный денщик, у которого тряслись руки. Были ли еще люди на дворе – Зарудин не видел. Его уложили на диван и сначала не знали, что делать, нелепо торча перед ним и этим причиняя ему невероятные страдания. Потом денщик спохватился, засуетился, принес теплой воды, полотенце и бережно обмыл Зарудину лицо и руки. Зарудин боялся встретиться с ним глазами, но лицо солдата было вовсе не злорадно, не презрительно, не насмешливо, а только испуганно и жалостливо, как у старой доброй бабы.
– Где это их так, ваше благородие?.. Ах ты ж Боже мой! Как же так! – потихоньку причитывал он.
– Ну… не твое дело! – багровея, прикрикнул сквозь зубы Танаров и почему-то сейчас же робко оглянулся.
Он отошел к окну и машинально взялся за папиросу, но, подумав, можно или нет курить при Зарудине, незаметно сунул портсигар обратно в карман.
– Може, доктора позвать? – по привычке вытягиваясь во фрунт, но, нисколько не пугаясь окрика, приставал к нему денщик.
Танаров в недоумении растопырил пальцы.
– А… не знаю, право… – совсем другим голосом ответил он и опять оглянулся.
Но Зарудин услыхал и испугался, представив, что еще и доктор будет смотреть на его лицо.
– Никого… не надо!.. – неестественно слабым голосом, все стараясь уверить себя, что умирает, проговорил он.
Теперь, когда обмыли кровь и грязь с его лица, оно уже не было страшно, а только уродливо и жалко. Танаров с животным любопытством, мельком взглянул на него и сейчас же отвел глаза. Это почти незаметное движение, как и все, что теперь окружало Зарудина, болезненно-остро было им замечено, и отчаяние чуть не задушило его. Зарудин вдруг крепко зажмурил закрытый глаз и тонким надорванным голосом закричал:
– Оставь… оставьте меня-а!
Танаров исподлобья испуганно покосился и вдруг обозлился нутряной презрительной злобой.
«Еще кричит!.. Туда же!..» – злорадно подумал он.
Зарудин затих и лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Танаров тихо постучал пальцами по подоконнику, подергал себя за усы, оглянулся, опять посмотрев в окно и почувствовал нудное, холодное желание уйти.
«Неловко, черт!.. Подождать, пока заснет, что ли?.. а тогда можно…» – с враждебной тоской подумал он.
Так прошло с четверть часа, но Зарудин время от времени все шевелился. Танарову становилось невыносимо нудно. Наконец Зарудин совсем затих.
«Кажется, заснул! – неискренно подумал Танаров, незаметно оглядываясь на него. – Заснул…»
Он тихо тронулся, чуть-чуть звякнув шпорами. Зарудин быстро открыл глаза. На секунду Танаров задержался, но уже Зарудин понял его намерение, и Танаров понял, что Зарудин все понимает. И тут произошло между ними нечто странное и жуткое: Зарудин быстро закрыл глаза и притворился спящим, а Танаров, сам себя убеждая, что верит этому, и в то же время очевидно сознавая, что оба знают, в чем дело, как-то неловко согнулся и на цыпочках вышел из комнаты с чувством уличенного предательства, с сомнением и стыдом.
Дверь тихо затворилась, и что-то, что, казалось, было между ними так прочно, дружелюбно и постоянно, вдруг исчезло навсегда: и Зарудин, и Танаров почувствовали, что между ними встала навеки разъединившая пустота и что среди живых людей один из них уже не существует для другого.
Но в соседней комнате Танаров вздохнул свободнее и почувствовал себя опять легко и свободно. Ни сострадания, ни жалости к тому, что навсегда кончено все между ним и Зарудиным, с которым столько лет он прожил, у Танарова не было.
– Слушай, ты, – торопливо оглядываясь по сторонам и спеша, точно выполняя последнюю формальность, сказал он денщику, – я теперь пойду, а ты, если что такое, так ты того… слышишь?
– Так точно, слушаю! – испуганно ответил солдат.
– Ну, так вот… Там… компрессы эти меняй почаще…
Он торопливо сошел с крыльца и опять облегченно вздохнул, выйдя за калитку на пустую и широкую улицу. Были уже полные сумерки, и Танаров был рад, что его горящего лица не видно прохожим.
«А ведь, пожалуй, и я окажусь замешанным в эту скверную историю, – с внезапным холодом у сердца подумал он, поворачивая на бульвар. – А впрочем, при чем же тут я?» – успокаивал он себя, стараясь не помнить, что и он бросался на Санина и его самого так оттолкнул Иванов, что он чуть не упал.
«Ах, черт, какая скверность вышла! – сморщив все лицо, подумал Танаров, идя дальше. – А все этот дурак! – со злобой вспомнил он Зарудина. – Очень надо было связываться со всякой сволочью!.. Эх, паршиво!..»
И чем больше думал он о том, что вышло скверно и унизительно, тем больше его невысокая, с приподнятыми плечами и грудью, в узких рейтузах, щеголеватых сапогах и белеющем в сумерках кителе фигурка инстинктивно выпрямлялась, грозно подымая плечи и голову.
В каждом встречном ему чудилась насмешка, и достаточно было малейшего намека на это, чтобы нечто, напряженное до высшей степени, прорвалось и он, выхватив шашку, бросился бы рубить насмерть кого попало. Но встречных было мало, и те проходили быстро, плоскими силуэтами проскальзывая вдоль заборов темного бульвара.
Дома, уже успокаиваясь, Танаров опять вспомнил, как его отбросил Иванов.
«Почему я не дал ему по морде?.. Надо было прямо дать в морду!.. Жаль, шашка не отпущена!.. А то бы!.. А ведь у меня в кармане был револьвер! Вот он. Я мог его застрелить, как собаку. А?.. Я забыл про револьвер… Конечно, забыл, а то бы застрелил на месте, как собаку!.. А… хорошо все-таки, что забыл: убил бы… суд!.. А может быть, и у них был у кого-нибудь револьвер… и черт знает, из-за чего еще пострадал бы!.. А теперь никто не знает, что у меня был револьвер, и… понемногу все обойдется…»
Танаров осторожно, оглядываясь по сторонам, вынул из кармана револьвер и положил в ящик стола.
«Сегодня же надо явиться к полковнику и объяснить, что я тут ни при чем…» – решил он, звонко щелкая ключом.
Но сильнее этого решения явилось вдруг нервное, непреодолимое и даже как будто хвастливое желание пойти в клуб, рассказать всем, как очевидец.
В ярко освещенном, посреди темного города, военном клубе толпились возбужденные и громко возмущавшиеся офицеры. Они уже знали об истории в саду и втайне злорадствовали над всегда подавлявшим их своим блеском и шиком Зарудиным. Они встретили Танарова с животным любопытством, и Танаров, чувствуя себя почему-то героем вечера, подробно описывал всю сцену. В голосе его и темных узких глазах робко шевелилось сдерживаемое и несознаваемое мстительное чувство: весь гнет бывшего приятеля, история из-за денег, небрежное отношение, превосходство его как будто вымещалось Танаровым в этом бесконечном повторении и смаковании подробностей, как именно побили Зарудина.
А Зарудин совершенно одиноко, чужой всему миру, лежал у себя в комнате на диване.
Денщик, уже от кого-то узнавший, в чем дело, все с тем же испуганно жалостливым бабьим лицом поставил самовар, сбегал за вином и прогнал из комнаты ласкового веселого сеттера, очень обрадованного, тем, что Зарудин дома. Потом он на цыпочках опять вошел к барину.
– Ваше высокородие… Вы бы винца испили, – чуть слышно предложил он.
– А? Что? – открывая и сейчас же закрывая глаза, спросил Зарудин, и – как ему казалось – унизительно, а на самом деле только жалко, сморщившись, сквозь зубы, с трудом шевеля распухшими губами, проговорил: – Зеркало… дай…
Денщик вздохнул, покорно принес зеркало и посветил свечой.
«Чего уж тут смотреть!» – неодобрительно подумал он.
Зарудин посмотрел в зеркало и невольно застонал. Из темной поверхности, багрово освещенное сбоку, глянуло на него одноглазое, налитое, синевато-красное и черное лицо, с нелепо взъерошенным светлым усом.
– А… возьми!.. – пробормотал Зарудин и вдруг истерически всхлипнул: – Воды… дай!..
– Ваше высокородие, чего так убиваетесь! Оно заживет… – жалостливо заговорил денщик, подавая воду в липком стакане, пахнущем холодным сладким чаем.
Зарудин не пил, а только возил зубами по краю стакана, разливая воду на грудь.
– Уйди! – выговорил он.
Ему показалось, что денщик, один во всем свете, жалеет его, но теплое чувство к солдату сейчас же подавилось невыносимым для него сознанием, что даже денщик может теперь жалеть его.
Солдат, моргая глазами, с видимым желанием заплакать, вышел на крыльцо, сел на ступеньку и, вздыхая, стал гладить мягкую волнистую спину подбежавшей собаки. Сеттер положил ему на колени слюнявую изящную морду и смотрел снизу вверх темными, непонятными, но как будто что-то говорящими глазами. Над садом сверкали блестящие безмолвные звезды. Солдату отчего-то стало грустно и страшно, точно в предчувствии страшной неотвратимой беды.
«Эх, жисть, жисть!» – горько подумал он и свернул мысль на свою деревню.
Зарудин судорожно повернулся к спинке дивана и замер, не чувствуя сползшего ему на лицо согревшегося мокрого полотенца.
«Вот и кончено! – с внутренним рыданием повторял он. – Что кончено?.. Все, вся жизнь… все… пропала жизнь… Почему? Потому что я опозорен, потому что… побили, как собаку!.. Кулаком… по лицу!.. И нельзя оставаться в полку!..»
Необыкновенно отчетливо Зарудин увидел себя стоящим на четвереньках посреди аллеи, бессмысленно роняющим бессильные угрозы, жалкого, маленького. Все вновь и вновь переживал он этот странный момент, и все ярче и убийственнее вставал он перед ним. Все мелочи припоминались, точно освещенные электрическим светом, и почему-то эти нелепые угрозы и белое платье Карсавиной, промелькнувшее перед ним, именно когда он угрожал, было мучительнее всего.
«Кто меня поднял? – стараясь не думать и нарочно путая свои мысли, думал Зарудин. – Танаров?.. Или тот жиденок, что шел с ними?.. Танаров?.. А-а!.. Не в том дело… А в чем? В том, что вся жизнь испорчена и нельзя оставаться в полку. А дуэль?.. Не будет он драться все равно… нельзя будет оставаться в полку!..»
Зарудин вспомнил, как судом офицеров, в котором участвовал и он, выгнали из полка двух пожилых семейных офицеров, отказавшихся драться на дуэли.
«Так и мне предложат… Вежливо, не подавая руки, те самые люди, которые… И уже никто не будет гордиться тем, что я возьму его на бульваре под руку, никто не будет мне завидовать и копировать мои манеры… Но это не то!.. Позор, позор, вот что главное!.. Почему позор? Ударили? Но ведь били же меня в корпусе!.. Тогда толстый Шварц ударил меня и выбил зуб и… ничего и не было!.. Потом помирились и до конца корпуса были лучшими друзьями!.. И никто меня не презирал! Почему же теперь не так? Не все ли равно; так же шла кровь, так же я упал… Почему?»
На этот полный безвыходной тоски вопрос не было ответа в уме Зарудина. Он только чувствовал, что какая-то мутная бездонная грязь накрыла его с головой и он неудержимо идет ко дну, ничего не видя и ничего не понимая вокруг.
«Если бы он согласился на дубль и попал мне в лицо пулей… Было бы еще больнее и безобразнее, чем теперь ведь, а никто не презирал бы меня за это, а все бы жалели. Значит, между пулей и… кулаком… Какая разница? Почему?»
Мысль работала скачками. И в глубине ее, обостренное непоправимым несчастием и пережитою мукою, начинало вырастать что-то новое, как будто когда-то бывшее, но забытое им в течение своей офицерской, легкой, пустой и шумливой жизни.
«Вот фон Дейц спорил со мною о том, что если ударят в левую щеку, надо подставить правую, а он же сам тогда пришел и кричал, махал руками, возмущался, что „тот“ отказался от дуэли!.. Ведь это, собственно, они виноваты, что я хотел ударить хлыстом „того“… А вся моя вина в том, что я не успел ударить!.. Но это бессмысленно, несправедливо!.. А все-таки позор… и нельзя оставаться в полку!..»
Зарудин беспомощно схватился за голову, раскачивая ее по подушке и машинально следя за пустой томительной болью в глазу. Он вдруг почувствовал страшный, мучительный для него самого прилив злобы.
«Схватить револьвер, кинуться и убить… пуля за пулей. И пихать ногами в лицо, когда свалится… прямо в лицо, в зубы, в глаза!..»
С мокрым тяжелым звуком тяжело шлепнулся на пол компресс. Зарудин испуганно открыл глаза и увидел тускло освещенную комнату, таз с водой и мокрым полотенцем и черное жуткое окно, как черный глаз, загадочно смотрящий на него.
«Нет, все равно… это не поможет! – затихая в бессильном отчаянии, подумал он. – Все равно все видели, как меня били по лицу и как я стоял на четвереньках… Битый, битый. Получил по морде… И нельзя, нельзя вернуть!.. Никогда уже не буду я счастливым, свободным…»
Опять нечто острое и небывало ясное зашевелилось у него в мозгу.
«А разве я когда-нибудь был свободным? Ведь я потому и погибаю теперь, что жизнь моя была всегда не свободной, не своей… Разве бы я сам пошел на дуэль, стал бы разве бить хлыстом?.. И меня бы не побили, и было бы все хорошо, счастливо… Кто и когда выдумал, что обиду надо смывать кровью? Ведь это не я! Вот и смыл… с меня смыли кровью… Что? Не знаю, но надо выходить из полка!..» Бессильная и неумелая мысль пробовала подняться и падала, как птица с подрезанными крыльями. И куда бы ни метался его ум, все возращалось по кругу на то, что надо выходить из полка, что он навсегда опозорен.
Когда-то Зарудин видел, как муха, попавшая в густой плевок, мучительно карабкалась по полу, а за ней, склеивая лапки и крылья, ослепляя и удушая ее, тянулась отвратительная, беспощадная слизь. И очевидно было, что для нее все кончено, хотя она еще ползла, вытягивалась на лапках, выбивалась из сил. Тогда Зарудин, брезгливо содрогнувшись, отвернулся и теперь как будто не помнил, но какое-то тайное сознание, что-то похожее на бред напомнило ему эту несчастную муху. И потом, должно быть, был бред: вдруг не то вспомнил, не то ясно увидел Зарудин двух мужиков. Они ругались и дрались, и один ударил другого в ухо, а тот, седой, старый, упал, а потом встал и, утирая рукавом рубахи кровь, льющуюся из носа, сказал убежденно: «Вот и дурак!»
«Да это я видел когда-то! – окончательно вспомнил Зарудин и опять сознательно увидел полутемную глухую комнату и свечу на столе. – Потом еще они вместе пили у казенки…»
Он опять, должно быть, забылся, потому что свеча и комната куда-то пропали, но как будто не переставал думать и потом, вместе с вынырнувшей из мрака свечой, разобрал и свою мысль:
«…Нельзя жить с таким позором… так. Значит, надо умирать! Но мне не хочется умирать, и кому это надо? Не мне!.. Репутация? Какое мне дело до репутации! Что значит репутация, когда надо умирать? Но ведь надо выйти из полка… А как жить потом?»
Что-то тусклое, непонятное и чужое представилось ему в будущем, и Зарудин бессильно отступил от него. Так каждый раз, когда страстная жажда жизни и счастья начинала что-то выяснять ему, туман, которым был покрыт мозг, спускался ниже, и снова Зарудин оказывался перед безвыходной пустотой.
Ночь проходила, и тяжелая тишина стояла за окном, точно во всем мире Зарудин жил и страдал один.
На столе, оплывая, горела свеча, и пламя ее, желтое и ровное, мертвенно спокойно струилось кверху. Зарудин блестящим от лихорадки и отчаяния глазом смотрел на огонь и не видел его, весь охваченный черным туманом бесконечно спутанных, бессильных мыслей.
Среди хаоса обрывков воспоминаний, представлений, чувств и дум одно было острее всего и звенящей нитью тоски проходило до самого сердца. Это было больное и жалобное сознание своего полного одиночества. Там где-то жили, радовались, смеялись, может быть, даже говорили о нем миллионы людей, а он был один. Тщетно вызывал Зарудин одно знакомое лицо за другим. Они вставали бледной, чуждой и равнодушной чередой, и в их холодных чертах чудилось только злорадство и любопытство. Тогда Зарудин с робкой тоской вспомнил Лиду.
Она представилась ему такою, какою он видел ее в последний раз: с большими невеселыми глазами, с мягким слабым телом под домашней кофточкой, с распущенной косой. И в ее лице Зарудин не почувствовал ни злорадства, ни презрения. Оно смотрело на него с печальным укором, и что-то, что было возможно, мерещилось в ее невеселых глазах. Он припомнил ту сцену, когда отказался от нее в минуту ее величайшего горя. Острое, как нож, сознание невозвратимой потери до глубочайших струн пронизало душу Зарудина. «А ведь она, должно быть, страдала тогда еще больше, чем я теперь… А я оттолкнул… и даже хотел, чтобы она утопилась, умерла!..»
Как к последнему пристанищу, все существо его потянулось к ней в тоскливой жажде ее ласк и участия. На мгновение ему подумалось, что страдание, которое он переживает теперь, может искупить все прошлое; но Зарудин знал, что она никогда не придет, что все кончено, и полная пустота, как пропасть, открылась вокруг него.
Зарудин поднял руку, крепко положил ее на голову и замер, закрыв глаза, стиснув зубы, стараясь ничего больше не видеть, не слышать, не чувствовать. Но он скоро опустил руку, поднялся и сел. Голова мучительно кружилась, во рту горело, ноги и руки дрожали. Зарудин встал и, качаясь от головы, ставшей вдруг огромной и тяжелой, перешел к столу. «Все пропало, все пропало. И жизнь, и Лида, и все…»
Яркая молния небывало ясной мысли озарила его на одно мгновение: он вдруг понял, что в той жизни, которая исчезла, не было вовсе ничего красивого, хорошего и легкого, а все было спутано, загажено и глупо. Какого-то особенного, на все приятное имеющего права, прекрасного Зарудина тоже не было, а было только бессильное, робкое и распущенное тело, которое раньше наслаждалось, а теперь испытало боль и унижение. Когда слетел мираж удачи, открылся голый и бедный образ.
«Нельзя больше жить, – отчетливо подумал Зарудин, – чтобы жить снова, надо бросить все прежнее, начать жить как-то иначе, сделаться совсем другим человеком, а я не могу!..»
Зарудин тяжко уронил голову на стол и, зловеще освещенный заколебавшимся и приникшим к краям подсвечника пламенем свечи, застыл.







