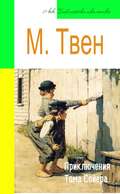Марк Твен
Жанна д'Арк
– Поступи, как я тебе советовал. Не губи себя!
Жанна грустно отвечала:
– Ах, нехорошо вы поступаете, обольщая меня.
Судьи присоединили свои голоса к просьбам остальных.
И даже их сердца смягчились. Они говорили:
– О Жанна, мы так жалеем тебя! Возьми назад свои слова, иначе мы должны будем предать тебя казни.
А вот с другого помоста раздался еще один голос, торжественно звучавший среди общего шума, голос Кошона: он читал смертный приговор!
Силы Жанны истощились окончательно. Некоторое время она продолжала стоять, ошеломленная, потом медленно опустилась на колени, нагнула голову и сказала:
– Я покоряюсь.
Они не дали ей времени обдумать, они знали, как это было бы опасно. В то же мгновение, как она изъявила покорность, Масье начал читать текст отречения, а она машинально, бессознательно повторяла за ним слова и улыбалась. Улыбалась, потому что ее утомленные мысли блуждали где-то далеко, в более счастливом мире.
Затем эту короткую записку в шесть строк незаметно спрятали, подсунув на ее место пространный документ, состоявший из нескольких страниц. Жанна, ничего не подозревая, поставила свой значок, сказав в оправдание, что она не умеет писать. Но среди присутствующих находился секретарь английского короля, и он взялся помочь горю; направляя ее руку, он вывел имя: Jehanne.
Свершилось великое преступление. Она подписала – что? Ей это не было известно, но другие знали. Она подписала бумагу, в которой было сказано, что Жанна – колдунья, сообщница нечистой силы, лгунья, хулительница Бога и Его ангелов, кровопийца, проповедница обмана, жестокая преступница, посланница сатаны; и эта подпись обязывала ее навсегда отказаться от мужского платья. Были и другие обязательства, но достаточно и одного этого, на чем можно построить ее гибель.
Луазлер протолкнулся вперед и поздравил ее с завершением «такого хорошего дела». Но она была еще во власти своих грез и едва ли расслышала.
Потом Кошон произнес слова, которыми отменялось отлучение, и ей открывался доступ в лоно возлюбленной Церкви со всеми ее драгоценными обрядами и таинствами. О, на этот раз она слышала! Это видно было по ее лицу, вдруг преобразившемуся глубокой благодарностью и восторгом.
Но как скоротечно было ее счастье! Кошон, голос которого ни разу не дрогнул от сострадания, добавил несколько уничтожающих слов:
– И дабы она раскаялась в своих преступлениях и больше их не повторяла, мы приговариваем ее к вечной тюрьме, где она будет питаться хлебом скорби и водой печали.
Вечная тюрьма! Она никогда не предполагала этого. Ни Луазлер, ни другие ничего ей не сказали. Луазлер определенно обещал, что «ей будет вполне хорошо». А последние слова Эрара, когда он с этих же подмостков увещевал ее отречься, заключили в себе прямое, несомненное обещание, что если она покорится, то ее выпустят на свободу.
С минуту она стояла, пораженная, безмолвная, потом она с некоторым утешением (поскольку могла утешить ее эта мысль) вспомнила, что на основании другого ясного обещания, обещания, данного самим Кошоном, она будет, по крайней мере, пленницей Церкви и вместо грубых солдат ее будут окружать женщины. И вот она повернулась к священникам и произнесла с грустной покорностью:
– Возьмите же меня в вашу тюрьму, служители Церкви, не оставляйте меня в руках англичан.
И, подобрав цепи, она приготовилась уйти. Но, увы! В ответ раздались позорные слова Кошона, сопровождаемые насмешливым хохотом:
– Отведите ее в тюрьму, откуда пришла!
Бедная, обманутая девушка! Она стояла оцепенелая, убитая, бессловесная. Без жалости нельзя было смотреть. Ее заманили, оболгали, предали, теперь она все поняла.
Тишина была прервана барабанным боем, и на одно мгновение Жанну охватила мысль о доблестном спасении, обещанном Голосами, – я угадал это по тому восторгу, которым озарилось ее лицо. Но она сейчас же увидела, что это приближается ее тюремный конвой, и свет погас навсегда. И вот она начала медленно качать головой: было видно, что она терпит несказанную муку и что ее сердце разбито. И ушла она печальная, закрыв лицо руками и горько рыдая.
Глава XX
В точности неизвестно, был ли кто-нибудь во всем Руане посвящен в тайну темной игры Кошона, кроме кардинала Винчестерского. И вы легко можете себе представить удивление и недоумение этой огромной толпы и этих многочисленных представителей Церкви, когда они увидели, что Жанна д'Арк уходит назад, живая и невредимая, ускользает из их когтей, после столь томительного ожидания, после стольких танталовых мук.
Некоторое время никто не мог ни двигаться, ни говорить – так все были ошеломлены, так не верилось им, что позорный столб продолжает стоять на месте, но – без жертвы. Потом вдруг все пришли в неистовое бешенство; проклятия и обвинения в измене посыпались отовсюду, посыпались и камни: один камень даже едва не убил кардинала Винчестерского – чуть не угодил ему в голову. Впрочем, нечего винить того, кто бросил: он был взволнован, а сгоряча можно и перепутать цель.
Смятение первое время было очень сильное. Капеллан кардинала забылся настолько, что дерзнул излить свой гнев на священной особе самого епископа Бовэского; поднеся кулак к его лицу, он закричал:
– Клянусь Богом, ты – изменник!
– Ты лжешь! – возразил епископ.
Он-то изменник? О, вовсе нет! Конечно, из всех французов он был последний, которого англичанин мог обвинить в измене.
Граф Варвик тоже не сдержался. Он был доблестный воин, но когда дело касалось умственной работы, тонких хитростей, подкопов, обманов, то он так же мало видел сквозь землю, как любой простой смертный. И вот он начал изливать свой гнев с чисто военной откровенностью; клялся, что мнимые слуги короля Англии оказались изменниками и что они помогают Жанне д'Арк спастись от позорного столба. Но ему прошептали на ухо несколько утешительных слов:
– Будьте покойны, милорд: мы скоро опять приберем ее к рукам.
Возможно, что подобный же слух разнесся и в толпе – хорошие новости распространяются так же быстро, как и дурные. Во всяком случае, неистовства черни прекратились, и огромная толпа понемногу рассеялась. Настал, таким образом, полдень этого страшного четверга.
Мы, двое юнцов, были счастливы, несказанно счастливы, ведь мы так же мало были посвящены в тайну, как и все остальные. Жизнь Жанны была спасена. Мы это знали и были довольны. Франция услышит о преступлении, совершившемся в этот день, и тогда!.. О, тогда ее доблестные сыны тысячами и тысячами, неисчислимой ратью соберутся у родного знамени, и их гнев уподобится гневу океана, волнуемого неистовой бурей. И они низринутся на этот обреченный город и опрокинут его с сокрушительной силой океанских волн. И Жанна д'Арк опять пойдет в поход! Через шесть-семь дней, через какую-нибудь короткую неделю, бесстрашная, благодарная, негодующая Франция начнет громить городские стены, будем считать часы – минуты – секунды! О, блаженный день, о, день восторга, каким ликующим гимном звучали струны наших сердец!
Ведь мы тогда были молоды, очень молоды.
Вероятно, вы думаете, что пленнице позволили отдохнуть и подкрепиться сном после того, как она истощила последний остаток своих сил, едва позволивший ей дойти до тюрьмы?
Нет. Не дали ей отдыха кровожадные псы, гнавшиеся по ее пятам. Кошон и некоторые из его помощников тотчас же последовали за ней в ее узилище; они застали ее оцепеневшей, ошеломленной, в полном упадке духовных и телесных сил. Они напомнили ей о совершившемся отречении, сказали, что она дала известные обещания, между прочим, носить отныне только женское платье, и что в случае нарушения обета Церковь навсегда лишит ее своей защиты. Она слышала слова, но их смысл был ей чужд. Она как будто находилась под влиянием снотворного зелья, и ей смертельно хотелось спать, смертельно хотелось дать отдых истерзанной душе, хотелось быть наедине с собой. В таком состоянии человек безотчетно исполняет все требования своего истязателя и лишь смутно сознает совершившееся, лишь запоминает происходящее. И Жанна надела платье, принесенное Кошоном и его служителями. Понемногу она придет в себя и на первых порах будет недоумевать, как произошла перемена.
Уходя, Кошон был счастлив и доволен. Жанна беспрекословно надела женское одеяние; с другой стороны, она получила формальное предостережение – не нарушать обета. И то и другое произошло в присутствии свидетелей. Чего же лучше?
Но что, если она не нарушит обета?
Очень просто: ее к этому принудят.
Не намекнул ли Кошон английским солдатам, что если они, начиная с этого дня, сделают плен Жанны еще более невыносимым и жестоким, то начальство будет смотреть на это сквозь пальцы? Возможно, ибо тюремная стража сейчас же перешла именно к такому образу действий, а начальство не вмешивалось. Да, с этого мгновения жизнь Жанны в тюрьме превратилась в пытку, почти нестерпимую. Не просите меня рассказать об этом подробнее. Не могу.
Глава XXI
Пятница и суббота были счастливые дни для нас с Ноэлем. Нам все время грезилась восставшая Франция, Франция, потрясающая оружием, Франция воинствующая, Франция у стен города. Мы видели Руан обращенным в пепел, мы видели Жанну свободной! Воображение наше было разгорячено. Повторяю, мы были очень молоды.
Мы ничего не знали о том, что произошло в тюрьме вчера, после полудня. Мы полагали, что раз Жанна отреклась, раз она вернулась на лоно всепрощающей Церкви, то теперь с ней обращаются гораздо мягче и ее плен отныне будет смягчен различными уступками, поскольку это осуществимо при настоящих условиях. И вот, беспредельно радуясь, мы в течение этих двух счастливых дней строили планы близкого освобождения Жанны и непрестанно толковали о том, какое участие мы примем в предстоящей битве. То были едва ли не самые счастливые дни за последний год.
Наступило воскресное утро. Я сидел, наслаждаясь чудной, блаженной погодой, и размышлял. Размышлял об освобождении Жанны, о чем же более? Других мыслей у меня не было. Я был поглощен этой мечтой, упивался ее несказанным счастьем.
Далеко, в конце улицы, послышался чей-то голос, который понемногу приблизился, и я разобрал слова:
– Жанна д'Арк нарушила обет! Ведьма дождалась своей участи!
Мое сердце остановилось, кровь застыла в жилах. Произошло это более шестидесяти лет назад, но этот торжествующий крик до сих пор так же отчетливо звучит у меня в ушах, как прозвучал тогда, в это давно прошедшее летнее утро. Мы странно созданы: умирают те воспоминания, которые могли бы нас осчастливить, и остается только то, что надрывает нам сердце.
Вскоре крик этот был подхвачен другими голосами – десятками, сотнями голосов; весь мир, казалось, был объят зверской радостью. Гам разрастался; слышен был топот бегущих людей, веселые поздравления, грубый хохот, барабанный бой и грохот далекой музыки; люди оскверняли ликованием этот священный день.
После полудня Маншона и меня по распоряжению Ко-шона позвали в тюрьму Жанны. К этому времени англичане и их солдаты снова сделались недоверчивыми, и весь Руан пришел в гневное, угрожающее настроение. Чтобы убедиться в этом, стоило выглянуть в окно: сжатые кулаки, мрачные взгляды, суетливые, разъяренные толпы, запрудившие улицу, – все это говорило само за себя.
Кроме того, мы узнали, что около замка дела обстоят очень плохо, что там собрался всякий сброд, в их числе множество полупьяных английских солдат, что чернь считает слух о нарушении обета выдумкой попов. Мало того, эти люди не ограничились угрозами. Они напали на нескольких священников, которые пытались войти в замок, и тех едва удалось спасти от расправы.
Маншон отказался идти. Он заявил, что не сделает шагу, пока Варвик не даст ему охрану. На следующее утро Варвик прислал отряд солдат, и мы отправились под их защитой. За это время обстоятельства не только не улучшились, но, скорее, ухудшились. Солдаты защитили нас от побоев, но когда мы проходили мимо большой толпы, окружавшей замок, то нас осыпали оскорблениями и ругательствами. Впрочем, я относился к этому вполне терпеливо и говорил себе с чувством тайного удовлетворения: «Через каких-нибудь три-четыре дня, голубчики, вам придется запеть на иной лад – и я тогда приду послушать».
Я считал этих людей обреченными. Многие ли из них останутся в живых после того, как Жанну освободят? Останется не больше того, сколько нужно, чтобы позабавить палача в течение получаса.
Оказалось, что слух правдив. Жанна нарушила обет. Она сидела в цепях, опять одетая в мужское платье.
Она никого не обвиняла. Не такова она была. Она не была похожа на того человека, который нанимает слугу и валит на него всю ответственность за совершаемые им, по его же приказанию, поступки. Ее ум теперь прояснился, и она поняла, что вдохновителем того обмана, жертвой которого она пала вчера утром, был не подчиненный, но начальник – Кошон.
Произошло следующее. В воскресенье рано утром, пока Жанна спала, один из часовых потихоньку унес ее женский наряд, положив на его место мужскую одежду. Проснувшись, она спросила, где женское платье, но стража отказалась вернуть ей просимое. Она сказала им, что ей запрещено носить мужскую одежду. Но они не уступали. Стыдливость повелевала ей одеться; к тому же она убедилась, что ей невозможно защитить свою жизнь, если приходится на каждом шагу бороться с предательством. И она надела запретное платье, зная, чем это кончится. Бедная, она не имела больше сил для борьбы.
Мы вошли в залу вслед за Кошоном, вице-инквизитором и еще некоторыми; их было человек шесть – восемь; и когда я увидел Жанну, угнетенную, убитую, закованную в цепи, то я обомлел. Совсем не такую картину писало мое воображение. Удар был очень сильный. Быть может, я сомневался, что она нарушила обет, а быть может, верил этому, но бессознательно.
Победа Кошона была полная. Долгое время ему приходилось недоумевать, злиться, терять терпение, но теперь все это прошло, сменившись настроением ясного спокойствия, довольства собою. На его багровом лице была печать безмятежного и злобного блаженства. Он подошел к Жанне, шелестя по полу краем своей мантии, и остановился перед ней, важно расставив ноги; больше минуты оставался он в таком положении, пожирая пленницу глазами и наслаждаясь видом несчастной, погубленной девушки, которая помогла ему завоевать столь высокое место среди служителей кроткого и милосердного Иисуса, Спасителя мира, Господа Вселенной, если только Англия сдержит свое обещание, данное человеку, который никогда своих обещаний не исполнял.
Вскоре судьи начали допрашивать Жанну. Один из них, по имени Маргери, человек скорее проницательный, чем осторожный, коснувшись перемены одежды, сказал:
– Тут есть что-то подозрительное. Как могло это произойти без чьего-либо соучастия? Или нечто еще худшее?
– Тысяча чертей! – бешено заорал Кошон. – Заткните вашу глотку!
– Арманьяк! Изменник! – закричали солдаты, стоявшие на страже, и бросились на Маргери с копьями наперевес. Злополучного судью удалось спасти с большим трудом: его чуть не пронзили пикой. Бедняга, он больше не вмешивался в допрос. Остальные судьи продолжали вести следствие.
– Почему ты снова надела мужское платье?
Я хорошенько не разобрал ее ответа, так как именно в это мгновение у одного из солдат выпала алебарда и грохнулась на каменный пол. Но, как мне показалось, Жанна ответила, что она надела платье по собственному побуждению.
– Но ведь ты обещала и поклялась, что никогда не станешь больше носить мужскую одежду.
Я с напряженным вниманием прислушивался, что она ответит на это. И ответ ее вполне совпал с моими ожиданиями. Она сказала совершенно спокойно:
– Никогда не собиралась клясться и не давала сознательной клятвы, что откажусь от мужской одежды.
Я так и думал, я был уверен, что она в четверг говорила и действовала бессознательно, и ее ответ подтвердил мое предположение. Жанна продолжала:
– Но я имела право снова надеть это платье, потому что данных мне обещаний не исполнили, а мне было обещано, что я могу посещать обедню и причащаться и что меня освободят от этих цепей, между тем как они не сняты до сих пор.
– Все равно ты отреклась, и обещание не носить мужской одежды было оговорено особо.
Тогда Жанна протянула этим бесчувственным людям руки в тяжелых оковах и грустно сказала:
– Лучше смерть, чем это. Но если цепи эти будут сняты, и если мне можно будет ходить к обедне, и если меня поместят в заточении, где ко мне будет приставлена женщина, то я исполню все, что вы сочтете нужным.
Кошон презрительно поморщился. Блюсти договор, который заключен с ней? Исполнить условия? Чего ради? Предложение условий – мера временная; она годилась, пока это было выгодно; но она уже сослужила свою службу, надо придумать теперь что-нибудь более свежее и полезное. Возвращение к мужской одежде могло пригодиться для всевозможных целей, но быть может Жанна сама проговорится о чем-либо, помимо этого рокового проступка. И вот Кошон осведомился, говорили ли с ней Голоса после четверга, – и при этом он напомнил ей о ее отречении.
– Да, – сказала она.
И из ее слов выяснилось, что Голоса говорили с ней об отречении – рассказали ей об этом. Она еще раз чистосердечно подтвердила Божественность источника своего вдохновения, и по ее спокойному лицу было видно, что она никогда не отрекалась от этого сознательно. Таким образом, я еще раз убедился, что она сама не замечала того, что происходило в четверг, на помосте. В заключение она сказала: «Мои Голоса заявили, что я поступила очень нехорошо, признав свои деяния преступными». Потом она вздохнула и добавила простодушно: «Но меня принудила к этому боязнь огня».
То есть боязнь огня заставила ее подписать бумагу, содержания которой она тогда не поняла, но понимала теперь, благодаря откровению Голосов и указаниям самих преследователей.
Она была теперь в здравом уме; утомление прошло; вернулась ее отвага, а вместе с ней – врожденная преданность истине. Она смело и спокойно говорила правду, зная, что этим она отдает свое тело тому самому огню, который казался ей столь ужасным.
Ее ответ был пространен, вполне чистосердечен, вполне свободен от каких-либо умалчиваний или полупризнаний. Я слушал и содрогался; я чувствовал, что она произносит свой смертный приговор. И бедный Маншон тоже понял это. И на полях отчета он приписал: Responsio mortifera.
Роковой ответ. Да, все присутствующие знали, что это – роковой ответ. Жанна замолчала, и воцарилась тишина, какая бывает в комнате безнадежно больного, когда сидящие у смертного одра глубоко вздыхают и тихо говорят друг другу: «Все кончено».
Здесь тоже все было кончено. Но через несколько мгновений Кошон, желая поставить последнюю заклепку, задал такой вопрос:
– Продолжаешь ли ты верить, что твои Голоса принадлежат святой Маргарите и святой Екатерине?
– Верю в это, как и в то, что они посланы Богом.
– Но на подмостках ты отреклась от них?
Тогда она ясно и напрямик заявила, что она никогда не имела намерения отречься от них; и что если – подчеркиваю это «если» – «если она в тот раз от чего-либо отреклась, то это сделано ею из боязни огня и является искажением истины».
Видите, опять. Очевидно, она не ведала тогда, что творила, и только потом узнала от этих людей и от своих Голосов.
Следующими словами, в которых прозвучала усталость, Жанна закончила эту мучительную сцену:
– Я предпочла бы сейчас же отправиться на казнь; дайте мне умереть. Я не могу переносить этот плен.
Душа, рожденная для солнечного света и простора, так рвалась на свободу, что готова была принять ее в какой угодно форме, хотя бы под видом смерти.
Некоторые судьи покинули залу взволнованные, опечаленные. Не таково было настроение остальных. На дворе замка мы нашли графа Варвика с сотней англичан – они нетерпеливо ждали новостей. Кошон, лишь только увидел их, крикнул, смеясь, – подумайте, кем надо быть, чтобы смеяться, погубив беспомощную бедную девушку:
– Будьте спокойны, с ней покончено!
Глава XXII
Молодости свойственно впадать в полное отчаяние; так было с Ноэлем и со мною. Но, с другой стороны, надежды молодежи легко возрождаются, и это свойство также отразилось в смене нашего настроения. Мы вспомнили о смутном предсказании Голосов и говорили друг другу, что победоносное спасение должно явиться «в последнюю минуту». Именно теперь настало последнее мгновение; именно теперь сбудется пророчество – придет король, придет Ла Гир, а с ними наши ветераны, а за ними – вся Франция! И мы снова ободрились, и нам уже слышалась эта волнующая музыка боевых кликов, бряцающего оружия и воинственного натиска, и нам уже грезилось, что дорогой пленнице возвращена свобода, что цепи ее раскованы и что она снова взяла меч.
Но и этот сон рассеялся. Поздно ночью пришел Маншон и сказал:
– Я только что из тюрьмы; и у меня к тебе есть поручение от этой бедной девушки.
Поручение ко мне! Будь он повнимательнее, он, вероятно, узнал бы, в чем дело, узнал бы, что мое равнодушие к пленнице притворно. Ведь я был застигнут врасплох, и я так сильно был взволнован и превознесен оказанной мне честью, что не мог скрыть своих чувств.
– Поручение ко мне, ваше преподобие?
– Да. Она обращается к тебе с просьбой. Она сказала, что заметила молодого человека, моего помощника, и что у него доброе лицо; не согласится ли он оказать ей услугу? Я ответил, что уверен в твоем согласии, и осведомился, в чем именно должна состоять услуга. Она сказала: письмо – не напишешь ли ты письмо к ее матери? Я сказал: конечно. И добавил, что сам я исполнил бы это с радостью. Но она возразила: нет, мне и так приходится много работать, и она полагает, что молодой человек охотно выведет ее из затруднения – сама она писать не умеет. Тогда я послал было за тобой, и ее печальное лицо просветлело. Бедная, одинокая – она обрадовалась, как будто ожидала свидеться с другом. Но мне не разрешили. Я сделал все, что от меня зависело, но отдан строжайший приказ не допускать в тюрьму никого, кроме должностных лиц; как и раньше, только должностные лица могут говорить с ней. И я вернулся и сообщил ей о неудаче – она вздохнула, и ее лицо снова опечалилось. А вот о чем она просит написать ее матери. Послание довольно странное, и мне оно совершенно непонятно, но она говорит, что мать поймет. Ты должен «передать ее семье и деревенским друзьям горячий любовный привет и сказать, что спасения не будет, потому что в этот вечер ей было видение Древа – в третий раз на протяжении года».
– Как странно!
– Да, это странно, но таковы были ее слова; и она сказала, что родители поймут. Затем она погрузилась в мечтательную задумчивость, и ее уста шевелились, и я услышал несколько слов, которые она повторила раза два или три, и, по-видимому, в этих словах она находила успокоение и утешение. Я записал, думая, что это имеет связь с письмом и пригодится тебе; но я ошибся: это просто какой-то отрывок, случайно воскресший в ее памяти и не имеющий значения, – ничего не разъясняющий.
Я взял лоскуток бумаги и прочел именно то, что ожидал найти:
И если мы, в чужих краях,
Будем звать тебя с мольбой,
Со словами скорби на устах, —
То о́сени ты нас собой!
Отныне надежды не было. Теперь я понял. Я понял, что письмо Жанны было обращено и к Ноэлю, и ко мне, и к ее родным, и что своим посланием она хотела указать нам на тщетность всяких надежд; она сама хотела предупредить нас о предстоящей утрате, чтобы мы, ее солдаты, отнеслись к этому удару мужественно, как подобает нам и ей, и подчинились воле Господа; и в этой покорности мы должны обрести свое утешение. Это было похоже на нее: она всегда думала о других, не о себе. Да, ее сердце страдало за нас; она успела позаботиться о нас, о самых незаметных своих слугах, она пыталась смягчить нашу муку, облегчить бремя нашей скорби – она, которая пила воды горькие; она, которая шла по Долине Тени Смертной[86].
Я написал письмо. Надо ли говорить вам, какое это было страдание для меня. Я писал тем же деревянным грифелем, которым когда-то начертал первые слова, продиктованные Жанной д'Арк, – ее вдохновенное воззвание, приглашавшее англичан покинуть Францию; это было два года назад, когда Жанне было семнадцать лет. А теперь этот же грифель записал ее последние слова. После того я его сломал. Ибо перо, служившее Жанне д'Арк, не должно было унижаться служением кому-нибудь из оставшихся жителей земли.
На следующий день, 29 мая, Кошон созвал своих слуг, и сорок два откликнулись на его зов. Хотелось бы думать, что остальным двадцати было стыдно явиться. Совет сорока двух признал ее отпавшей еретичкой и приговорил к передаче светским властям. Кошон поблагодарил судей. Потом он отдал приказ, чтобы Жанну на другое утро доставили на площадь, называемую Старым Рынком; там она будет передана представителю светского суда, а этот в свою очередь передаст ее палачу. Это значило, что она будет сожжена.
Всю вторую половину дня и весь вечер вторника, 29 мая, весть о грядущем событии распространялась по окрестностям, и в Руан начали стекаться жители сел, желавшие видеть казнь; всякий, кто мог доказать свое сочувствие англичанам и получить пропуск, стремился в город. Улицы наполнились народом, возбуждение росло. И опять можно было подметить то, что многократно проявлялось и раньше: многие крестьяне в глубине сердца жалели Жанну. Это сочувствие становилось заметным всякий раз, когда ей грозила большая опасность; так было и теперь – стоило взглянуть на многочисленные лица, запечатленные немой скорбью.
В среду, рано утром, Мартен Ладвеню был послан к Жанне вместе с другим монахом, чтобы приготовить ее к смерти; Маншон и я сопровождали их. Для меня это было жестокое испытание. Мы шли по сумрачным коридорам, сворачивали то направо, то налево и проникали все глубже и глубже в эту огромную каменную твердыню. Наконец, мы стояли перед Жанной. Но она не заметила. Сложив руки на коленях и опустив голову, она сидела, погруженная в свои мысли, и ее лицо выражало беспредельную грусть. Нельзя было отгадать, о чем на думает. О своей ли отчизне, о мирных лугах, о друзьях ли, которых ей не суждено больше увидеть? О тех ли несправедливостях и жестокостях или о смерти? О той смерти, к которой она стремилась и которая была так близка? Или о том, какая смерть ждет ее? Лишь бы не о последнем! Ибо она страшилась только одного рода смерти, и эта смерть была в ее глазах несказанно ужасна. Я думал, боязнь такой смерти была в ней столь сильна, что она напряжением своей могучей воли отгоняла от себя эту мысль, и верила, и надеялась, что Бог сжалится над ней и пошлет ей более мирную кончину. И можно было предполагать, что принесенное нами известие поразит ее как совершенно неожиданное.
Некоторое время мы стояли молча, но она по-прежнему не замечала нас, погруженная в свои печальные думы. Немного погодя Мартен Ладвеню мягко произнес:
– Жанна.
Тогда она подняла на нас глаза, вздрогнула слегка и, слабо улыбнувшись, сказала:
– Говорите. Вы принесли мне известие?
– Да, бедное дитя мое. Мужайся. Думаешь ли ты, что у тебя хватит сил выслушать?
– Да, – тихо ответила она и опять опустила голову.
– Я пришел, чтобы напутствовать тебя перед смертью.
Легкая дрожь пробежала по ее изнуренному телу. Наступило краткое молчание. Среди тишины мы слышали собственное дыхание. Потом Жанна сказала тем же тихим голосом:
– Когда это произойдет?
Издалека донеслись удары похоронного колокола.
– Теперь. Времени осталось немного. Опять легкий трепет.
– Так скоро… ах, это слишком скоро!
Воцарилась продолжительная тишина, нарушаемая только ударами далекого колокола. Неподвижно стояли мы и прислушивались. Наконец, молчание было прервано.
– Какая смерть ждет меня?
– Костер!
– О, я так и знала, я так и знала!
Она вскочила с места, как безумная вцепилась руками в волосы и начала судорожно рыдать, плакать, скорбеть, и она обращалась то к одному из нас, то к другому и с мольбой всматривалась в наши лица, как будто она надеялась найти в нас друзей и спасителей. Бедняжка, она сама никому не отказывала в дружбе и в помощи – даже раненому врагу на поле битвы.
– О, как жестоко со мной поступили! И неужели мое непорочное тело сегодня же сделается добычей огня и превратится в пепел? Ах, скорее согласилась бы я семь раз положить голову под секиру палача, чем быть обреченной на такую мучительную смерть! Когда я изъявила покорность, то мне обещали церковное заточение; и если бы меня отправили туда, а не оставили во власти моих врагов, то я спаслась бы от этой ужасной судьбы. О, я взываю к Господу, к Вечному Судье, – да узрит Он, как несправедливо поступили со мной!
Ни один из них не мог оставаться спокойным. Они отвернулись, слезы текли по их щекам. В одно мгновение я бросился на колени, к ногам Жанны. Она тотчас заметила опасность, которой я себя подвергал, и прошептала мне на ухо: «Вставай! Будь осторожнее, добрая душа! Ну вот… Да благословит тебя Господь на всю жизнь!» И я ощутил быстрое рукопожатие. Последняя человеческая рука, к которой Жанна прикоснулась перед смертью, была моя. Никто этого не видел; историки об этом не знают и не рассказывают, но я говорю вам святую правду. В следующее мгновение Жанна увидела приближающегося Кошона; она выступила вперед и, остановившись перед ним, сказала:
– Епископ, из-за вас я умираю.
Он не был пристыжен или взволнован, но ответил ей невозмутимо:
– Будь терпелива, Жанна. Ты умираешь, потому что, не сдержав обета, вернулась к своим прегрешениям.
– Горе мне! – сказала она. – Если бы вы отправили меня в церковную тюрьму и дали мне справедливых и благопристойных тюремщиц, как обещали, то ничего этого не случилось бы. И за это вам придется отвечать перед Богом!
Кошон не устоял, его спокойная самоуверенность несколько омрачилась, и, повернувшись, он покинул келью.
Некоторое время Жанна стояла, задумавшись. Она успокаивалась, но по временам еще вытирала глаза, и иногда рыдания снова потрясали ее тело; однако приступы отчаяния были уже не столь сильны и повторялись все реже и реже. Наконец, она подняла глаза и, увидев Пьера Мориса, который вошел одновременно с епископом, спросила у него:
– Мэтр Пьер, где я буду нынче вечером?
– Уповаешь ли ты на Бога?
– Да, и по милости Его я буду в раю.
Затем Мартен Ладвеню исповедал ее; она пожелала причаститься. Но как же можно приобщить Святых Даров человека, который всенародно отлучен от Церкви и в такой же степени лишен права участвовать в таинствах, как некрещеный язычник? Монах не решался сделать это и послал спросить у Кошона, как ему надлежит поступить. Но в глазах этого злодея все законы, Божественные и человеческие, были равны – он не уважал ни тех, ни других. Он приказал удовлетворить все желания Жанны. Последние ее слова, быть может, пробудили в нем страх, но они не могли проникнуть в его сердце, потому что сердца у него не было.